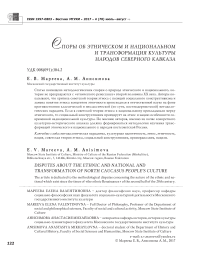Споры об этническом и национальном и трансформация культуры народов Северного Кавказа
Автор: Мареева Елена Валентиновна, Анисимова Анастасия Михайловна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 4 (78), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена методологическим спорам о природе этнического и национального, которые не прекращаются с «этнического ренессанса» второй половины ХХ века. Авторы показывают, что критика советской теории этноса с позиций социального конструктивизма и замена понятия этноса концептом этничности происходили в отечественной науке на фоне противостояния классической и неклассической (по сути, постмодернистской) методологических парадигм. Если в советской теории этноса к национальному прикладывали мерку этнического, то социальный конструктивизм проецирует на этнос и нацию особенности современной наднациональной культуры. По мнению авторов, именно на почве конкретного культурно-исторического анализа должна формироваться методология изучения трансформаций этнического и национального у народов постсоветской России.
Методологическая парадигма, культурная идентичность, этнос, этничность, нация, советская теория этноса, социальный конструктивизм, примордиализм, нацизм
Короткий адрес: https://sciup.org/144161094
IDR: 144161094 | УДК: 008(091):304.2
Текст научной статьи Споры об этническом и национальном и трансформация культуры народов Северного Кавказа
Не безудержное новаторство, а противоположный вектор – внимательное отношение к традициям – стало в XXI веке импульсом культурного и политического подъёма субъектов Российской Федерации как многонационального государства. Возможно ли объединение народов России как «нации наций»? Чтобы обсуждение подобных тем не оставалось на уровне пропагандистской фразы, мы вновь возвращаемся к традиционной проблеме – соотношению национального и этнического, без методологического анализа которой невозможна адекватная национальная политика, в отношении народов Северного Кавказа в том числе. При безусловной актуальности для Российской Федерации так называемого на-циестроительства, что нашло отражение в основополагающих официальных документах – «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (2012) и «Основы государственной культурной политики» (2014), очерченная выше проблематика нуждается в дальнейшей проработке.
Этнос и нация: различие подходов. Может показаться странным заявление философов МГУ о том, что понятия эт- носа, нации, национализма «до сих пор не получали полного теоретически выверенного содержательного определения в рамках социально-гуманитарных дисциплин, использовались методологически произвольно и зачастую получали явную или латентную идеологическую нагрузку [17, с. 19]». Такая мысль выглядит, по мнению академика В. А. Тишкова, как «полное недоразумение» на фоне активного обсуждения этой проблемы в этнографии XIX века, этнографических исследований в СССР, этнологии и культурной антропологии XX–XXI веков [13, с. 12]. И тем не менее место вполне определённой «теории этноса» в советской науке действительно уже четверть века занимает нечто достаточно мозаичное, что во многом связано с попыткой сочетать различные понятия из советских источников и концепты, заимствованные из западной науки XX века, а также представления, привнесённые из разных социальных, гуманитарных и даже естественных наук.
В результате некоторые философы и культурологи манипулируют понятиями «этнос», «этничность», «этнический массив», «кросс-этнические коалиции», «этнонации», «надэтничность» и «надна- циональность», не утруждая себя ясным определением этих понятий. «Этниче- ское» и «национальное» применительно к сознанию и соответствующей самоидентификации зачастую фигурируют как синонимы, идут через запятую, что свидетельствует о «размытости» этих понятий даже у специалистов [10]. Но для науки важно не столько обобщать, сколько различать. И потому мы ещё раз уточним различие между этносом и нацией, без чего трудно будет разобраться с метаморфозами этнокультуры на современном Северном Кавказе.
Начнём с того, что обыватели обычно связывают этническую принадлежность с «кровью». Недаром в разговорном языке существует слово «полукровка», имея в виду тех, кто родился в смешанном браке. В данном случае, сами того не ведая, люди подходят к себе подобным как к животным. У животных «полукровки» рождаются при смешении чистой и простой породы.
Таким образом, за словом «полукровка» применительно к человеку стоит методологический подход из области естествознания. А когда этническое не отделяют от национального, то выходит, что национальная принадлежность передаётся по наследству и выражается в строении тела, чертах лица и многом другом, связанном с врождёнными особенностями человека.
Здесь нужно провести первое принципиальное различие между методологическими парадигмами естественных и социально-гуманитарных наук. Если объяснять этнические различия генетикой – перед нами крайность биологиза-торской трактовки этноса. Согласимся с тем, что «концепция чистоты крови … представляет не что иное, как исторический миф … переоценка биологического критерия при установлении этноистори-ческой преемственности неправомерна, а её абсолютизация попросту реакционна как открывающая путь лишённому научной базы расизму [11, с. 11–12]».
Тем не менее старые мифы могут провоцироваться новыми успехами в развитии науки. И в этом свете особое внимание привлекает «этногеномика» [16]. Ведь уже в названии этой науки представлена интенция на отождествление этнического с генетическим. Но представление об этническом в генетике и меди- цине отражает лишь одну сторону дела, а суть этноса и его отличие от нации – предмет социально-гуманитарного знания. И потому, в свете будущих успехов генетики человека, понятие этнического в ней не должно быть двойственным, вливая новую «кровь» в старые мифы.
Сложность ситуации в том, что на уровне этноса мы имеем дело с аберрацией, когда культурное выглядит как биологическое. Аберрация – не субъективноличностная, а объективная видимость, в данном случае культурно-исторического происхождения. По этой причине тем, кто привык ориентироваться только на внешнюю сторону дела, легко связывать личностные и социальные проблемы с недостатками рода в его кровнородственной трактовке. Потому в социальных науках сохраняется симпатия к социал-дарвинизму, в котором двигатель социального прогресса – естественный отбор, открытый Ч. Дарвиным в животном мире. И то же касается сохраняющейся симпатии к евгенике в том негативном смысле, который имел в виду двоюродный брат Дарвина Ф. Гальтон, пропагандируя се-
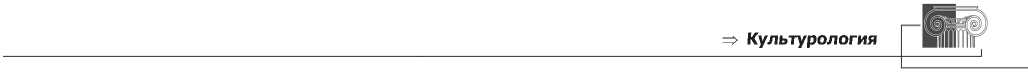
лекцию людей на фоне идеи врождённого превосходства англосаксов.
Но неприятие расизма и нацизма не повод впадать в другую крайность, когда как национальную, так и этническую принадлежность предлагают толковать как производные от личного выбора индивида. Гены или личный выбор – ложная дилемма в решении проблемы этнической принадлежности людей. И объяснительный принцип здесь нужно искать в истории человечества, где этносы возникли задолго до наций.
Этнографы XIX века, изучавшие племена Латинской Америки, Австралии и т.д., имели дело с этносами, которые консолидировала, прежде всего, кровнородственная связь. Но даже у дикарей природные различия уходят в основание трудовых функций и социальных ролей, закрепляемых этнокультурой.
Этнокультура имеет явно выраженные, зримые черты. И дикарь отличал «своего» от «чужого» в первую очередь по внешности . Но «своих» от «чужих» отличает не только цвет кожи, но и её раскраска, не только характер волос, но и причёска, а также бытовые привычки, наречия и многое другое. Природное единство здесь как бы «цементируется» культурой, когда её элементы трансформируют и «подменяют» природную связь в родовом коллективе. Об этом свидетельствует древний обряд братания через смешение крови, чтобы включить «чужака» в родовой коллектив.
Этническая культура изначально обращена к роду, а не к личности. Она формировалась стихийно, и в этом смысле её «автор» весь народ. Консолидирующую и одновременно этнодифференцирующую роль здесь играет культура, которая ещё не требует ни личных усилий, ни развитой индивидуальности. Такая культура, как отмечает В. М. Межуев, будучи до-письменной, передаётся в прямом общении и в устной форме. При этом «… обряды, обычаи, мифы, поверия, легенды, фольклор сохраняются и передаются в границах данной культуры посредством естественных способностей каждого человека, его памяти, устной речи и живого языка, природного музыкального слуха, органической пластики, что не требует никакой специальной подготовки и особых технических средств хранения и записи [9, с. 39]».
Историческая трансформация этноса шла в сторону перенесения акцента с кровного родства на этнокультуру. Сдвиг от непосредственного родства к этнокультуре, а в ней от материальнотелесных к духовным моментам по-своему фиксирует понятие народной культуры. Недаром многие современные националисты, в отличие от нацистов, пытаются представить в качестве основания нации уже не «кровь» и «почву», а язык, культ, обрядовость, то есть народную, а по существу – этническую культуру в её современном выражении.
Сводить национальное к этническому, как и этническое к генетическому, в методологическом плане есть редукционизм. Трансформация этносов, сплавляющихся внутри национального единства, получила своё завершение в Новое время в Европе. При этом важно иметь в виду, что развитие народа в нацию не механический и не природно-органический, а именно культурно-исторический процесс, в котором кровнородственная связь и этнокультура уходят в основание единства нации, консолидированной, прежде всего, национальной экономикой и национальным государством. Вспомним тезис Наполеона Бонапарта – «Одна нация – одно государство» – как основание концепта политической нации. Национальная духовная культура представлена уже не обрядами и фольклором, а высокой культурой как продуктом сознательного творчества интеллигенции. Здесь мы имеем дело уже не с наречиями, а с литературным языком, не с эпосом, а с художественной литературой. Национальная принадлежность, в отличие от этнической, подчеркивает В. М. Межуев, формируется через освоение особой национальной культуры, включая гражданское самосознание. Можно спорить о том, как передаётся национальная психология и национальный характер, но безусловно то, что воспитание и образование создаёт ту культурную почву, на которой происходит национальная самоидентификация личности [8, с. 316–317]».
От этноса к этничности. Понятно, что в рамках высокой культуры этнокультура может стилизоваться и имитироваться. Так или иначе, она влияет на высокую культуру, прежде всего – на литературу, музыку, изобразительное искусство, где интеллигенцией артикулируется национальное самосознание. Элементы этнокультуры могут превратиться в товар, что демонстрирует система туринду-стрии. Но всё это следует рассматривать конкретно – применительно к месту, времени, регионам и народам, которые проходят свою собственную эволюцию.
На этом моменте делает акцент И. В. Малыгина в своей концепции этнокультурной идентичности [6, с. 282]. Та форма этнокультурной идентичности, которая определяется автором как собственно
«этничность», не исчезает и не упраздняется в рамках гражданской нации. Этническое, добавим, выступает в данном случае как «этнический состав» нации и этническая принадлежность отдельных индивидов, а с другой стороны, элементы этнической культуры – обряды, фольклор и пр. – встраиваются в национальную культуру каждый раз особым образом. И. В. Малыгина отмечает «мно-гослойность структуры национальной идентичности», которая может проявляться «в самых разных актуальных формах – в зависимости от того, какой грани национальной целостности – политической, территориальной, языковой, конфессиональной или иной – угрожают деформация или разрушение [7]».
Сочетание пластов культуры, связанных с «идеей родства» в её мифологической, исторической, гражданской форме, подчёркивает автор концепции, носит «прецедентный характер», а значит, определяется теми конкретными обстоятельствами, в которых в данный момент пребывает нация [7]. Но культурноисторическая ситуация, которая актуализирует разные идентификационные основания, в концепции И. В. Малыгиной имеет вполне объективный характер, и это нужно подчеркнуть особо в свете того субъективизма и релятивизма, с позиций которого в наши дни ведётся критика советской теории этноса как одного из ва- риантов примордиализма.
Примордиализм (от лат. primordial – ‘изначальный’) исторически возник в середине ХХ века, когда американский социолог Э. Шилз ввёл в научный оборот понятие «примордиалистские связи» в качестве родственно-семейных уз, которые у антрополога и социолога К. Гирца превратились в основание этнического коллектива. В наиболее грубом варианте примордиализм означает, что сплачивающей силой в этносе является именно генетическое родство, которое внеисторически проецируется на последующее развитие человеческих коллективов. Но и те учения, в которых изначальной объединяющей силой коллектива оказывается не генетика, а образ жизни и социальные связи, в современной системе координат характеризуется как примор-диализм в силу их «эссенциалистского» характера. Именно на этом основании в качестве примордиализма стала фигурировать советская теория этноса, автором которой принято считать академика Ю. В. Бромлея [3, с. 413].
По понятным идеологическим причинам понятие этноса у Ю. В. Бромлея является производным от характеристики нации И. В. Сталиным, который определил её как «исторически сложившуюся устойчивую общность людей, возникшую на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющуюся в общности культуры [12, с. 296]». Но «территория», «психический склад», «язык», «культура» и прочее, будучи в этом определении рядоположенными, не позволяют говорить о способе взаимосвязи этих сторон в рамках этнического и национального единства, о диалектике в каждом из них объективного и субъективного, стихийного и сознательного.
Введённые Ю. В. Бромлеем дополнительные признаки этноса в виде самосознания и самоназвания (этнонима) не добавили этому понятию конкретности и историзма. Именно описательность и абстрактность указанных признаков не позволяли всерьёз разводить этнос и нацию. И хотя к 1960-м годам в советской литературе нацию обычно характеризовали как тип этноса, присущий классовому обществу, этот анализ, претендующий на марксистскую методологию, не доводился до всеобщих исторических оснований трансформации одного в другое. В этом смысле критику В. А. Тишковым уже в 1990-е годы бромлеевской парадигмы за проекцию на нацию характеристик этноса и игнорирование специфики национальной идентичности в современную эпоху можно признать правомерной.
Но у академика В. А. Тишкова и других пропагандистов социального конструктивизма в российской науке были и другие претензии к советской теории этноса, которые определялись постмодернистским отношением к марксизму и всей классической социальной науке, которая, по их убеждению, грешила тем, что исследовала «реально действующие группы людей» или «законы общественной жизни». Как писал в 1990-е годы академик В. А. Тишков, «наш подход не столь обременён установкой акцентировать субстанцию, то есть реальные группы [15, с. 7]». Речь, таким образом, шла о том, что нация и этнос – это не способ объединения людей, укоренённый в их жизнедеятельности и социальных связях, а тип их самосознания [19].
В рамках бромлеевской парадигмы, при всей её абстрактности, вопрос решался в пользу реальных связей – семейных, родовых, классовых и пр. Но с точки зрения социального конструктивизма, люди лишь верят в то, что связаны кровными узами, что у них одна культура и общее происхождение. На деле этнос и нацию «делает ощущение индивида своей при- надлежности к ним». А значит этногенез – это не естественно-исторический процесс формирования социальных коллективов, а процесс конструирования идей, которые сплачивают людей на уровне осознания их общности, что позволило Б. Андерсону в известной книге 1991 года ввести определение «воображаемые сообщества» [18].
Указанный методологический сдвиг проявил себя в нашей науке во множестве терминологических нововведений, и прежде всего в том, что, вслед за западными коллегами, вместо советского понятия «этнос» В. А. Тишков и его последователи стали использовать западный концепт «этничность». И этот вызов, который бросила «этничность» «этносу», был вписан в более фундаментальное противостояние постмодернистской и классической методологии в искусстве, философии и других социально-гуманитарных науках.
Формирование этноса в рамках конструктивистской парадигмы – это «воображение», «конструирование», а по-другому – «сборка» представлений, которые всегда «ситуативны», из чего и следует, как пишет В. А. Тишков, «ситуативная (релятивистская) природа этнической идентичности [14, с. 53]». Тем не менее, подобно столпам социального конструктивизма, В. А. Тишков и его последователи вынуждены признать, что привносимые в умы и сердца людей идеи изобретаются идеологами и политиками, исходя из определённых целей, и доставляются туда системой образования и СМИ. И в этом смысле этничность, признанная «целенаправленно культивируемой иллюзией», оказывается неотделима от политической и пропагандистской дея- тельности, в которой участвуют политические лидеры, журналисты и другие интеллектуалы, которые конструируют национальную культуру, изобретают традицию, распространяя затем национальное самосознание в народе.
В результате, избавившись от такой «эссенциалистской» опоры, как этническая община, теоретики социального конструктивизма были вынуждены опереться на столь же существенную опору в виде целей и задач государства и местных элит. «Гораздо чаще этнический фактор служит лидерам, а не лидеры служат этнической общности, – пишет В. А. Тишков. – Именно поэтому элиты изобретают и конструируют историко-культурную традицию, чтобы утвердить свои статус и легитимность [14, с. 71]».
Как мы видим, технология и цели этнической «сборки» оказываются в этой теории не такими уж произвольными. «Наконец, ключевую роль в конструировании этничности играет политика этнического предпринимательства, – читаем мы у академика В. А. Тишкова, – то есть мобилизация членов этнической группы на коллективные действия со стороны лидеров, которые преследуют политические цели, а не выражают культурную идеологию группы или “волю народа” [14, с. 53]».
Итак, позиция теоретиков социального конструктивизма заключается в том, что в умы людей следует профессионально внедрять идеи, которые служат целям политических лидеров и при этом принципиально отличны от «воли народа». Расхождение между «волей народа» и целями элит – принципиальный пункт рассматриваемой концепции этничности. И в данном случае становится вполне понятным неприятие «конструктивистами» советской теории этноса, в которой само собой разумелось, что политические лидеры выражают пресловутую «волю народа».
Пресловутой «воля народа» здесь названа потому, что отрицать её как основу государственной власти в демократическом обществе – дурной тон, но, с другой стороны, теоретическое обоснование её попрания в современных условиях дорогого стоит. И в этом смысле цинизм теоретиков социального конструктивизма превосходит даже идею «управляемой демократии», идущую ещё с начала ХХ века от Й. Шумпетера, в которой всё же не предполагается противоположность интересов политической элиты и «воли народа».
Особая тема – какое отношение указанная концепция этничности имеет к теории и практике «нациестроительства» в России. Здесь мы затрагиваем политические и экономические интересы определённых российских элит, а за спиной теоретических дискуссий оказывается борьба за власть не только над головами, но посредством их – над вполне конкретными ресурсами страны, в результате чего технологии сборки этнического сознания получают вполне «эссенциалист-ское» объяснение, связанное с вполне «приземлёнными» интересами тех, кто манипулирует сознанием и получает вполне материальные дивиденды от этих манипуляций, несмотря на стремление внедрить коллективную иллюзию о своих сугубо возвышенных целях.
Анализом того, как этническое сознание может стать мощной силой в политической мобилизации масс и организации социального контроля над ними, с середины прошлого века активно занималась социология власти и политическая антропология. Особый интерес к этой проблематике, как известно, был связан с «этническим ренессансом» 70-х годов ХХ века. И наиболее интересные разработки в этот период дали именно социологи и психологи, которые разбирались не столько в прошлом, сколько в настоящем и в тех трансформациях, которые происходили с этническим и национальным измерением культуры на фоне формирования постиндустриального общества.
Обратим внимание на оценку финским учёным Сеппо Лаллукки «этнического ренессанса» 1970-х годов, когда, казалось бы, устоявшиеся к тому времени представления о тенденции ассимиляции народов через технологию «плавильного котла», стали нуждаться в пересмотре. «Следствием нового положения, – пишет по этому поводу С. Лаллукка, – явилось растущее количество научных исследований. Возросшая активность создала настоящие концептуальные джунгли вокруг понятия этничности [5, с. 16]».
Именно в этих «джунглях» стало формироваться представление об изменении роли и места этнокультуры в рамках наднациональной реальности новой эпохи. Определить эту реальность как над-, сверх- или транснациональную общность – спорная тема в современной науке. Ясно, однако, что самоидентификация многих людей сегодня связана не с «кровью» или принадлежностью к нации-государству, а с причудливым сочетанием элементов этнической и национальной культуры на основе личного выбора, который базируется в том числе на образцах, предлагаемых или навя- зываемых СМИ, социальными сетями и другими атрибутами информационной цивилизации.
В странах «золотого миллиарда» налицо возрастание роли духовных и политических элит и их манипулятивных технологий. Понятно, что глобализационные процессы создают почву для вхождения народов в «наднациональное» состояние с соответствующей формой коллективной и индивидуальной самоидентификации. Именно в этих новых условиях становятся возможны такие парадоксы самоидентификации, когда субкультура осознаётся как аналог этнической группы и национального сообщества. «В российских переписях 2002 и 2010 годов в ответах на вопрос о национальности, – приводит пример В. А. Тишков, – встречались ответы “скифы”, “эльфы”, “толкиенисты” и им подобные. Во многих странах подобные “субкультуры” создавали отдельные поселения-коммуны, обретали официальный статус и некоторые исключительные права, участвовали в политике и в культурной жизни гражданских наций [4, с. 14]». Тем не менее, в свете этих новых явлений, нельзя считать, что все кошки серы и что любую социальную группу в современных условиях на основе самоидентификации можно причислить к этническим и национальным образованиям. При этом нельзя забывать, что граница между этносом и нацией при таком подходе тоже растворяется.
Наука, повторим ещё раз, сильна тем, что не смешивает, а различает, и поэтому не стоит погружать всё и вся в безразмерную, в силу её абстрактности, «этничность». Тем более что и сама история в форме глобализации не стирает этнические и национальные различия, а возрождает их в новом качестве. В этом смысле она вызывает интерес к элемен- там этнокультуры разных народов, и именно глобализация провоцирует формирование новых типов национальных сообществ.
Что касается социального конструктивизма, то он является как раз той методологией, которая отражает и выражает описанные процессы, и в этом плане она совсем не случайно возникает во второй половине ХХ века. Именно классический «эссенциалистский» взгляд на вещи позволяет видеть, что советское понятие этноса, как и его антипод – конструктивистский концепт «этничность», есть порождение своей эпохи. И если в советской теории этноса к национальному прикладывали мерку этнического, то в социальном конструктивизме действуют, по сути, наоборот, проецируя на этнос и нацию особенности современной наднациональной культуры, а именно – тех её тенденций, которые если и обозначились, то ещё не ясны итоги этих трансформаций.
Иначе говоря, социальный конструктивизм, претендующий на статус универсальной методологии, и советская теория этноса осуществляют две противоположные проекции. В советской науке на нацию смотрели через призму этноса, а сегодня склонны на этнос и этничность смотреть через призму наднациональной реальности. Но самосознание работников транснациональных корпораций и «креативного класса», дислоцирующегося в Силиконовой долине, не может быть ключом и объяснительным принципом для этнополитических конфликтов в регионах России. То же самое касается «этнического ренессанса», который пе- реживают в постсоветском пространстве народы Северного Кавказа. У этих народов, как и в других регионах нашей страны, остро стоит вопрос возрождения традиций. Но одно дело возрождение традиций, а другое – их изобретение. При всех вариантах политической манипуляции этой идеей, векторы здесь противоположные.
Можно предположить, как отнесутся аксакалы к тому, что с точки зрения самой «продвинутой» методологии возрождение традиций – это «восстановление старых культов в формате социальных игр». И в этом свете вряд ли можно признать однозначно продуктивным применение к проблеме национального самоопределения адыгов методологии «современного гуманитарного образования и культурологической науки», то есть идей Б. Андерсона, Ф. Барта, Э. Хобсбау-ма и других, что мы находим в достаточно интересной диссертации А. А. Ахметова «Национальное сознание адыгов в контексте культурно-исторических процессов [2]».
Возьмём хотя бы вопрос, сохраняется ли у адыгов примат «традиционной культурной идентичности по отношению к национальному сознанию». Здесь можно предположить, что этнокультура адыгов в свете глобализации и в контексте национального самоопределения обретает новые функции, как и меняется их идентичность. И тем не менее весьма проблематично то, что, как пишет автор диссертации, этнокультурная идентичность адыгов и их национальное сознание, европеизируясь, способны переходить «из повседневной практики отношений в виртуальный дискурс воображаемого сообщества [2, с. 10]».
«Но нас интересует то, что распространению понятия об этническом изначально способствовала его антитеза национальному, – читаем мы в другом месте этой работы. – Различие национального от этнического заключается в аспекте идентичности: в отличие от национальности, этнос является носителем не политического суверенитета, а культурного. Это отчасти семиотическая игра смыслов, но за ней стоит, на наш взгляд, вполне обоснованная попытка отразить историческую реальность [2, с. 70–71]».
Возьмём на себя смелость заявить, что «семиотическая игра смыслов» и «дискурс воображаемого сообщества», спроецированные на судьбы кабардинского народа, вряд ли помогают лучше понять прошлое этого народа и определиться с его будущим. И причина заключается в конфликте между методологическим аппаратом исследования и собственно эмпирическим материалом. В некоторых случаях автор диссертации становится в критическую позицию по отношению к популярным в западной социальной науке методологическим изыскам, но основные позитивные результаты этой работы получены не благодаря, а вопреки этой методологии.
В заключение затронем актуальную проблему интеграции народов Северного Кавказа в социокультурное пространство постсоветской России. Как отметил в своё время Р. Г. Абдулатипов, федерализм является наиболее удачной формой разрешения этнических конфликтов, но он же способствует росту этнического национализма [1, с. 313]. В наши дни сепаратисты без всяких «семантических игр» активно используют в качестве рычагов борьбы не только элементы этнокультуры, но и мусульманскую религию.
Что касается методологических вопросов, то в рамках современной этнополитологии идёт, хотя и не однозначный, теоретический поиск разрешения проти- воречия интеграции и дезинтеграции в таких многонациональных государствах, как Российская Федерация. Кризис российской государственности, который дал импульс националистическим движениям по всей России в 90-х годах ХХ века, во многом способствовал возрождению биологизаторской доктрины этноса, которая была противопоставлена советской теории этноса, наравне с социальным конструктивизмом. Возрождение интереса к этнокультуре, как с биологизатор- ских, так и с конструктивистских позиций, и в наши дни имеет мощную политическую подоплеку. И вне конкретного исторического контекста анализ соотношения этнического и национального будет тяготеть к словесной эквилибристике.
Список литературы Споры об этническом и национальном и трансформация культуры народов Северного Кавказа
- Абдулатипов Р.Г. Этнополитология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 020200 «Политология». Москва и др.: Питер, 2004. 313 с.
- Ахметов А.А. Национальное сознание адыгов в контексте культурно-исторических процессов: дис.. на соиск. учён. степ. кандидата культурологии: 24.00.01/Ахмедов Алим Артурович. Нальчик, 2014. 168 с.
- Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. Москва: Наука, 1983. 412 с.
- Культурная сложность современных наций/отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова; Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Москва: РОССПЭН, 2016. 384 с.
- Ааллукка С. Восточно-финские народы России: Анализ этнодемографических процессов/пер. с англ. Л.И. Леденевой, С.В. Голованова; Академия гуманитарных наук, Финляндское отделение, Институт России и Восточной Европы, Xельсинки, Финляндия. Изд. перераб. и доп. Санкт-Петербург: Европейский Дом, 1997. 390 с.