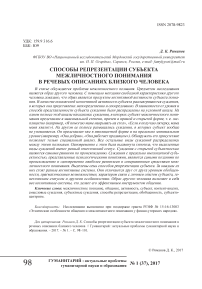Способы репрезентации субъекта межличностного понимания в речевых описаниях близкого человека
Автор: Романов Даниил Константинович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 1 (37), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статье обсуждается проблема межличностного познания. Предметом исследования является образ другого человека. С помощью методики свободной характеристики другого человека доказано, что образ является продуктом когнитивной активности субъекта познания. В качестве показателей когнитивной активности субъекта рассматриваются суждения, в которых она представлена: непосредственно и опосредованно. В зависимости от уровня и способа представленности субъекта суждения были распределены на условной шкале. На одном полюсе этой шкалы находились суждения, в которых субъект межличностного понимания представлен в максимальной степени, причем в прямой и открытой форме, т. е. эксплицитно (например, «Я помогаю маме накрывать на стол», «Если я получаю пятерку, мама меня хвалит»). На другом ее полюсе размещались суждения, в которых субъект вообще не упоминается. Он представлен там в имплицитной форме и на предельно минимальном уровне (например, «Она добрая», «Она работает продавцом»). Обнаружить его присутствие позволяет только специальный анализ. Все остальные виды суждений распределялись между этими полюсами. Одновременно с этим была выдвинута гипотеза, что выделенные виды суждений имеют разный генетический статус. Суждения с открытой субъектностью являются самыми ранними по происхождению. Суждения с предельно имплицитной субъектностью, представленные психологическими понятиями, являются самыми поздними по происхождению и одновременно наиболее развитыми и совершенными средствами межличностного понимания. Выделены семь способов репрезентации субъекта. За каждым из них стоят разные когнитивные системы. Они отличаются друг от друга уровнем обобщенности, прагматическими возможностями, характером связи с личным опытом субъекта, генетическим статусом и другими особенностями. Образ другого человека включает в себя все когнитивные системы, что делает его эффективным инструментом общения.
Межличностное познание, общение, активность, субъект, контент-анализ, смысловые суждения, субъектные суждения, способы репрезентации, обобщенность, субъектоцентризм
Короткий адрес: https://sciup.org/14720969
IDR: 14720969 | УДК: 159.9
Текст научной статьи Способы репрезентации субъекта межличностного понимания в речевых описаниях близкого человека
Одной из актуальных проблем современной психологии является проблема межличностного понимания [3; 10; 11]. Анализ литературы свидетельствует о широком спектре направлений ее исследования [1; 4; 7; 12]. К настоящему времени достаточно хорошо изучены основные феномены, функции, закономерности, механизмы, этнические особенности, технологии формирования и коррекции этого процесса. Однако не совсем понятной остается психологическая природа образа другого че- ловека: происхождение, структура, связь с практикой общения, связь с субъектом и др.
Субъектом межличностного познания является конкретный человек, включенный в реальные жизненные отношения с другим человеком. Он сам создает и использует его образ для решения соответствующих жизненных задач. Однако проблема активности субъекта межличностного познания, его роли в создании образа другого человека представляется недостаточно хорошо разработанной в психологии. Существу- ющие методические подходы не позволяют ответить на эти вопросы. Большой интерес здесь представляет субъектный подход в психологии [2; 5; 6]. Он претендует на решение или переосмысление многих фундаментальных проблем психологии. Основным предметом исследования здесь являются не отдельные психические процессы, состояния и свойства, а человек как активный субъект бытия, носитель и хозяин имеющихся у него психических процессов состояний и свойств. Важно подчеркнуть, что они существуют не сами по себе, не отдельно от него, а как неотъемлемые атрибуты субъекта и инструменты его бытия. Например, характеризуя человека как субъекта восприятия, В. А. Барабанщиков отмечает: «Реализуя широкий спектр отношений индивида со средой, человека с миром, субъект восприятия также выступает как сложное, многомерное целое, включающее в себя разнообразные качества и свойства: от задатков (например, порогов сенсорной чувствительности) и способностей восприятия (например, оценки пропорций или глазомера) до направленности личности (в частности, склонности художественного отражения действительности) и черт характера (восприимчивости к определенной информации, наблюдательности и т. п.). Каждое из них, в свою очередь, является многокомпонентным целым – функциональной подсистемой или органом субъекта» [2, с. 62]. Субъектная схема анализа является очень продуктивной для разработки и решения многих проблем психологии, в том числе проблемы межличностного понимания.
Основная задача нашего исследования – выявить когнитивную активность субъекта, факт его участия в процессе и результате познания другого человека: его практический опыт общения с познаваемым лицом, а более широко – совместного с ним бытия. Для ее решения мы использовали методику свободной характеристики человека в форме сочинения на тему «Моя мама» [9].
Испытуемые – младшие школьники, 100 человек.
Мы предположили, что если образ другого человека является продуктом познавательных действий субъекта (внешних и внутренних), то они должны быть в какой-то форме представлены в его речевых описаниях. Как отмечает В. В. Знаков, «любое понимание всегда включает в себя самопонимание» [6, с. 382]. Поэтому основной единицей кон-тент-анализа мы выделили так называемые субъектные суждения, в которых в той или иной форме представлен субъект межличностного познания: его социальные воздействия, поступки, жизненные ситуации, психические состояния, желания, жизненные трудности, интересы и др. Например, «Мама провожает меня в школу», «Когда у меня не получается задача по математике, мама приходит мне на помощь», «Я боюсь огорчить маму» и т. п. Такие суждения говорят о том, что характеризуя другого человека, субъект одновременно характеризует и самого себя. Одна из основных эмпирических задач нашего исследования заключается в том, чтобы выявить все способы репрезентации субъекта межличностного познания и соответственно все способы репрезентации познаваемого лица. Те и другие тесно связаны. Репрезентируя другого человека, субъект одновременно репрезентирует и самого себя, а репрезентируя себя, он репрезентирует и другого. Это хорошо представлено в приведенных примерах суждений. Каждое из них состоит из двух частей: субъектной (характеризующей субъекта) и объектной (характеризующей другого человека – «объекта» познания). Причем важно подчеркнуть, что они настолько взаимосвязаны, что отделить их друг от друга просто невозможно.
Анализ показал, что любая речевая характеристика человека в той или иной форме содержит субъектность, т. е. отражает субъекта познания. Можно сказать, что элементы субъектности содержатся в каждом суждении. Для распределения суждений по группам мы воспользовались классификацией К. М. Романова. В зависимости от формы представленности субъекта в речевых описаниях другого человека он выделил семь видов суждений. В зависимости от уровня и способа представленности субъекта они были распределены на условной шкале. На одном полюсе этой шкалы находились суждения, в которых субъект межличностного понимания представлен в максимальной степени, причем в прямой и открытой форме, т. е. эксплицитно, например «Я помогаю маме накрывать на стол», «Если я получаю пятерку, мама меня хвалит». В эту группу были также отнесены суждения, в которых субъект говорит только о себе, а познаваемый человек только подразумевается. На другом ее полюсе размещались суждения, в которых субъект вообще не упоминается. Он представлен там в имплицитной форме и на предельно минимальном уровне, например «Она добрая», «Она работает продавцом». Обнаружить его присутствие позволяет только специальный анализ. Все остальные виды суждений распределялись между этими полюсами. Одновременно с этим была выдвинута гипотеза, что выделенные виды суждений имеют разный генетический статус. Суждения с открытой субъектностью являются самыми ранними по происхождению. Суждения с предельно имплицитной субъектностью, представленные психологическими понятиями, являются самыми поздними по происхождению и одновременно наиболее развитыми и совершенными средствами межличностного понимания.
В результате анализа речевых описаний испытуемыми своей мамы было выделены 7 групп смысловых суждений. Они отличаются друг от друга способом репрезентации субъекта. Рассмотрим их более детально.
-
1. Суждения, в которых другой человек (мама) представлен непосредственно через субъекта познания: его действия, жесты, мимику, мысли, сомнения, эмоции и др. Например: «Я помогаю маме», «Мама провожа-
- ет меня в школу», «Моя мама – красивая» и т. п. В данном случае образ мамы может быть понят лишь в контексте конкретных поведенческих актов субъекта, которые и несут здесь главную когнитивную нагрузку. За суждениями этой группы стоит генетически ранняя форма познания другого человека – познание межличностным (межсубъектным) воздействием (содействием). При отсутствии других более совершенных когнитивных систем ребенок ориентируется в других людях исключительно практически. Акты реального общения (обращения, капризы, просьбы, обиды, затруднения в чем-либо и другие жизненные отправления) выступают для него одновременно и в качестве исходных когнитивных единиц и конструктивных элементов образа другого человека. Иначе говоря, он представляет других людей не в понятиях и не в чувственных образах, а в способах обращения с ними. Представленный в суждениях этой группы способ репрезентации другого человека называется субъектным. В данной группе суждений субъект познания репрезентирует себя непосредственно. Более того, в них часто делается акцент не на характеризуемого человека, а на самого субъекта.
-
2. Суждения, в которых другой человек представлен через общность «Мы», которая включает в себя двух субъектов: познающего и познаваемого. Например, «Мы с мамой ходим в магазин», «Мы часто разговариваем по телефону», «Мы дарим друг другу подарки» и др. В данном варианте субъект как бы растворен в общности «Мы», но он участвует в познавательном процессе через свои практические межличностные воздействия
-
3. Суждения, в которых другой человек представлен через третье лицо: его воздействия по отношению к познаваемому человеку (мамы). Например: «Мама часто помогает своей подруге», «Моя сестра один раз поздно вечером ушла, и у нее (мамы) разболелась голова», «Учительница сказала маме, что я хорошо отвечала на уроке». Соответствующий контекст просто органически входит в образ мамы. Можно сказать, что он (образ мамы) сконструирован субъектом познания (ребенком) на основе конкретного опыта общения с ней третьего лица. В данном случае субъект познания (ребенок) выступает уже как внешний наблюдатель, но он мог бы быть (или уже был или будет когда-то) на месте третьего лица. Например,
-
4. Суждения, в которых другой человек представлен через небольшую социальную группу: семью, друзей, одноклассников и т. п. Например: «В семье ее (маму) любят», «На работе подруги помогают ей (маме)», «Во дворе дети любят с ней (мамой) играть» и др. В данном случае мама представлена в контексте способов общения с ней группового субъекта. Причем этот контекст настолько органично входит в ее образ, что маму нельзя представить вне его. Субъект познания выступает здесь как внешний наблюдатель, созерцающий другого человека в контексте группы. Однако он (субъект) может быть (был или мог бы быть) членом этой социальной группы и уже имеет аналогичный опыт общения с познаваемым лицом (мамой). В ином случае ему были бы непонятны ни субъектный контекст, ни познаваемое лицо и его поведение. Именно поэтому он и представлен здесь как субъект. В суждениях этой группы «объект» познания представлен еще более объективно и обобщенно. В них содержится опыт не только одного или двух лиц, а социальной группы. Его можно транслировать и на более широкий социальный контекст. Им может воспользоваться целая группа людей, а значит и каждый ее член, в том числе и субъект познания, если он входит в эту группу. Например, из суждения «Во дворе дети любят с ней (мамой) играть» следует, что каждый ребенок, включая субъекта, может рассчитывать на то, что мама поиграет с ним. Вместе с тем, надо подчеркнуть, что обобщенный групповой опыт утрачивает конкретность и личностную ориентированность. Каждый член группы, включая субъекта, остается индивидуальностью. Он имеет собственный индивидуально неповторимый опыт общения с познаваемым лицом. Именно поэтому он может рассчитывать на групповой опыт только в той мере, в какой он утрачивает свою ин-
- дивидуальность. Для решения собственных задач при общении с данным человеком он должен дополнить групповой опыт личным. Прагматические возможности группового опыта общения и познания другого человека являются обезличенными, деиндивидуализи-рованными и не очень конкретными.
-
5. Суждения, в которых другой человек представлен через предельно широкую группу, включающую в себя всех людей вообще. Например: «Все дружат с ней», «Она извиняется перед всеми», «Она доверяет всем» и др. Человек здесь представлен в контексте обобщенного опыта общения с ним предельно большого группового субъекта. Он является необходимым элементом образа, без которого невозможно представить характеризуемого человека. В данных суждениях субъект представлен очень опосредованно, поскольку он является частью всего человечества и сам имеет аналогичный опыт общения с соответствующим человеком или кем-то еще. Именно на этом основании он выступает здесь как субъект познания. Например, на основе суждения «Она доверяет всем» субъект с полным правом может утверждать, что она доверяет и ему. В суждениях этой группы «объект» познания представлен еще более объективно и обобщенно. В них заключен опыт предельно широкой социальной группы. Поэтому им вправе воспользоваться любой человек. Однако представленный в этих суждениях опыт общения в еще большей степени обезличен, деинди-видуализирован и неконкретен. Следовательно, он обладает значительно меньшими прагматическими возможностями, чем опыт, представленный в суждениях третьей, четвертой и уж тем более первой групп. Для того чтобы воспользоваться им, субъекту придется дополнить его содержание опытом личного общения с данным человеком в тех или иных жизненных ситуациях. Тем самым он (групповой опыт) будет привязан к индивидуальным особенностям конкретного субъекта. Только в этом случае он может
-
6. Суждения, в которых другой человек («объект» познания) представлен через социальную роль или обобщенную жизненную ситуацию. Например, «Она работает в школе», «Она ходит на работу», «По вечерам мама смотрит телевизор» и др. Жизненные ситуации и социальные роли так или иначе имеют социальное происхождение, т. е. за ними всегда стоят люди. Субъект в подобных суждениях представлен постольку, поскольку он социальное существо. Однако он представлен здесь не просто имплицитно, но и опосредованно – через социальную ситуацию или роль. В суждениях этой группы содержится очень обобщенный социальный опыт общения и познания человека, которым располагает и субъект познания. Как и в предшествующей группе суждений, этот опыт максимально обезличен, деиндивидуализирован и неконкретен. Он адресован практически любому человеку, но в силу указанных выше недостатков, им нельзя непосредственно воспользоваться для решения конкретных жизненных задач, тем более, что их круг предельно широк. Например, из того, что некий человек работает в школе, не следует, что конкретный субъект может обратиться к нему за консультацией по вопросам правописания окончаний в каких-то словах. Прагматические возможности такого обобщенного опыта предельно ограничены. Для того чтобы воспользоваться им, субъекту необходимо вступить с соответствующим человеком в личное общение и обрести собственный опыт. В результате этого обобщенный, абстрактный и обезличенный опыт становится конкретным и индивидуально-личностным. Одновременно повышается его прагматический потенциал.
-
7. Суждения, в которых другой человек представлен вне всякого субъектного контекста и вне ситуации. Например: «Ласковая», «Добрая», «Хорошая» и др. В данном случае субъект познания представлен в предельно скрытой (имплицитной) форме. Он здесь только подразумевается, т. е. выступает как возможное лицо, в отношении которого или при соучастии которого могут актуализироваться те или иные личностные свойства другого человека. В суждениях этой группы «объект» познания представлен предельно объективно и обобщенно с помощью соответствующих психологических понятий. Такой способ репрезентации другого человека имеет предельно широкую социальную адресность. Представленным в этих понятиях опытом может воспользоваться любой субъект для решения очень широкого круга жизненных задач, требующих общения с соответствующим человеком. Однако он (опыт) является предельно обобщенным, абстрактным и обезличенным, что затрудняет возможность непосредственно использовать его для решения конкретных жизненных задач. Например, из того, что некоторый человек ласковый, не следует, что на его ласки может рассчитывать любой человек вообще. Иначе говоря, такой опыт имеет весьма ограниченные прагматические возможности. Для того чтобы расширить их, субъект должен получить опыт личного общения с соответствующим лицом, а значит – конкретизировать и индивидуализировать его, т. е. превратить в надежный инструмент решения личных жизненных задач.
Характерной чертой суждений этой группы является то, что они в более или менее чистом виде отражают опыт личного общения субъекта с познаваемым человеком. В большинстве случаев он привязан к личностно значимым для субъекта конкретным жизненным ситуациям. Для младших школьников данный опыт связан с учебной деятельностью, игрой, досугом. Уровень его обобщенности не выходит за рамки личного опыта. Например, если младший школьник указывает, что его мама помогает ему делать уроки, то из этого не следует, что она то же самое делает (или могла бы делать) и в отношение других детей. И уж тем более, из этого суждения не следует, что его мама добрый и отзывчивый человек, хотя самому субъекту (ребенку) может и казаться это (и, как будет показано в дальнейшем, подоб- ная эгоцентрическая позиция типична для детей). Важно также подчеркнуть, что этот опыт предназначен только для субъекта, для решения именно его жизненных задач. Он предписывает субъекту, что ему следует делать и как вести себя с другим человеком в той или иной конкретной жизненной ситуации. В данном случае ребенок вполне закономерно может ждать от своей мамы помощи в решении какой-либо учебной задачи или обратиться к ней с соответствующей просьбой. Однако этим опытом вряд ли мог бы воспользоваться кто-то другой. Поскольку отражаемый в суждениях этой группы конкретный опыт личного общения субъекта с познаваемым человеком привязан к конкретным жизненным ситуациям, он обладает максимальными прагматическими возможностями. Он предназначен для регуляции общения субъекта с другим человеком в соответствующих жизненных ситуациях.
Перейдем к анализу остальных групп суждений. Они отличаются от суждений первой группы тем, что в них нет субъектной части (субъектного контекста). «Объект» познания репрезентируется через общность «Мы», через 3-е лицо, через социальную группу, через предельно большую социальную группу, через социальную ситуацию (социальную роль), вне какого-либо контекста (с помощью психологических понятий). Но это не значит, что в них не представлен субъект познания. Он представлен здесь в имплицитной форме. Однако степень этой имплицитности неодинакова. Рассмотрим эти группы суждений более подробно.
и подразумевает себя в таком качестве. Такие суждения можно было бы «развернуть» и эксплицировать участников этой общности: ребенка и маму. Например, первое суждение можно представить так: «Я с мамой хожу в магазин» или «Мама со мной ходит в магазин». В такой форме эти суждения ничем не отличаются от суждений первой группы. В них отражается опыт личного общения субъекта с познаваемым лицом. Он приурочен к конкретным личностно значимым жизненным ситуациям, которые связывают его с другим человеком (в данном случае – мамой). Для младших школьников он ограничен учебной деятельностью, игрой, бытом, досугом. Уровень обобщенности этого опыта минимален. Это означает, что его нельзя вынести за рамки соответствующих жизненных ситуаций или транслировать на других людей (за исключением второго члена общности «Мы»). Он предназначен только для членов этой маленькой общности и, прежде всего, для самого субъекта. Поскольку этот опыт общения привязан к конкретным жизненным ситуациям, он также обладает большими прагматическими возможностями, т. е. предписывает как надо вести себя субъекту по отношению к соответствующему человеку в тех или иных ситуациях.
в первом суждении на месте подруги наверняка был и остается сам ребенок – субъект познания. Это значит, что в таких суждениях в скрытой (имплицитной) форме содержится практический опыт общения субъекта познания с познаваемым лицом. Иначе он не смог бы понять смысл субъектного контекста и поведения познаваемого лица. Следует подчеркнуть, что суждения этой группы отличаются от суждений первой и второй групп тем, что познаваемое лицо представлено в них более объективно и обобщенно, поскольку субъект здесь выходит за рамки личного практического опыта общения и добавляет к нему опыт третьего лица. Например, на основе суждения «Мама помогает своей подруге» можно вполне закономерно предположить, что мама помогает и другим подругам и, может быть, даже не только подругам. Подобное предположение менее закономерно на основе суждения «Мама часто помогает мне», поскольку здесь представлен только сугубо личный опыт субъекта. Однако практический опыт, представленный в суждениях этой группы принадлежит преимущественно не субъекту познания, а третьему лицу. Поэтому и полезен он может быть, прежде всего, именно ему. Без всякого сомнения, он может воспользоваться этим опытом для решения конкретных жизненных задач. Так, из приведенного выше примера «Мама помогает своей подруге» следует, что именно подруга может обратиться к маме за помощью. В этом плане подобный опыт общения обладает огромными прагматическими возможностями. Но его нельзя с такой же вероятностью распространять на субъекта, или каких-то других лиц. Они не могут в такой же мере рассчитывать на чужой опыт. Для того чтобы обрести полную уверенность, они должны проверить практически, т. е. получить в конечном счете собственный опыт. Это означает, что представленный в субъектных суждениях (суждениях первой группы) личный опыт общения субъекта с познаваемым человеком является очень важ- ным. Без него невозможно построить эффективное общение с другим человеком. В том случае, если этого опыта нет, то его нужно получить.
служить надежным инструментом общения с соответствующим человеком. Это еще раз говорит о том, насколько важен для полноценного понимания другого человека представленный в субъектных суждениях опыт личного общения с ним субъекта.
Сравнительный анализ показывает, что выделенные группы суждений отличаются друг от друга способом репрезентации субъекта и «объекта» межличностного познания, уровнем и формой их представленности, соотношением «субъектной» и «объектной» частей, прагматическим потенциалом представленной в них психологической информации, уровнем ее соотнесенности с субъектом, уровнем субъективности, широтой пользова- теля, пространством применения, уровнем обобщенности и генетическим статусом.
В первой группе суждений субъект представлен максимально открыто и непосредственно, в следующих вариантах – во все более скрытой и опосредствованной форме, в последней группе – максимально скрыто (имплицитно). Если говорить об «объекте» познания, то там все выглядит наоборот. В первой группе суждений он представлен либо в имплицитной форме (подразумевается), либо в единстве и соотношении с субъектом познания. Во всех остальных группах суждений – в той или иной степени автономно от субъекта, но в каком-то контексте. Во второй группе – в контексте общности «Мы», в третьей группе – в контексте третьего лица, в четвертой группе – в контексте малой социальной группы, в пятой группе – в контексте предельно большой социальной группы, в шестой группе – в контексте социальной ситуации или роли. Только в седьмой группе он представлен вне всякого контекста. Он здесь только подразумевается.
Таким образом, получается, что уровень представленности в суждениях о другом человеке субъекта познания находится в обратно пропорциональной связи с уровнем представленности «объекта» познания. Если анализировать данную закономерность, то нетрудно прийти к следующим выводам.
-
1. В любом суждении о другом человеке в той или иной степени представлен как субъект, так и «объект» познания.
-
2. Чем больше в суждении представлен «объект» познания, тем меньше в нем представлен субъект познания и наоборот, чем больше представлен субъект познания, тем меньше представлен «объект» познания.
-
3. Представленность в суждении «объекта» познания не может быть абсолютной. В какой-то минимальной степени оно всегда содержит элементы субъекта познания.
-
4. Представленность в суждении субъекта познания не может быть абсолютной. В какой-то минимальной степени оно
всегда содержит элементы «объекта» познания.
Психологическая информация о другом человеке, содержащаяся в суждениях первой группы обладает максимальным прагматическим потенциалом, т. е. ее можно использовать для решения конкретных практических задач. По мере движения от первой группы суждений к последней уровень прагматических возможностей содержащийся в них информации падает. Она является слишком обобщенной, абстрактной и неприспособленной для прямого практического использования.
Психологическая информация, содержащаяся в суждениях разных групп, характеризуется разным уровнем соотнесенности с субъектом, т. е. тем, насколько она привязана к личному жизненному опыту субъекта, приспособлена лично для него и удобна для его личного использования. Это ее свойство можно назвать субъектностью. Чем ближе она к личному жизненному опыту субъекта, удобнее и приспособленнее к его индивидуальным особенностям, тем выше уровень ее субъектности. Максимально высоким уровнем субъектности обладает психологическая информация, содержащаяся в суждениях первой группы. Фактически она воспроизводит конкретный и не переработанный личный опыт общения субъекта с познаваемым лицом. Оказываясь в знакомых жизненных ситуациях общения с познаваемым лицом, субъект просто актуализирует имеющиеся у него конкретные схемы поведения. Вместе с тем эта информация имеет предельно ограниченное количество ее возможных пользователей. Реально им является всего один человек – сам субъект. Возможности других людей – потенциальных пользователей, здесь очень ограничены. Для них эта информация не вполне достоверна, или совсем не достоверна. По мере движения от первой группы суждений к последней уровень субъектности содержащейся в них психологической информации постепенно падает до минимума. Другими словами, она становится все менее и менее приспособленной для конкретных нужд субъекта межличностного познания. Всякий раз он должен проверять ее и дополнять личным опытом общения с данным человеком, т. е. приспосабливать к себе. Вместе с тем по мере движения от первой группы суждений к последней расширяется количество ее потенциальных пользователей. Во второй группе количество пользователей ограничено общностью «Мы» («субъектом» и «объектом» познания), в третей группе – третьим лицом и субъектом, в четвертой группе – малой социальной группой, в пятой группе – большой социальной группой, в шестой и седьмой группе – всеми людьми.
Суждения разных групп отличаются уровнем субъективности. Он максимален в суждениях первой группы, поскольку речь идет о личном субъективном опыте человека. Совершенно естественно, что он является очень пристрастным и далеко не всегда может соответствовать реальности, хотя сам субъект может и не сомневаться в его истинности. Важно то, что этот опыт устраивает субъекта, т. е. позволяет ему решать определенные жизненные задачи. По мере движения от первой группы суждений к последней уровень их субъективности уменьшается до предела, т. е. они становятся более объективными. Это характерно для психологических понятий, в которых воплощен предельно широкий социальный опыт.
Психологическая информация, содержащаяся в суждениях разных групп различается по широте пространства возможного применения. В этом отношении наиболее ограничено оно для информации, содержащейся в суждениях первой группы. Она предназначена для решения очень конкретных задач. По мере движения от суждений первой группы к последней, пространство применения соответствующей психологической информации расширяется до максимума.
Суждения разных групп отличаются уровнем обобщенности. Он минимален для суждений первой группы. В них представлен конкретный опыт общения конкретного субъекта с каким-то человеком в конкретных жизненных ситуациях. Переносить его на другие жизненные ситуации нельзя. По мере движения от первой группы суждений к последней, происходит повышение уровня их обобщенности до предела. Максимален он у психологических понятий. Поэтому содержащаяся в них информация может использоваться для решения очень широкого (но не беспредельного) круга психологических задач. Здесь важно, чтобы они соответствовали психологической сущности понятий. Вместе с тем по мере движения от первой группы суждений к последней, снижается уровень их конкретности. Это затрудняет использование содержащейся в них психологической информации для решения конкретных задач, связанных с общением с каким-то человеком. Необходимым условием этого является владение соответствующими понятиями.
Суждения разных групп и соответствующее им отражение другого человека отличаются генетическим статусом. Наиболее ранними из них по происхождению являют- ся суждения первой группы, отражающие конкретный практический опыт общения конкретного субъекта с другим человеком. Он представлен здесь в непосредственном и почти не переработанном виде. Например, «Я с мамой ходил в лес за грибами», «Мама успокаивала меня, когда я проиграл на соревнованиях» и т. д. Кроме того, он отличается максимальной субъективностью. По мере движения от первой группы суждений к последней повышается их генетический статус. Наиболее поздними по происхождению являются психологические понятия. В них воплощен предельно широкий по содержанию и социальному контексту опыт, «очищенный» от конкретики жизненных ситуаций и индивидуальных особенностей субъекта познания. Именно поэтому психологическими понятиями (как, впрочем, и любыми другими) и соответственно вербальным мышлением, дети овладевают сравнительно поздно [12].
Перейдем к анализу количественных результатов проведенного исследования (табл. 1).
Как следует из табл. 1, всего в ответах младших школьников было выявлено 1 471 суждение. В среднем каждый ребенок использовал для характеристики 14,71 суж-
Таблица 1
Количественное распределение суждений по группам (младшие школьники) / Quantitative distribution of colocations by groups (junior students)
|
№ |
Группа суждений |
Всего |
Среднее значение |
% |
|
1 |
Через субъекта («Я») / Through the subject (“Myself”) |
748 |
7,48 |
51,03 |
|
2 |
Через общность «Мы» / Through the community “We” |
83 |
0,83 |
5,49 |
|
3 |
Через 3-е лицо / Through the 3-d person |
31 |
0,31 |
2,03 |
|
4 |
Через социальную группу / Through the social group |
8 |
0,08 |
0,48 |
|
5 |
Через всех людей / Through the whole people |
17 |
0,17 |
1,02 |
|
6 |
Через социальную ситуацию (роль) / Through the the social situation (character) |
53 |
0,53 |
3,61 |
|
7 |
Через понятия (вне социального контекста) / Through the concept (Through the concept of (out of the social context)) |
531 |
5,31 |
36,34 |
|
Всего / Equal |
1 471 |
14,71 |
100 |
дения. Эта величина является средним показателем когнитивной сложности. Однако представленность в целостной речевой характеристике другого человека суждений разных групп неодинакова.
Анализ показал, что категория суждений с открытой субъектностью в данном возрасте является ведущей – 51,03 %. В абсолютном выражении это составляет 748 суждений (т. е. больше половины), или в среднем 7,48 единицы на одного ребенка. Еще раз подчеркнем, что это выглядит очень странным, на первый взгляд, поскольку от детей требовали описания мамы, а не их самих. Получается, что они не могут характеризовать другого человека иначе, как через самого себя. Они представляют конкретное поведение другого человека в контексте собственного конкретного поведения. Это типично детский способ репрезентации другого человека. Данный способ репрезентации очень субъектоцентричен, он предназначен только субъекту познания, им очень трудно было бы пользоваться другим людям. Подобный способ репрезентации является абсолютно индивидуальным. Именно поэтому ребенок рано или поздно должен отказаться от него и перейти на децентрированные способы репрезентации. Иначе ребенку трудно будет общаться с другими людьми и рассчитывать на взаимопонимание. Для того чтобы доказать это, требуется провести аналогичное исследование в более старшей возрастной группе.
В следующей категории суждений субъект представлен через общность «Мы». Эта группа насчитывает 83 суждения (5,49 %), что в среднем составляет 0,83 суждения. В общей структуре речевой характеристики суждения этой группы занимают третье место.
В третьей группе суждений субъект представлен опосредованно, через другого человека (через 3-е лицо). В этой группе было зафиксировано 31 суждение, что в среднем составляет 0,31. В процентном отношении этот показатель составляет 2,03. В структуре целостной характеристики суждения этой группы занимают пятое место.
Группа суждений, в которых субъект представлен опосредованно через социальную группу, насчитывает только 8 единиц (0,48 %). В среднем, это составляет 0,08 суждения на одного человека. В структуре целостной характеристики эта группа суждений занимает последнее место.
Следующую категорию образуют суждения, где субъект представляется через предельно широкую социальную группу (через всех людей). В этой группе было зафиксировано 17 суждений (1,02 %), что в среднем составляет 0,17 на одного ребенка. В структуре целостной характеристики эта группа суждений занимает шестое место.
Группа суждений, в которой субъект представлен через социальную роль или жизненную ситуацию, составляет 53 смысловые единицы (3,61 %). В среднем это составляет 0,53 суждения на одного человека. В структуре целостной речевой характеристики суждения данной группы занимают четвертое место.
Последнюю категорию образуют полностью «объектные» суждения, в которых субъект представлен в предельно имплицитной форме. Таких суждений насчитывается 531 (36,34 %). В среднем это составляет 5,31 суждения. По уровню представленности в целостной характеристике суждения этой группы занимают второе место.
Как видим, в данной возрастной группе в структуре образа мамы представлены все способы репрезентации субъекта познания и познаваемого лица. Это говорит о том, что образ является гетерогенным, т. е. он имеет разноуровневую по генетическому статусу и форме организации. Он совмещает в себе достоинства и недостатки каждого способа репрезентации. Это делает образ эффективным психологическим инструментом ориентации субъекта в других людях и регуляции способов общения с ними.
Факт представленности субъекта в образе другого человека в эксплицитной или имплицитной форме нельзя назвать случайным. Он свидетельствует о том, что образ конструиру- ется самим субъектом и для самого субъекта. Образ является продуктом его познавательных действий, причем не только внутренних (психических), но и внешних (практических). Любой конкретный акт общения ребенка с мамой (обращение за помощью, телефонный звонок, школьная оценка, задержка на прогулке и т. д.) выполняет не только функцию воздействия на нее (маму), но и функцию познания ее. Этот конкретный опыт общения ребенка с мамой и составляет содержание наиболее раннего по происхождению способа познания другого человека, представленного суждениями первой группы. Скорее всего, он является базовым для развития всех других способов межличностного познания, представленных суждениями всех остальных групп, где субъект представлен не эксплицитно, а имплицитно. При конструировании образа другого человека субъект познания выступает в качестве исходной координаты, относительно которой выстраиваются все его элементы и уровни. Соответствующее свойство образа другого человека мы назвали субъектоцен-тризмом. Субъектоцентризм следует отличать от эгоцентризма. Эгоцентризм выражается в неспособности субъекта понять факт субъектоцентризма своего представления о другом человеке [8; 10]. Именно поэтому он склонен абсолютизировать свой собственный образ другого человека и транслировать его на других субъектов межличностного познания.
Список литературы Способы репрезентации субъекта межличностного понимания в речевых описаниях близкого человека
- Алаева М. В., Романов К. М., Осипова И. С. Выражение и понимание психического состояния как элемент психологической культуры личности/Мордов. гос. пед. ин-т. -Саранск, 2015. -102 с.
- Барабанщиков В. А. Субъект восприятия//Антология современной психологии конца XX века: материалы конф. «Психология созидания»/отв. ред. Р. В. Габдреев. -Казань: КГТУ им А. Н. Туполева, Российское психологическое общество, 2001. -С. 58-68.
- Бодалев А. А. Проблема познания людьми друг друга в отечественной психологии//Психология общения: энцикл. слов./под общ. ред. А. А. Бодалева. -2-е изд. -М.: Когито-центр, 2015. -С. 29-31.
- Блинова Е. Е. Роль социальных стереотипов в формировании профессионального сознания будущих педагогов//Актуальные проблемы психологии развития личности. -Гродно: ГрГУ, 2014. -С. 36-42.
- Волочков А. А. Категория активности в психологии субъекта бытия//Субъектный подход в психологии/под ред. А. Л. Журавлева, В. В. Знакова, З. И. Рябикиной, Е. А. Сергиенко. -М.: Ин-т психологии РАН, 2009. -С. 239-255.
- Знаков В. В. Субъект-субъектный и субъект-объектный типы понимания высказываний в межличностном общении//Психология индивидуального и группового субъекта/под ред. А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой. -М.: ПЕР СЭ, 2002. -С. 144-160.
- Куницына В. Н. Социальная компетентность//Психология общения: энцикл. слов./под общ. ред. А. А. Бодалева. -2-е изд. -М.: Когито-центр, 2015. -С. 102.
- Пашукова Т. И. Эгоцентризм: феноменология, закономерности формирования и коррекции. -Кировоград: Центрально-Украин. изд-во, 2001. -340 с.
- Романов Д. К. Активность субъекта как основное условие познания другого человека//Актуальные проблемы психологии общения: сб. науч. ст./ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Л. М. Даукша . -Гродно: ГрГУ, 2011. -С. 82-90.
- Романов К. М. Психологическая культура личности. -М.: Когито-Центр, 2015. -314 с.
- Idem К. The phenomenon of social representations//Social representations: explorations in social psychology. S. Moscovici/еd. by G. Duveen. -New York, 2013. -256 р.
- Tanaka J. W., Farah J. A. The holistic representation of face//Perception of Face, objekts and Scenes. M. A. Peterson, G. Rhodes (eds.). -Oxford: Oxford University Press, 2003. -P. 583-592.