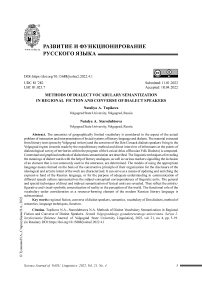Способы семантизации диалектной лексики в региональной художественной прозе и устной речи диалектоносителей
Автор: Тупикова Наталия Алексеевна, Стародубцева Наталья Анатольевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 4 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Семантизация территориально ограниченной лексики рассматривается в аспекте актуальной проблемы взаимодействия и взаимопроникновения лексических систем литературного языка и говоров. Сопоставлению подвергается материал, извлеченный из художественных текстов (прозаических произведений волгоградских писателей) и живой речи носителей донских казачьих говоров Волгоградской области (записей, осуществленных экспедиционным методом и прямым опросом информантов в пунктах диалектологического обследования территорий по программе Лексического атласа русских народных говоров). Охарактеризованы контекстуальный и графический способы семантизации диалектизмов. Выявлены языковые приемы раскрытия значений диалектных слов с помощью литературных аналогов, а также различные маркеры, сигнализирующие о включении в высказывание элемента, не являющегося общеупотребительным. Описаны модели использования языковых средств, формируемых на основе конструктивного принципа их организации для раскрытия идейно-художественного замысла произведения, что может служить средством обновления и обогащения изобразительно-выразительного фонда русского языка, либо с целью необходимости адекватного понимания носителями разных речевых культур предметно-понятийных соответствий языковых единиц в условиях общения. Установлены общие и особенные приемы непосредственной и опосредованной семантизации лексических единиц, отражающие художественно-образную и наглядно-символическую конкретизацию действительности при восприятии мира. Обоснована функциональная роль рассматриваемой лексики как ресурсообразующего элемента современного русского литературного языка.
Региональная художественная проза, речь диалектоносителей, семантика, лексика донских говоров, способ семантизации, языковой прием, функция
Короткий адрес: https://sciup.org/149140557
IDR: 149140557 | УДК: 81’282 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2022.4.1
Текст научной статьи Способы семантизации диалектной лексики в региональной художественной прозе и устной речи диалектоносителей
DOI:
Расширение эмпирической базы исследований, посвященных проблеме взаимодействия и взаимопроникновения лексики литературного и территориально ограниченного употребления, невозможно без поиска путей обогащения словарного богатства русского языка на каждом этапе его развития, что, во-первых, должно опираться «на обширные материалы, извлеченные из разнообразных источников» [Сороколетов, 2011, с. 376], и, во-вторых, учитывать разные способы организации в тексте словесного материала, эксплицирующие определенные формы ментальной связи носителей языка. Такие «формы по- нимания», основанные, в частности, на принципах как понятийного, так и символического, образного восприятия мира, представляют особый интерес, поскольку выступают, по мнению В.В. Колесова, репрезентантами названных представлений в литературном обиходе и в речи диалектоносителей, соединенных «общностью семантических концептов» [Колесов, 2011, с. 24].
«Движение устности» в различные сферы функционирования современного русского языка, переключение речевых регистров свидетельствуют о разнообразных способах передачи человеческого опыта, который лежит в основе сохранения цивилизационных ценностей общества. В этой связи актуальным яв- ляется рассмотрение способов семантизации диалектного слова, употребляемого автором произведения с целью раскрытия художественного замысла, что приводит к обновлению и обогащению средств выразительности, либо используемого носителями разных речевых культур для адекватного понимания предметно-понятийных соответствий языковых единиц в условиях общения. С нашей точки зрения, это входит в проблематику исследований синтеза различных лексических пластов, в том числе литературных и представляющих собой «разного рода заимствования из некодифицированных подсистем» [Крысин, 2010, с. 28, 32].
Термин «семантизация», применяемый в лингвистической традиции в теоретическом и прикладном аспектах (в самом общем плане – сообщение необходимых сведений о значении слова) [Богачева, 2020; Коробова, 2019; Мерзлякова, 2022; Плотникова, 2013; Ручи-на, Горшкова, 2021; и др.], мы трактуем с учетом анализируемого материала и определяем, вслед за А.М. Плотниковой, как отображение «кванта знаний» о мире в процессе работы мастера слова, профессионально подготовленного к созданию словарного толкования [Плотникова, 2013, с. 47], или в речевой цепи, формируемой спонтанно, ситуативно диалектоносителем. Сопоставление обдуманного, запланированного и произвольного, случайного объяснения слова важно как для изучения тенденций развития лексической системы в целом, так и для определения частных закономерностей употребления языковых единиц через призму регионального варианта их функционирования. Речь диалектоно-сителей, как показано в наших предыдущих работах, в отличие от литературного обихода, воспроизводимого и отражаемого писателями в художественных образах, характеризует неподготовленное общение жителей конкретной местности в пунктах бытования того или иного диалекта в его региональном своеобразии и взаимодействии с другими формами существования национального языка (в том числе литературной), а также обнаруживает сходство с живой разговорной речью, включающей единицы разной социально-функциональной отнесенности [Тупикова, 2014, с. 197].
Таким образом, изучение способов функционирования диалектной лексики в художественном тексте и речи носителей говоров и выявление специфики толкования языковых единиц в письменной или устной коммуникации позволит установить особенности семан-тизации исследуемых средств и расширить представление об экспрессивно-стилистических возможностях диалектизмов в качестве строевого материала высказывания, а также охарактеризовать взаимодействие и взаимовлияние различных лексических подсистем.
Материал и методы
Материалом для анализа с применением различных методов, позволяющих раскрыть семантико-смысловое наполнение и функциональную роль диалектизмов, послужили словоупотребления, извлеченные из произведений волгоградских писателей (Б.П. Екимова, Е.А. Кулькина и Н.Ф. Терехова), проза которых стала заметным явлением современной художественной литературы. Использован также материал, собранный в полевых условиях непосредственным экспедиционным методом записи речи диалектоносителей и прямым опросом информантов по методу открытого опросника в ряде районов Волгоградской области на территориях бытования донских говоров в рамках программы сбора сведений для Лексического атласа русских народных говоров. Теоретической базой разработки проблемы служат исследования о взаимодействии художественно-эстетических и языковых категорий, обеспечивающем целенаправленное подчинение словоупотреблений замыслу писателя [Виноградов, 1961; Горшков, 2006; Новиков, 2003; Шмелев, 1964], о свойствах диалектных систем и роли диалектизмов в художественной речи, о региональных особенностях функционирования языка и языковой картине мира диалектоносителей [Касаткин, 2007; Лопушанская, 2001; Стародубцева, Харченко, Черницына, 2020; Супрун, Кудряшова, Брысина, 2013; Тупикова, 2002; 2018; Черноусова, 2012; и др.].
Сопоставление специфики использования диалектизмов в региональной художественной прозе и живой речи диалектносителей сопряжено с комплексом задач, которые решались нами в ходе классификации и интерпретации рассматриваемого массива фактов: охарактеризовать диалектизмы как средства, сохраняющие в художественном тексте и устной речи семантические функции локально закрепленных слов, не имеющих общерусского хождения; выявить приемы включения диалектизмов в текст с использованием способов контекстуальной семантизации единиц; определить функциональную роль рассматриваемой лексики в системе средств художественного целого и в речи диалектоносителей при выражении восприятия окружающего мира.
Результаты и обсуждение
В рамках общей эмпирической базы современного русского языка диалектная лексика составляет обширную его часть, отражая богатство словаря, зафиксированное в разнообразных источниках: «тысячи слов самого разного состояния, проникнутых теплым чувством народного духа, согретых столетним употреблением, образных, выразительных» [Колесов, 2011, с. 20]. Будучи территориально ограниченными в своем употреблении, эти единицы включаются в литературный текст с особой целью (см., например: [Некрасова, 1973, с. 217–221; Романова, 2016, с. 83– 96]). Обладая удивительной отражательной способностью, они придают особый колорит художественному повествованию, поскольку реализуют системное свойство диалектного словаря – выражать символическое представление о мире в наименованиях, которые обозначают окружающие реалии. Этим объясняется большое разнообразие способов их введения в прозаический текст и выполняемых ими функций.
Живая речь диалектоносителей имеет свою специфику, что определяет использование ими локально ограниченной лексики как аналога литературного (и общего) употребления. Учитывая, что «одной из важнейших функций диалекта как устной формы коммуникации является передача культурно значимой информации от одного поколения к другому» [Волошина, Демешкина, 2012, с. 14], именно этим мы можем объяснить сопряжение семанти-зации с апелляцией к практическому опыту человека, местным реалиям, с сообщением та- ких данных о языковой единице, которые выступают как маркеры речевой деятельности говорящих по временному, географическому и другим признакам.
В диалоге диалектолога с диалектоно-сителем ключевым жанром речи является «рассказ-воспоминание», который, по словам Я.В. Мызниковой, определяет отбор языковых средств [Мызникова, 2014, с. 66]. Пояснительные (метаязыковые) высказывания в речи носителей говоров, как указывает Я.В. Мыз-никова, имеют иллюстративный, а не дефини-ционный характер и представляют собой примеры из языковой практики говорящих с опорой на типичную ситуацию употребления поясняемого слова, а не определения с таксономическими чертами [Мызникова, 2015, с. 151].
Названные свойства и особенности использования диалектизмов, зафиксированных в художественной и живой речи, отражаются в разных тематических и лексико-семантических группах слов. Например, со значением природного ландшафта: изволок («пологий склон»), меляки («мель, отмель»); предметов народного промысла и ремесла: вешала («перекладина с набитыми на нее гвоздями для сушки или вяления рыбы»), квок («рыболовная снасть для ловли сомов, снаряд, издающий булькающие звуки при ударе по поверхности воды и привлекающий таким образом сомов»), черпал («сачок»), бредень («самодельная сеть для ловли рыбы»); предметов хозяйственного обихода и инвентаря: остроги («отточенные вилы»), рогач («ухват»), цапельник («сковородник»); жилых и хозяйственных построек: плетень, плетешкú («изгородь из сплетенных прутьев, ветвей»), околоток («госпиталь»), омшаник («погреб»); пищи, напитков: хмели («дрожжи»), ушник («суп из жирной утки или гуся с лапшой»); животного мира: хори («суслики»), квочка («курица-наседка»), турлук («насекомое, медведка»); действия, состояния, отношения: гостевать («быть в гостях»), сепетить («суетиться»), кочерить («держать себя высокомерно, важничать»), ладиться («договариваться о чем-либо, условливаться»), кстить («крестить»), холостить («срезать, обрывать»); качества, свойства: каламутный («беспокойный»), невладанный («новый, не бывший в употреблении, не использованный»); про- странственно-временного отрезка: надысь («два-три дня тому назад, третьего дня»), скрозь («везде, сквозь, через») и др.
В массиве фактов, выбранных из произведений Б.П. Екимова, Е.А. Кулькина и Н.Ф. Терехова, выделяется лексика донских говоров, которая понятна читателю без объяснения, а также отмечены узкодиалектные слова, местные обозначения кого-, чего-либо, требующие объяснения. Можно сказать, что такое же различие наблюдается и в живой речи (подробно об этом см.: [Тупикова, Стародубцева, 2020]).
Способы семантизации диалектизмов предлагается анализировать с учетом разработанных в научной литературе подходов к классификации лингвистических (лингвостилистических, конструктивных) приемов и на основе их типологии. Прием определяется как модель использования языковых средств, в основе которой лежит единый конструктивный принцип организации высказывания (контекста) [Данилевская, 2003; Копнина, Сковородников, 2005]. Способы семантиза-ции, реализуемые с помощью конкретных приемов использования языковых средств, представляют собой системы (совокупности), комплекс, образ действий, направленных на организацию словесного материала для достижения целевой установки в данной речевой сфере.
Контекстуальная семантизация
Контекстуальная семантизация как способ толкования значения реализуется разными приемами: использованием литературного эквивалента, противопоставления, сопоставления, градации, сравнения, синтагматического толкования, перечисления однородных членов предложения и развернутого целостного контекста, дистантного расположения диалектного слова, толкования с учетом внутренней формы слова, введения в текст семантических диалектизмов, апелляции к обыденному знанию собеседника или к практическому опыту, описания обыденной ситуации.
Среди них наиболее частотный – использование литературного синонима (аналога) в препозиции либо постпозиции к диалектизму, выступающему основ- ной либо косвенной номинантой в функции приложения, уточнения. Например, в произведениях Б.П. Екимова:
-
(1) На кручах, на юрах , деревья – узловаты, приземисты (Екимов 1, с. 337);
-
(2) Там – дикий барбарис, « кислятка », алыми гроздьями (Екимов 1, с. 338);
-
(3) Даже станица и невеликий хутор поделены на части, куты : Петрухин, Борискин, Забарак, Срали (Екимов 1, с. 340);
-
(4) Трое ребятишек – на берегу. Хоть и ветрено, но – лето: удочка, « закидушка », рыбацкое счастье (Екимов 1, с. 343);
-
(5) Под берегом – черные коряги – « карши » (Екимов 1, с. 357);
-
(6) И белые барашки – « бельки » кучерявятся по их гребням (Екимов 1, с. 335);
-
(7) Ндравная я такая стала, нетерпеливая» (Екимов 1, с. 240) ( ндравный – «своевольный, своенравный, норовистый») (СДГВО, с. 349);
-
(8) Из диких яблок да груши не только взвар – кислое питье (Екимов 1, с. 338) ( взвар – «компот из сушеных фруктов») (СДГВО, с. 75);
-
(9) Речки отрожек – ерик : Царицын да Мыш-ков (Екимов 1, с. 339) ( ерик – «ручей, проточная вода») (СДГВО, с. 161).
Частным случаем реализации названного приема может служить употребление в ответной реплике персонажа литературного эквивалента диалектного слова, прозвучавшего из уст собеседника, как, например, в диалоге Тимофея и Чифира – героев повести Б.П. Екимова «Пастушья звезда»:
-
(10) А цветов у нас хоть залейся, сам видишь. Сирень, а по степи сколь цвету. Им поглянется . – Понравится, конечно, понравится! (Екимов 2, с. 19) ( глянуться – «понравиться, нравиться») (СДГВО, с. 111).
Это позволяет писателю подчеркнуть особенности речевого портрета персонажа, который родом из донских казаков. Местное, часто экспрессивное, обозначение известных реалий может находиться после литературного аналога в ответной реплике персонажа:
-
(11) А табачок хорош? – Солдаты хвалят. <...> Солдат сначала закурил и от неожиданности закашлял. – Хорош крепачок , – сказал он...» (Терехов, с. 239).
Контекстуальная семантизация может строиться как логическое продолжение повествования автора без признаков уточнения, что зафиксировано, в частности, в текстах Н.Ф. Терехова:
-
(12) Амба... строила убежище для своих будущих щенят. Подгребая под брюхо песчанистый грунт, она медленно двигалась из норы и на выходе начинала быстро работать передними лапами. <...> Ей все казалось, что длиннорукий человек может достать кубло . <...> Кубло она постаралась сделать попросторнее (Терехов, с. 114).
Объяснение с помощью литературного синонима в препозиции или постпозиции типично и для живой речи диалектоносителей, однако имеет свою специфику – употребление в конструкциях с маркерами времени, места, образа действия и др. ( тогда , раньше , прежде , по-старому – сейчас , теперь , нынче ; там – здесь , тут ; у них – у нас ; по-русски – по-казачьему ), что отражает иллюстративный характер толкования значения, основанный на личном опыте говорящего. Например:
-
(13) Ну, сейчас их дрожжи называют, а тогда хмели их называли, на этих хмелинах пекли хлеб (Лысенко П.А., 1924 г.р., х. Казаринский, Киквидзен-ский район) ( хмелина – «сухие дрожжи из хмеля и отрубей») (БТСДК, с. 558);
-
(14) Говорýшки ещё у нас. Говорýшки – опята вот это такие (Мокренко П.Н., 1947 г.р., х. Деминский, Новоаннинский район);
-
(15) У нас на чердаке были, помню, материны гусары , тогда называли вот эти вот ботинки, как сейчас сапоги, на шнурках и немножко на каблучке (Ермилова Е.К., 1929 г.р., пос. Реконструкция, Михайловский район);
-
(16) Вот потом он в околотке лежал. Сейчас госпиталь, а тогда околоток называли (Лысенко П.А.);
-
(17) Дудаки, дудаки в полях. Большие гуси, можем так сказать. У вас не знаю, как называются, но у нас дудак (Антонова Т.А., 1944 г.р., с. Завязка, Киквидзенский район) ( дудак – «крупная степная птица с длинной шеей, дрофа») (СДГВО, с. 135);
-
(18) Окунь по-русски, чекомас по-казачьему (Трофимов И.В., 1969 г.р., ст-ца Преображенская, Киквидзенский район);
-
(19) Ерши раньше попадались, ну их вообще называли сопливчики (Трофимов И.В.) (от сопля – «рыба ерш») (СРНГ, 2005, вып. 39, с. 336);
-
(20) Суслики были, у нас хори называли (Поляков Н.И., 1958 г.р., ст-ца Преображенская, Киквид-зенский район);
-
(21) Эту [беременную] называли раньше: она на тяхостях , или там как-то. Она тяжелая (Калачева Н.М., 1930 г.р., х. Калачевский, Киквидзенский район).
Следует отметить, что свойственный устно-разговорной сфере прием использования подобных лексических маркеров, служащий, по словам Я.В. Мызниковой, для введения аксиологической составляющей в речи ди-алектоносителя [Мызникова, 2014, с. 68], зафиксирован также в художественном тексте, что может квалифицироваться как способ привлечения внимания читателя к малоизвестному региональному наименованию или известному из практического опыта автора:
-
(22) ...Нарядным татарским кленом, по-нашему – паклинком (Екимов 1, с. 337);
-
(23) Как вел за собой ватагу и никто не мог угнаться за ним, чтобы, по-сенокосному говоря, подкосить ему пятки (Кулькин 1, с. 4);
-
(24) А это кураши , по-научному индейки (Куль-кин 1, с. 71);
-
(25) И я увидел протабашницу , или, как по-городскому звал ее дядя Пантелей, табакерку (Куль-кин 1, с. 7);
-
(26) Все твое, чистое, как у нас говорят, « не-владанное », а значит, животворящее: живая вода, живая земля, живой ветер (Екимов 1, с. 357).
Значение диалектизма раскрывается в художественном тексте на основе приемов противопоставления и сопоставления . В таких случаях отмечается обращение писателей к редупликации, парному сказуемому, что свойственно народно-поэтической речи. Например, в прозе Е.А. Кулькина:
-
(27) Троица: два смеются – один горится (Куль-кин 2, с. 161) ( гориться – «горевать, печалиться») (СДГВО, с. 116);
-
(28) Вот с Саньком Ганичем я дружил- шалы-ганил (Кулькин 2, с. 24) ( шалыганить – «баловаться, озорничать, хулиганить») (СДГВО, с. 668).
Одним из приемов выражения способа контекстуальной семантизации является градация . Примером этому могут служить случаи, когда диалектизм в составе сопоставительной конструкции с литературной лексемой той же ЛСГ используется для выражения ослабления, меньшей степени проявления признака:
-
(29) Отчего с тобой никто не только не дружит, но и не ватажится ? (Кулькин 2, с. 47) ( вата-житься – «собираться в ватагу») (СДГВО, с. 66).
Довольно разнообразны по содержанию контекстуальные противопоставления и сопоставления в живой речи при описании реалий, связанных с обыденным знанием носителей языка, например:
-
(30) Сначала она тёлочка , когда она нагулялась – уже вводится в группу нетель , а когда уже отелилась – первотёлка . А поросята отличались от того, кто только родился: сосунок , а этот вроде как бы взрослый (Барилова Т.В., 1957 г.р., пос. Реконструкция, Михайловский район) ( нетель – «яловая, нетелившаяся корова») (БТСДК, с. 321);
-
(31) Маленьких вот кастрируют – валушóк называют (Антонова Т.А.).
Диалектная лексика и в художественном тексте, и в живом общении используется в составе прямого или скрытого сравнения , например:
-
(32) Вишь, клен рассупонился , что человек, стоит и плачет (Кулькин 2, с. 255) ( рассупониться – «расхныкаться, расплакаться») (СДГВО, с. 509);
-
(33) И эта « толковища », как назвал речи Фе-дюня (Кулькин 1, с. 77).
Диалектоносители стремятся с помощью сравнений с современными предметами семантизировать малоизвестные широкому кругу людей или ушедшие в прошлое названия реалий:
-
(34) У нас строили для них омшаник , это копали как поγреб, яма такая, стены кругом доскáми оббили (Лысенко П.А.) ( омшаник – «постройка для хозяйственного инвентаря») (СГДВО, с. 383);
-
(35) Чирики ... Это такие, как вот щас тапки, тада их сами шили, называли их чириками (Лысенко П.А.);
-
(36) Остроги как вилы, только острые и отточенные (Гайдамакин А.Е., 1929 г.р., с. Оленье, Ду-бовский район).
Выделяется прием, который можно назвать синтагматическим толкованием значения (прямым или косвенным). Прямая синтагматическая семантизация встречается в художественных повествованиях и описаниях и реализуется с помощью расширенной, развернутой дефиниции, пояснения диалектной единицы (местного наименования):
-
(37) Черпаешь рыбу « зюзьгой » – большой сетчатой ложкой – и кидаешь в лодку (Екимов 1, с. 365);
-
(38) Возле берега стояли плетни – загородки из лозы (Екимов 1, с. 362);
-
(39) Прежде родники искали... Увидят, делают « копань » ли, « копанку », то есть просто ямку, помогая ключу открыться (Екимов 1, с. 356);
-
(40) Когда мне, как в ту пору говорили, отлила семнадцатая вода , то есть исполнилось семнадцать лет... (Кулькин 1, с. 7).
Косвенное синтагматическое толкование квалифицируется нами как частный случай этого приема и реализуется разными средствами.
Во-первых, при использовании нескольких диалектных лексем средством их объяснения может быть целостный контекст:
-
(41) Ты чего-нибудь накостробошишь , а отец ко мне с налыгачом (Кулькин 1, с. 77) ( накостро-бошить – «набедокурить, натворить плохих дел, сделать что-л. предосудительное»; налыгач – «веревка, надеваемая на рога быка или коровы и являющаяся поводом» (СДГВО, с. 339, 340);
-
(42) Похарчилась она, милый! Прямо в школе ляснулась , и – все. Пока фельдшерица прибежала, она уже пену отлила (Кулькин 1, с. 21) ( похарчить-ся – принято в разговоре о животных – «сдохнуть», в отнесении к человеку имеет негативно-оценочную, грубую окраску; ляснуться – «упасть, сильно ударившись; шлепнуться») (СДГВО, с. 307, 466);
-
(43) Пусть ветер, пусть чичер с дождем ли, снегом... (Екимов 1, с. 364) ( чичер – «холодная погода с пронизывающим ветром, дождем, мокрым снегом») (СГДВО, с. 659);
-
(44) Талая вода сбивалась под снегом в бочажки , стекала в овраги, потом в один жаркий день хлынула по лугам, к крутобережному ерику , на дне которого покоился вспухший от тепла лед. Ерик держал его крепко, но вода подняла, и он с оглушительным треском дробился на крыги , которые плыли и утюжили низкорослый тальник и выросшие выше береговых круч чубатые тростники (Терехов, с. 374) ( ерик – «ручей, проточная вода»; крыга – «кусок, глыба льда, льдина; мелкая льдина»; тальник местное название от тал – «кустарниковая ива») (СГДВО, с. 161, 275–276, 583).
Во-вторых, семантико-смысловое наполнение диалектизма в синтагматической цепи при отсутствии контекстуального литературного аналога раскрывается с помощью свойственной языковым единицам лексической сочетаемости в соответствии со значением:
-
(45) Как ему, теплу, быть, если топили грубку соломой, да бурьяном, да хворостом из левады
(Терехов, с. 246) ( грубк а – «небольшая печь для обогрева помещений») (СДГВО, с. 123);
-
(46) Сходи в дубовый лес, сруби прямой дубовый дрюк на крест (Терехов, с. 242) ( дрюк – «толстая палка, жердь, кол, дубина») (СДГВО, с. 153);
-
(47) Вдоль железной дороги по обеим сторонам из густого запыленного бурьяна кое-где выглядывали пожухлые листья паклинка, карагача (Терехов, с. 299) ( пáкленка , паклёнка , пáкленок – «крупный кустарник или деревце, один из видов клена; черноклен»; карáгáч, карáгич – «разновидность вяза: низкорослое изогнутое, кряжистое дерево; вяз мелколиственный») (СДГВО, с. 236, 403);
-
(48) Цепко держась за борт, мама пристально смотрела по сторонам на старые, изуродованные сухими сучками осокори (Терехов, с. 87) ( осокорь – «дерево семейства ивовых – тополь») (СДГВО, с. 387);
-
(49) Жилистый тугой быстряк теченья морщинит воду (Екимов 1, с. 348) ( быстряк – «место наиболее быстрого течения воды в реке») (СДГВО, с. 62);
-
(50) Жить надо уметь, – ответил старик, – не языком балендрасить , а головой шурупить (Кулькин 1, с. 71) ( балиндрасить – «пустословить, говорить вздор»; шурупить – «быть сведущим в чем-л., смыслить, соображать») (СДГВО, с. 33, 679).
Отмечены случаи, когда значимой для семантизации становится грамматическая сочетаемость слова в предложно-падежной конструкции, например:
-
(51) А вот мы так раскладаем, ежли начальство об нем горится : нехай эти деньги наличностью отдадут, прямо в руки (Екимов 2, с. 20);
-
(52) Я об них тоже горюсь (Екимов 2, с. 21) ( гориться – «горевать печалиться») (СДГВО, с. 116).
В-третьих, пониманию значения диалектизма способствует лексический состав однородных с ним членов предложения в речевой цепи:
-
(53) Ниже их – густые, непролазные заросли шиповника, сладкой по осени боярки , колючего лоха , ягоды которого – тоже осенью – кофейная маслянистая сладость (Екимов 1, с. 338) ( боярка – местное название боярышника, лох – «облепиха крушиновидная») (СРНГ, вып. 17, с. 159).
Для словоупотребления диалектоносите-лей в случаях отсутствия контекстуального литературного аналога характерна комплексность, сопряжение нескольких средств семан-тизации – с помощью перечисления одно- родных членов предложения и развернутого целостного контекста, содержание которого становится основой толкования значений слов:
-
(54) Дедушка ловил, там у Гусынки рыбий пруд протекал с Семеновки. И самоловки у него, кубаря, в сетях , вот так. Достанеть, девчата, хотите верьте, хотите нет, каждый день почти ведро. И вентерями , и самоловкой – столько рыбы! (Черноусова В.В., 1932 г.р., ст-ца Преображенская, Киквидзен-ский район) ( кубáрь – «род верши на обручах»; самоловка – «сплетенная из прутьев корзина с узким горлом для ловли рыбы»; вентерь – «рыболовная снасть, имеющая вид верши на обручах, суживающихся книзу») (СРНГ, вып. 15, с. 355; вып. 4, с. 116; вып. 36, с. 91);
-
(55) Все сажали, картошку, кукурузу сажали, тыклушки сажали, свяклу (Лысенко П.А.) ( тыклуш-ки : от тыкла – «тыква») (БТСДК, с. 536).
В художественной прозе и речи диалекто-носителей используется прием дистантного расположения диалектного (либо местного) слова и его толкования , когда значение «подсказывается» окружающим контекстом и/или выражается отдельным литературным лексическим аналогом (описательным выражением):
-
(56) Первый раз на вдовий сенокос меня взяли лет семи. Литовочку , что из аксайской косы сделал мне дед, я нес торжественно, как музыкант дорогую скрипку....У носка моей косы что-то взблеснуло (Кулькин 1, с. 4, 6) ( литовочка – «длинная широкая коса с большой рукоятью») (СДГВО, с. 300);
-
(57) Деляна нам досталась у самого озера, у той его части, где – по весне – винтует широкий, с руслом лопатой, ручей. По его ложу – выпрыска-ми – растет редкий, но почти с руку толщины, камыш. Само же травяное место, отшагнув саженей на пять от корьевого крошева, оставленного тут разливом, было непролазно густым и винтучим (Кулькин 1, с. 5);
-
(58) У кого какой был достаток: и сосновые, и дубовые, всякие, а у бедных саманные были, саман лепили – земля с соломой, делали тоже хаты (Лысенко П.А.) ( саман – «вырезанные куски дерна, используемые в качестве строительного материала») (СДГВО, с. 527).
Одним из приемов семантизации, основанном на образно-символическом осмыслении окружающего мира, который отражен в системе диалекта, является толкование с учетом внутренней формы слова в широком контексте. Это средство подчеркивания специфики территориально ограниченной лексики и создания особого колорита произведения:
-
(59) На песок выбирается стадо коров... Первая – с боталом на шее. Звенит и звенит (Екимов, с. 337) ( ботало – «медный, железный или бронзовый колокольчик на шее пасущихся лошадей, коров») (СДГВО, с. 50).
В приведенном примере для семантиза-ции слова ботало важную роль играет комплекс факторов, направленных на реализацию образно-конкретизирующей функции художественного текста: сочетаемость с существительным шея , выражение корневой морфемой значения образа действия, сходного со значением глагола мотать (двигать из стороны в сторону), функциональное назначение предмета (его нахождение на шее животного) и звуковое сопровождение действия ( звенит ).
В прозе писателей такой прием семан-тизации часто выполняет характерологическую функцию, служа средством создания портрета персонажа, художественного образа героя, например:
-
(60) Чужому глазу могло показаться, что она спит, шумно посапывая висловатым носом (Екимов 1, 228).
В речи диалектоносителей названный прием выполняет номинативно-конкретизиру-ющую, или, с нашей точки зрения, наглядно-конкретизирующую функцию, например:
-
(61) Серебрятся ряды за рядами на вешалах : чехонь, синец, а может быть и рыбец ( вешала – «перекладина с набитыми на нее гвоздями для сушки или вяления рыбы») (БТСДК, с. 75) (Екимов 1, с. 350);
-
(62) Молоко цедили, вот цедилка ... (Смирнова Т.Ф., 1925 г.р., х. Гордеюшка, Алексеевский район) ( цедильник – «высокий кувшин для молочных продуктов») (СДГВО, с. 641).
Приемом, имплицитно реализующим контекстуальную семантизацию, является непреднамеренное, «замаскированное» введение в художественный текст семантических диалектизмов (подробно об этом см.: [Не- красова, 1973, с. 217; Прохорова, 1957, с. 7; Филин, 1961, с. 38]), отличающихся от «однозвучных» им аналогов в литературном языке, то есть омонимов:
-
(63) Кидал умом – нет, не накину (Екимов 1, с. 362).
Сюда же можно отнести некоторые местные слова, например:
-
(64) Костя и Степан – самые старшие в семье – были за то, чтобы родителю поставить, как и всякому прожившему при Советской власти человеку, призму со звездой . А вот меньшие – Генка, Сергей и Гриша – уперлись на своем: крест папанька заслужил уже хотя бы потому, что... был крещен в церкви (Кулькин 1, с. 76) ( призма – «многогранник с двумя равными параллельными основаниями и боковыми гранями-параллелограммами», сочетание призма со звездой используется в смысле «солдатский памятник»).
Специфическим приемом семантизации, зафиксированным только в устной речи диа-лектоносителей, является апелляция к обыденному знанию собеседника или к практическому опыту , позволяющему толковать значение диалектного слова (местного названия, обозначения) через сложившиеся представления об окружающей действительности. В этом случае могут использоваться развернутые сравнения, сопоставления, аналогии:
-
(65) Ну, были такие рушалки ... Вот эта в частном доме рушилка , она... ну, как, она похожа, там, как на мельницу. Два камня круглых, таких круглых, как бы, и вот туда сыпет, и им сам крутишь руками (Петров Н.С., 1940 г.р., х. Деминский, Новоаннинский район);
-
(66) Козёл – козёл, а если кастрированный козёл – вал (Антонова Т.А.).
Употребляются синонимы, одиночные или в составе пояснительного оборота, вопросно-ответного единства:
-
(67) Вот как куки закукують . Куки – это лягушки, значит, начнут квакать, и ширяшок сойдёть, то есть лед сойдет, нижний лёд, мелочь после льда, и можно рыбалить (Антонова Т.А.) ( кука – «головастик»; ширёшь – «мелкий лед, появляющийся перед ледоставом или идущий по реке весной во время ледохода») (БТСДК, с. 248, 591);
-
(68) Ну, тогда называли пятистенки ... Две комнаты обязательно, и обязательно, чтобы была полата . Вы не представляете? Это значит, как сказать, ну, допустим, вот русская печь. Это входная дверь. От входной двери как все равно полка такая большая. Полати называлась. Вот туды загоняли всю детвору. Там тепло наверху, вон там детвора спали (Лысенко П.А.) ( пятистенок – «дом, разделенный капитальной стеной на две части; жилой дом с пятью капитальными стенами»; полать, палати – «настил из досок для спанья, устраиваемый в избе под потолком») (СДГВО, с. 446–447, 496, 441).
Одним из способов толкования слова на основе обыденного знания выступает указание на функциональную роль предмета, назначение или применение чего-л.:
-
(69) Вот были такие чистики у нас. Тоже вот... тут деревячка, а тут сделана, это, ну вот как лопаточка заостренная. И вот ими ходили мы по полям, и вот так вот под корень сшибали яво, эти, травы разные... чистик (Михайлова А.М., 1936 г.р., с. Завязка, Киквидзенский район);
-
(70) Грох – это зерно в нем просеивали... Очищали зерно... Сеяли, очищали от сорняка хлеб, грох , эт самое, от сорняка отдевал (Смирнова Т.Ф.) ( грох – «решето») (БТСДК, с. 119).
Оригинальным приемом объяснения, свойственным речи диалектоносителя, является описание обыденной ситуации , включающей последовательность совершаемых действий, которые необходимы для получения собеседником наглядного представления о предмете, процессе, явлении:
-
(71) Каймак – просто: вот вечером подою корову... и в духовку, он зажарится , эт молоко , чтоб аж дочерна была эта пленка, вынимаю и ставлю ее в холодильник. Постоял он, остыл совсем – вот снимаешь каймак , а там остается молоко (Скворцова К.П., 1924 г.р., г. Урюпинск, Урюпинский район) ( каймак – «густые подрумяненные пенки, снятые с топленого молока») (СДГВО, с. 231).
Графическая семантизация
Графическая семантизация представляет собой способ предупреждения читателя о диалектном элементе в тексте, что характерно только для прозаических произведений писателей.
Приведенные в процессе анализа контексты в полной мере иллюстрируют данный способ « маркировки» диалектизмов с помощью конкретных приемов: заключения в кавычки диалектного слова, выделения тире в авторской речи, употребления в качестве оформленного дефисом приложения после главного слова , использования в составе прямой речи , не принадлежащей собственно авторскому изложению, одновременного сопряжения нескольких приемов и средств «маркировки» слова в тексте. Следует только добавить, что рассматриваемый способ, реализованный соответствующими средствами, характерен для введения в текст не только диалектизмов как элементов сложившейся лексической системы диалекта, но и местных наименований реалий и обозначений свойств, признаков. Например, в авторской и прямой речи для создания художественного образа и эмоционально-оценочной экспрессии:
-
(72) Здесь сомовье бучило . Брунит и режет воду прочная леса – « жилка », а потом рвется со звоном (Екимов 1, с. 35) ( бучило – «водоворот и глубокая яма под ним»; брунеть – «производить звук в результате внешнего воздействия, звенеть») (СДГВО, с. 53, 60);
-
(73) Мишка Кошкуль, в свое время – по бежа-лой судьбе – оказавшийся в хуторе (Кулькин 1, с. 10);
-
(74) ...Сначала зашел в летнюю кухню-стряпку (Екимов 1, с. 42) ( стряпка – «отдельное строение для приготовления пищи летом; летняя кухня») (СДГВО, с. 574);
-
(75) Так жалковать надо, пока ноги в размет не пошли, – ответил дед, – потому как знает, что шильце завсегда рядом с мыльцем обретается (Куль-кин 2, с. 103) ( жалковать – «чувствовать жалость, сострадание к кому-либо; жалеть») (СРНГ, вып. 9, с. 65);
-
(76) Там – дикий барбарис, « кислятка », корни « козелка » – белой моркови (Екимов 1, с. 338) ( козёлик , козелок – «съедобное дикое травянистое растение козлобородник») (СДГВО, с. 251).
Заключение
Семантизация как процесс сообщения таких «данных» о языковой единице, которые позволяют ей беспрепятственно и гармонично использоваться в качестве строевого материала содержания высказывания в письмен- ной или устной речи, свидетельствует о «мно-гоканальности» взаимовлияния систем литературного языка и диалектного, местного словоупотребления, территориально ограниченного в своей основе. В региональной художественной прозе диалектизм, будучи средством преднамеренно сниженной, непринужденной речи, выражает самобытное восприятие действительности автором и персонажами произведения – представителей донского казачества, что в то же время свидетельствует о богатстве стилистической и социально-функциональной дифференциации русского языка на современном этапе. В устной речи носителей говоров данный словесный материал указывает на непрерывную живую связь системного и функционального, конкретного и образно-символического в русском языке, которую возможно постичь через семантизацию как «речетворчество» далектоносителя.
Осуществленный в исследовании анализ способов и приемов толкования значений лексем в контексте позволяет говорить о целесообразности разграничения непосредственных и опосредованных приемов се-мантизации, определяющих пути взаимодействия семантических систем и обогащения стилистических ресурсов при употреблении диалектного слова в литературно-обработанных контекстах, степень его интегрированности в разговорный, общебытовой обиход, показать специфику тех семантико-смысловых «скреп», которые в конкретно-понятийном, образно-конкретизирующем и наглядносимволическом воплощении действительности соединяют разнонаправленные стихии в многогранный языковой континуум родной русской речи.
Список литературы Способы семантизации диалектной лексики в региональной художественной прозе и устной речи диалектоносителей
- Богачева Г. Ф., 2020. Словарная семантизация: цифровой формат // Лексикография и коммуникация - 2020 : сб. материалов VI Междунар. науч. конф. Белгород : Изд-во Белгор. гос. нац. исслед. ун-та. С. 12-19.
- Виноградов В. В., 1961. Проблема авторства и теория стилей. М. : Худож. лит. 613 с.
- Волошина С. В., Демешкина Т. А., 2012. Миро-моделирующий потенциал речевого жанра (на материале диалектной речи) // Вестник Томского государственного университета. № 3 (19). С. 14-20.
- Горшков А. И., 2006. Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика. М. : АСТ : Астрель. 367 с.
- Данилевская Н. В., 2003. Конструктивный прием // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. М. : Флинта : Наука. С. 175-179.
- Касаткин Л. Л., 2007. Фрагмент языкового портрета донской казачки // Язык в движнии : К 70-летию Л.П. Крысина / отв. ред. Е. А. Земская, М. Л. Ка-ленчук. М. : Яз. слав. культуры. С. 231-240.
- Колесов В. В., 2011. Труды и дни Ф.П. Сороколетова // Избранные труды / сост. О. Д. Кузнецова, Е. Ф. Сороколетова ; отв. ред. С. А. Мызников. СПб. : Наука. С. 17-27.
- Копнина Г. А., Сковородников А. П., 2005. Стилистический прием // Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты / под ред. А. П. Сковородникова. М. : Флинта : Наука. С. 322-325.
- Коробова В. Н., 2019. Способы семантизации диалектного слова (на материале Словаря русских говоров Приамурья) // Филологический аспект. № 4 (4). URL: https://scipress.ru/ philology/articles/sposoby-semantizatsii-dialektnogo-slova-na-materiale-slovarya-russkikh-govorov-priamurya. html
- Крысин Л. П., 2010. О словарном представлении лексики некодифицированных подсистем языка // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 69, № 1. С. 28-43.
- Лопушанская С. П., 2001. Идиостиль Евгения Кулькина в этнолингвистическом освещении // Стрежень : науч. ежегодник. Волгоград : Издатель. Вып. 2. С. 327-330.
- Мерзлякова Е. В., 2022. Трудности семантизации лексики на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному // Вестник педагогических наук. № 1. С. 164-167.
- Мызникова Я. В., 2014. Коммуникативные особенности диалектного речевого жанра «рассказ-воспоминание» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. № 4 (28). С. 66-72.
- Мызникова Я. В., 2015. Лексикографические рефлексии диалектоносителя // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета : электрон. науч. журн. № 3 (11). С. 151-154. URL: http://vestospu.ru/archive/ 2015/articles/20_ 15_2015. pdf
- Некрасова Е. А., 1973. Семантические диалектизмы в художественных текстах // Исследования по русской диалектологии. М. : Наука. С. 217-221.
- Новиков Л. А., 2003. Художественный текст и его анализ. Изд. 2-е, испр. М. : Едиториал УРСС. 304 с.
- Плотникова А. М., 2013. Семантизация слова в современных толковых словарях и словарях концептов: новые тенденции // Филологический класс. № 3 (33). С. 47-50.
- Прохорова В. Н., 1957. Диалектизмы в языке художественной литературы. М. : Учпедгиз. 82 с.
- Романова О. И., 2016. Диалектизмы в лексической структуре художественного текста (на материале произведений Б. Екимова) // Научный диалог. № 9 (57). С. 83-96.
- Ручина Л. И., Горшкова Т. М., 2021. Новые подходы к семантизации лексики // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. N° 5. С. 208-221. DOI: 10.52452/19931778_2021_5_218
- Сороколетов Ф. П., 2011. Словарь современного русского языка и его эмпирическая база // Избранные труды / сост. О. Д. Кузнецова, Е. Ф. Сороколетова ; отв. ред. С. А. Мызников. СПб. : Наука. С. 373-378.
- Стародубцева Н. А., Харченко С. Ю., Черницы-на Т. В., 2020. Специфика лексической сочетаемости глаголов эмоционального состояния в региональной художественной прозе // Научный диалог. № 6. С. 162-177. DOI: 10.24224/ 2227-1295-2020-6-162-177
- Супрун В. И., Кудряшова Р. И., Брысина Е. В., 2013. Донская казачья лингвокультура в произведениях Б.П. Екимова: к юбилею писателя // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. № 6 (81). С. 79-85.
- Тупикова Н. А., 2002. Характерологическая функция именной и глагольной лексики в рассказах Е.А. Кулькина // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Вып. 2. С. 47-52.
- Тупикова Н. А., 2014. К проблеме полевого описания лексики в речи диалектоносителей // Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 11 (41), ч. 1. С. 196-200.
- Тупикова Н. А., 2018. О специфике славянской языковой личности в пунктах смешанного проживания донских казаков и украинцев на территориях позднего заселения // Slavia Orientalis. Т. LXVII, № 1. С. 117-127.
- Тупикова Н. А., Стародубцева Н. А., 2020. Отражение тематической области «Работа с животными» в речи носителей донских говоров Волгоградской области // Лексический атлас русских народных говоров (материалы и исследования) 2020 / отв. ред. С. А. Мызников. СПб. : ИЛИ РАН. С. 774-789.
- Филин Ф. П., 1961. Проект «Словаря русских народных говоров». М. ; Л. : АН СССР. 197 с.
- Черноусова О. Н., 2012. Функционирование образных сравнений в художественном тексте и речи диалектоносителей // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. №> 1 (15). С. 219-223.
- Шмелев Д. Н., 1964. Слово и образ. М. : Наука. 120 с.