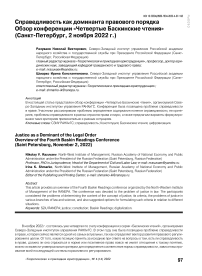Справедливость как доминанта правового порядка обзор конференции «Четвертые Баскинские чтения» (Санкт-Петербург, 2 ноября 2022 г.)
Автор: Разуваев Н. В., Шмарко И. К.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Обзоры
Статья в выпуске: 4 (14), 2022 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье представлен обзор конференции «Четвертые Баскинские чтения», организуемой Северо-Западным институтом управления РАНХиГС. Конференция была посвящена проблеме справедливости в праве. Участники рассматривали проблемы определения содержания понятия справедливости, ее критериев, проблемы справедливости в разных отраслях права и науки, а также предлагали варианты формулирования таких критериев применительно к разным ситуациям.
Сзиу ранхигс, справедливость, конституция, баскинские чтения, цифровизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14126276
IDR: 14126276 | DOI: 10.22394/2686-7834-2022-4-97-108
Текст статьи Справедливость как доминанта правового порядка обзор конференции «Четвертые Баскинские чтения» (Санкт-Петербург, 2 ноября 2022 г.)
В ноябре 2022 г. состоялась уже четвертая по счету конференция из серии «Баскинских чтений», организуемая Северо-Западным институтом управления РАНХиГС. В этом году она была посвящена проблеме справедливости в праве, которая сейчас является одной из самых актуальных, так как определяет вектор развития правового регулирования в целом. От того, какую позицию принять за исходную при ответе на вопросы о том, есть ли справедливость в праве, должна ли она отражаться в норме или позитивное право вовсе не имеет отношения к такому понятию, можно ли вывести универсальные критерии для определения соответствия нормы справедливости, зависит выстраивание всей последующей системы нормативного регулирования.
ОБЗОРЫ
Программа конференции включала в себя пленарное заседание и три дискуссионные сессии: «Справедливость как основа “живого права”: вопросы теории и истории» (модератор — заведующий кафедрой гражданского и трудового права СЗИУ, доктор юридических наук Н. В. Разуваев), «Справедливость как основа публично-правового регулирования» (модератор — декан юридического факультета СЗИУ, доктор юридических наук С. Л. Сергевнин) и «Справедливость как базовый принцип регулирования в частном праве» (модератор — заведующий кафедрой правоведения, кандидат юридических наук М. В. Трегубов).
В рамках пленарной части конференции участники вспоминали Юрия Яковлевича Баскина, который значительную часть своих трудов посвятил философии права, включая вопросы этики и моральных оснований нормативного регулирования. Константин Константинович Лебедев 1 вспоминал творческий путь этого выдающегося ученого-правоведа, методологические подходы, которые он использовал, основные труды, которые легли в основу развития соответствующих направлений в международном праве и теории и истории права. Константин Константинович справедливо отметил, что фактически каждый мыслитель, который пытается разобраться в сущности, истоках назначении права, приходит к философским рассуждениям о праве и государстве.
Андрей Юрьевич Бушев 2 обратил внимание, что в основу текста и нормативных положений Конституции изначально заложена справедливость, о которой говорится в преамбуле. Отсутствие четкого определения справедливости как правового явления не препятствует, а наоборот — создает плодотворную почву для развития юридической мысли и методологии. Чаще справедливость определяют через специфику отношений между более сильной и слабой стороной, через предоставление гарантий, дополнительных прав, возможностей слабой стороне.
Вторая характеристика, которая придается термину «справедливость» — это установление баланса между равными участниками отношений через предоставление определенных прав и обязанностей, поддерживающих равенство. Справедливость является принципом, пронизывающим все отношения, и представляется, что каждая норма основывается на данном принципе. Справедливость тесно связана с равенством, и юридическое равенство — это есть суть справедливости. Общепризнано, что под юридическим равенством нужно понимать уравнивание, а не абсолютное равенство в части предоставления возможностей и запрете дискриминации.
В этой связи А. Ю. Бушев вспомнил слова Ю. Я. Баскина о том, что справедливость — это то, что все ощущают, то есть это такое явление, которое пронизывает человека изнутри. Еще одним проявлением принципа справедливости в правоприменительной практике, по мнению Андрея Юрьевича, является исследование и учет фактических обстоятельств при рассмотрении дел, а не буквальное следование тексту закона. Он также обратил внимание, что этимология термина «справедливость» тесно связана с правосудием. Справедливость невозможна без правосудия, состояние справедливости достигается в том числе и через создание судебной системы, беспристрастных судов.
Китайские коллеги из Северо-Западного института политики и права (КНР) говорили о реализации принципа справедливости в рамках гражданского и уголовного права и уголовного процесса.
По словам Бу Янъяня 3, в процессуальном праве справедливость, с одной стороны, является целью уголовного процесса, а с другой — соблюдаются определенные установленные процедуры, обеспечивающие защиту прав и свобод индивида. Таким образом проявляется уважение к субъектности лица, подвергающегося преследованию, и реализуется фундаментальное положение о том, что государство должно предотвращать ошибки при установлении фактов. Так, при введении института заочного рассмотрения уголовного дела в отсутствие обвиняемого достигается справедливый баланс между публичными интересами в части прав на эффективное правосудие и частными интересами, так как установленные процедуры наделяют обвиняемого правом выбора присутствия или отсутствия на процессе лично или в лице представителя.
При этом в целях защиты прав на справедливое судебное разбирательство выбор заочного формата не может быть произвольным, а должен использоваться только в случаях, прямо предусмотренных законом, который является актуальным. Например, может предусматриваться право на заочное рассмотрение дела в случае тяжелого заболевания обвиняемого, а также обеспечиваться соблюдение всех требований, чтобы обвиняемый был надлежащим образом уведомлен о том, что в отношении него рассматривается дело.
Тянь Ифей 4 отметила, что крайне важно опираться на принцип справедливости в рамках регулирования деятельности интернет-платформ, которые приобретают всё большее самостоятельное значение, становятся центрами производства, самоорганизации и развлечения. Сейчас интернет-платформы берут на себя большую часть организационных и управленческих, социальных функций, получают контроль над информацией и построением кредитных механизмов в рамках личного рейтинга доверия гражданина.
Неконтролируемое развитие цифровых платформ создает серьезные социальные риски и может вызвать информационный кризис. Правовое регулирование платформ вышло за рамки коммерческого регулирования и распространилось на уровень национального управления. Здесь мы сталкиваемся с проблемой применения принципа справедливости правового регулирования интернет-платформ. Осуществление власти со стороны платформ также подвержено злоупотреблениями, частное право ограничено своей способностью регулировать интернет-платфор-мы, а пользователи в рамках гражданских правоотношений бессильны против платформ.
ОБЗОРЫ
Выход из этой ситуации видится в построении диалога государственной власти и интернет-платформ в виде сотрудничества на основе государственно-частного партнерства. Платформы должны строить свою работу и взаимодействие с потребителями на основе принципа справедливости без дискриминации по каким-либо признакам, ограничивая дифференциацию на базе алгоритмов, обеспечивая равный доступ пользователей ко всем услугам. Для этих целей должно быть установлено соответствующее нормативное регулирование.
Николай Викторович Разуваев 5. Конечно, категория справедливости, если исходить из любой парадигмы: естественно-правовой, социологической, постклассической, конструктивистской, является одной из фундаментальных. Она лежит в основе и юридической картины реальности, и правовой реальности как сконструированного в процессе идейного взаимодействия субъектов правового пространства. Это признавали и мыслители прошлого. Как писал Аврелий Августин, «при отсутствии справедливости, что есть государства, как не большие разбойничьи шайки; так как и сами разбойничьи шайки есть не что иное, как государство в миниатюре»6.
Можно вспомнить, как полемизировал с этим Ганс Кельзен, полагавший, что правовая нормативность связана не с ценностными критериями, включая справедливость, но исключительно с принудительностью правовых норм, получающих легитимацию со стороны адресатов7. На наш взгляд, значение принципа справедливости в праве сводится к тому, что конструирование реальности начинается с каких-то фундаментальных категорий, по которым у участников коммуникации возникает некое первичное согласие, на основе которого участники правовой коммуникации интерсубъективно конструируют правовое пространство, правопорядок, правовую реальность.
Исходя из этого, можно утверждать, что справедливость, бесспорно, не является единственным исходным условием, подлежащим уяснению и согласованию в рамках коммуникации, но это одна из важнейших содержательных категорий, на которых базируется правопорядок. Значение это проявляется не только в синхронном плане, но и в диахронном, на любой из стадий эволюции правопорядка, как некая историческая предпосылка. Если задаться вопросом, что было в начале: норма или субъективное право, то мне кажется, что все-таки первичны субъективные права, конкретные юридические взаимодействия между участниками коммуникации.
Результатом типизации этих взаимодействий, придания этим субъективным правам и обязанностям свойства общезначимости становится нормотворчеcтво на определенном этапе. Здесь идея А. В. Полякова о взаимном признании субъектов правовой коммуникации является ключевой в рамках рассмотрения процесса достижения такого консенсуса8. Действительно, взаимное признание субъектами правовой коммуникации друг друга и есть та самая первичная предпосылка, на основе которой формируются и субъективные права, и обязанности, и нормы. Признание друг друга как равных субъектов как один из важных аспектов справедливости играет конституирующую роль в коммуникации, правопорядке на любой стадии развития общества.
Игорь Вячеславович Левакин 9. В этике справедливость — категория, означающая положение вещей, которое соответствует нашим представлениям о добре и зле. Как писал В. С. Нерсесянц, справедливость в либертарно-юридической теории с позиции нормы определяет меру свободы на основе равенства. Эта фундаментальная идея либертарной теории, которая превращает справедливость из морально-этической категории в категорию юридическую, отражающую идею равенства как квинтэссенцию разума.
Исходя из мысли академика Г. В. Мальцева, который писал о том, что право в социо-нормативной системе взаимодействует с другими социальными регуляторами и задача конституционализма привести общественное отношение в соответствие с конституцией, которая тоже использует и нравственность, и справедливость в качестве социальных регуляторов. Мы видим выстраивание права на основе справедливости, начиная с Законов Ха-мурапи, в римском праве (Jus ect ars boniet aequit — «Право есть искусство добра и справедливости»), в Великой хартии вольностей 1215, в различных поколениях конституций разных государств.
Таким образом мы видим, что между конституционными и нравственными нормами существует связь. Практически любой законодатель демонстрирует внутреннюю моральность закона, выражая общественные моральные установки и воздействуя на глубинные паттерны общества. Конституционная нравственность в виде «справедливых требований морали в демократическом обществе» закономерно входит в стандарты современных универсальных международно-правовых актов, решения Европейского суда по правам человека и т. д.
Таким образом, нравственные нормы, справедливость, содержащиеся в основных законах, корректируют условия и пределы реализации прав и свобод человека. Остается, конечно, вопрос о том, тождественны ли они воле или
ОБЗОРЫ
произволу суверена или соответствуют сущности справедливой, максимально основанной на принципе формального равенства нормы.
Поляков Андрей Васильевич 10. О связи права и справедливости можно говорить исходя из разных подходов и ссылаясь на разные источники. Меня интересует проблематика справедливости во взаимосвязи с данными современной биологической науки, нейронауки, которые в свою очередь опираются на эволюционную теорию. Естественные науки представляют данные, предлагающие нам скорректировать свои представления в рамках гуманитарных знаний. В первую очередь речь о том, что сама потребность в справедливости далеко не случайна. Справедливость — это свойство самого человеческого самосознания, которое необходимо для того, чтобы адаптироваться к окружающей среде, при помощи представлений о справедливости преодолевать внутренние противоречия, существующие в обществе и тем самым оптимизировать собственное существование в окружающей среде.
Сами представления о справедливости опираются на идею ценностей, без которых невозможно говорить о человеческом существовании в обществе. Процесс эволюционного развития строится с одной стороны на том, что называется индивидуальным отбором: каждый человек развивает свою собственную личность и самоорганизовы-вает себя так, чтобы наилучшим образом предстать перед окружающими его людьми, показать свое достоинство, профессионализм, отсюда потребность индивидуального саморазвития выражается через свободу, получение информации, применение своих навыков. Ценность личности в ее свободном развитии и человеческом эго, индивидуальности. С другой стороны, тот же эволюционный процесс способствует тому, что наряду с ценностями личности существует ценность коллектива, общества, государства. В этой области главной ценностью является альтруизм, который требует не личностного признания своего эго, а беззаветного служения общим целям.
Строго говоря, эти две базовые ценности, которые существуют в обществе, абсолютно необходимы, и одно без другого не дает нормально развиваться обществу. Такой связью между этими двумя ценностными полюсами выступает идея, механизм взаимного признания, кооперации, который также эволюционно совершенно необходим. Именно взаимное признание является основой того, что мы называем право. Право порождает то, что в либертарной теории называется справедливостью формального равенства. Признание своих не всегда означает признание чужих по разным обстоятельствам, что вызывает состояние войны и агрессии. Как бороться с деструктивной агрессивностью и способствовать взаимопониманию обществ — глобальная самостоятельная проблема.
Ромашов Роман Анатольевич 11. Мы часто начинаем использовать какой-то термин, и иногда такой термин может «забалтываться» — например, заболтали категории гражданского общества, правового государства, в которые сейчас каждый вкладывает собственное содержание. Я бы хотел рассмотреть в этом отношении содержание понятия «живое право». Изначально концепция живого права строилась на идее, что основа для развития права лежит не в законодательстве, а в самом обществе. Далее в американской традиции содержание живого права рассматривалось как судебное право, возникающее в результате деятельности судов. Именно судьи формально не связаны содержанием источников права и в определенных ситуациях могут пренебречь официальными государственными текстами нормативных актов.
В российском праве доктрина живого права изучается в том числе в рамках конституционного правосудия, и термин «живая Конституция» активно используется и применяется. Техника законодательства рассматривается как преобразование, внесение текстуальных изменений в рамках изменения законов и внесение смысловых изменений в конституционный текст при толковании, даваемом Конституционным Судом. Во всех случаях живое конституционное законодательство находится в непосредственной зависимости от законодателей и государственной власти. Что касается проблемы справедливости в современной концепции живого конституционного права, то, на мой взгляд, в современной теории права справедливость рассматривается в разных аспектах: как синоним права, как формализованная справедливость, в качестве оценочной категории преимущественно в процессуальном праве, в качестве самостоятельной категории как противопоставление «право — справедливость» в оппозиции нормативному акту.
В гражданских отношениях речь идет о соотношении субъективных прав, где для сторон справедливо то, что соответствует их представлениям о справедливости. В административном и уголовном праве справедливость, как одна из целей наказания, сводится к определению размера санкции соответственно степени общественной опасности. Таким образом, можно констатировать, что сейчас само понятие права приобретает неопределенность, позволяющую сосуществовать одновременно разным явлениям: социальное живое право, государственное, естественное право. Всё это приводит к неопределенности содержания понятия справедливости, которое также не представляется возможным однозначно определить. Конструкция российского живого права причудливо сочетает нормативное право и живое как возможность беспрерывной адаптации законодательных текстов к внешним обстоятельствам.
Архипов Владислав Владимирович12. С научной, методологической точки зрения, на мой взгляд, в праве понятиям серьезности и несерьезности уделяется недостаточно много внимания. Обычно уделяется внимание социальной значимости. Исследование игр как культурного фундаментального явления, которое может предвосхищать саму культуру и цивилизацию, дает нам основание говорить, что обсуждение этих тем может быть своевременным в самых разных вариантах. Йохан Хёйзинга писал, что игра, доведенная до абсурда, позволяет говорить об отсутствии различия между игрой и серьезностью13. С внутренней точки зрения игроки руководствуются не только техническими правилами, а некими внутренними убеждениями о том, как в игру можно играть. Игра существует, поскольку участники игры находятся в условиях взаимного ожидания поведения по определенным правилам и взаимного признания друг друга как участников, что по сути близко к коммуникативной концепции права Андрея Васильевича Полякова. Использование такого подхода позволяет включить его в качестве методологической основы в рамках аналогии права. Помимо взаимного правового признания важно отметить еще проблему понятия серьезности, которая заключается в том, что не все, что серьезно, является значимым, и наоборот. Определение серьезности в чистом виде не встречается в зафиксированном виде в какой-то области знаний. Серьезность — это некий аспект социальной значимости, который позволяет говорить о потенциальном влиянии воздействия какого-то объекта внутри системы или на систему с внешней стороны. Моральность права, кажется, тоже можно дополнить принципом, что право может быть и несерьезным, иначе оно в постмодернистскую эпоху может превратиться в симулякр, фикцию.
ОБЗОРЫ
Наталия Владимировна Варламова 14. В рассуждениях о справедливости в праве возникает вечный вопрос философии права, по крайней мере непозитивистского направления, о соотношении справедливости и правовой определенности, так как принято считать, что если в правовом регулировании мы будем ориентироваться на какие-то непризнанные государством стандарты, то это создаст угрозу принципу правовой определенности. Известные решения этого возможного конфликта правовой определенности и справедливости представлены в формуле Густава Радбруха, концепции Роберта Алекси, что только в реальных случаях соображения справедливости должны иметь приоритет перед правовой определенностью, возможность отступать от положений позитивного права только в случаях вопиющей несправедливости.
Но проблема понимания того, что является справедливостью, сохраняется, как и остается требование, чтобы позитивное право соответствовало справедливости. Необходимость устоявшегося и обеспечивающего правовую определенность понимания справедливости становится крайне актуальной. Философия права всю свою историю ищет это понятие и не находит. Ревизия естественно-правовых поисков справедливости была проведена Кельзе-ном, который убедительно показал, что основная масса принципов надпозитивной справедливости в конечном счете приводят при применении их к тому, что то, что справедливо, определяется государством или уполномоченной инстанцией, или это отдается на усмотрение субъектам, и тогда субъективные представления о справедливости признаются, что ведет к нарушению требований правовой определенности. Современные теории права отдают приоритет индивидуализированным, субъективным представлениям о справедливости.
И справедливость того или иного решения в правовой сфере предлагается оценивать с учетом специфики конкретной ситуации, что, по моему мнению, ведет к нарушению принципа правовой определенности. Поиски теоретического понимания справедливости ведутся в основном по пути его формального обоснования, которое в силу формальности будет общеприемлемым. В итоге на текущий момент можно сказать, что справедливость в праве связывается с определенными правилами ее установления и полным отсутствием какого-то содержания самого понятия справедливости. Если рассмотреть содержание понятия справедливости с точки зрения либертарной концепции, где справедливость понимается как формальное равенство, которое в свою очередь понимается как равная мера свободы, то здесь можно говорить, с одной стороны, о сужении содержания понятия, но с другой — это ведет к большей определенности содержания.
Принцип формального равенства как равенства в свободе развертывается в систему принципов и предлагает определенные критерии для оценки соответствия ему принимаемых решений. Этот принцип очерчивает рамки справедливости более конкретным определенным образом и позволяет совместить идею справедливости правового регулирования с требованием правовой определенности, то есть обеспечить эту определенность не только через точный порядок установления тех или иных правил, но и формирование некоего общего понимания справедливости как критерия для оценки законодательных решений.
Александр Николаевич Костюков 15. Здесь уже говорилось, что право, как искусство добра и справедливости, по мнению древних римлян, признается аксиомой, и эта максима представляет интерес потому, что она проложила себе дорогу в праве вплоть до наших дней. Определение справедливости как соблюдение баланса между правами разных лиц характерно для конституционного права. В этой отрасли права ключевые категории не являются сугубо правовыми, а принадлежат к области этического, философского знания: доверие, демократия, справедливость, достоинство, добро, правда, гражданская верность и др. На протяжении всей своей деятельности КС РФ ищет баланс в конституционных конфликтах между индивидом и государством, хотя категория баланса неизвестна Конституции РФ.
ОБЗОРЫ
Категория справедливости дважды встречается в российской Конституции: в преамбуле и в поправке к ст. 75. В качестве самостоятельного конституционного принципа справедливость закрепления не получила. В рамках конституционализма справедливость рассматривается как качество, присущее конкретному правовому регулированию и предполагающее его непротиворечивость, а как общеправовой принцип — означает юридическое равенство и надежность процессуальных гарантий, судебной защиты. Идея справедливости заключена в конституционном принципе равенства как основополагающем принципе правового положения индивида в РФ. В соответствии со ст. 19 Конституции все равны перед законом и судом, а государство гарантирует равенство прав и свобод человека, запрещается дискриминация. Именно в наличии требования равенства в содержании практически всех статей гл. 2 и выражается справедливость как конституционная ценность — например, равные возможности, равный доступ, равные права и обязанности и т. д. Как недостаток Конституции некоторыми авторами отмечается отсутствие в ее тексте указания на принцип социальной справедливости, но он назван в законах об общественных объединениях, политических партиях. Таким образом, можно сказать, что современное государство по своей природе выступает как социально-политический арбитр, который должен установить справедливость с помощью справедливых законов, защищаемых судебной властью, а конституционное право призвано защищать справедливость в качестве непреложной ценности.
Юрий Юрьевич Ветютнев 16. Для меня очевидно, что в современной культуре, не только российской, разворачивается кризис ценностей. Это кризис понимания и кризис легитимности, когда мы либо перестаем помнить истинное содержание ценностей или понимать, почему же они ценны. Проблема правовой формализации и справедливости в рамках теоретического давно является предметом дискуссии. Содержание понятия справедливости не формализовано, хотя можно его найти в уголовном законодательстве как соразмерность наказания деянию, то есть справедливость здесь понимается, по сути, как эквивалентность. И если исходить из этого, то стоит задаться вопросом, почему для нас важна эта эквивалентность, почему важно соответствие между преступлением и наказанием. Достаточно любопытную версию мы обнаруживаем в теории Рене Жирара, который говорит, что в основе справедливости лежит мимесис (подражание), который обусловлен естественными свойствами человека. То есть он пытается объяснить ценность справедливости для нас если не буквально с биологической точки зрения, то как психологической или социальной особенности как склонности человека вознаградить за зло или добро17.
Справедливость — это достаточно позднее явление, на ранних этапах истории человечества эту функцию выполняло жертвоприношение, когда агрессия выплескивалась на относительно случайно выбираемую жертву. Справедливость — усовершенствованная версия жертвоприношения, это уже не случайно выбранная жертва, а тот, кто нанес вред. При таком подходе отпадает проблема незаслуженности наказания, и вторая особенность состоит в том, что решение о наказании принимает не тот, кто непосредственно понес урон, а беспристрастная инстанция. И если принять эту концепцию, то мы увидим, что наиболее напряженные отношения складываются между справедливостью и милосердием.
Если сопоставить принцип справедливости уголовного наказания и принцип помилования, то можно заметить, что эти институты не согласованы между собой. По Жерару, полная реализация справедливости возможна только при полной симметрии: око за око, зуб за зуб. Проявление милосердия является отступлением от принципа справедливости. При том что милосердие представляет собой более высокую ступень в иерархии ценностей, чем справедливость, как отказ от воздаяния. Если отдается предпочтение милосердию, то это может привести к тому, что агрессия не сбрасывается и продолжает накапливаться, и тогда мы можем столкнуться с неконтролируемыми проявлениями агрессии в обществе в непризнанных формах, в том числе в неожиданных. Поэтому проблематика справедливости нуждается в конкретизации, и эта концепция может быть одной из форм этой конкретизации.
Ия Ильинична Осветимская 18. Справедливость является камнем преткновения между основными правовыми концепциями. Проблему соотношения естественного и позитивного права в современной философии права, например, рассматривает Д. И. Луковская в книге «Жива ли справедливость в праве?»19. Чаще эта проблема обсуждается в контексте признания или непризнания приоритета моральных ценностей в праве. Справедливость превратилась в моральную категорию, не вписывающуюся в позитивный порядок, так думают позитивисты. Другие считают справедливость естественной характеристикой права и абсолютной ценностью. Позитивизм предупреждает об опасности смешения права со справедливостью.
Этот спор между позитивистами и представителями естественных теорий права вряд ли будет преодолен. Для позитивистов закон, даже будучи несправедливым, остается законом, он не теряет своей силы и действительности. Среди представителей непозитивистских взглядов право — это поиск справедливости, которая заключается в том, чтобы ко всем подходить с одинаковой мерой. Произвольный и избирательный закон недействителен, и народ не обязан подчиняться такому закону (Г. Радбурх). Основанием действительности права выступает гарантия фундаментальных прав человека. Справедливость — это содержательная правильность, относящаяся к идеальному измерению права. Права человека являются порогом справедливости. Таким образом, в современных теориях естественного права именно права человека представляют собой те требования, которые являются критерием оценки позитивного права.
ОБЗОРЫ
Ревекка Михайловна Вульфович 20. Сущность права, если следовать концепции «живого права» Ойгена Эрлиха, не содержится ни в законодательстве, ни в научных основах права или в правоприменении: она заключена в самом обществе. Возможно, в этом высказывании заключен смысл всех основных положений социологии права. Эрлих включает в содержание справедливости договорное, наследственное право, право на справедливое распределение результатов труда, справедливость и стабильность общества, справедливость индивидуализма, справедливость в сообществе. При этом нет никакой справедливости, которую можно было бы определить раз и навсегда. Методологические основания для изучения права включают изучение реальной структуры общества. Например, для рабовладельца справедливо то, что он сам решает. И если следовать этому взгляду на справедливость, то возникает масса вопросов к окружающей нас действительности. Справедливо ли то, что на территории РФ агломерации присутствуют практически только в европейской части, такое распределение населения по территории справедливо? Различия в уровне качества жизни внутри агломерации и территории страны в целом справедливы?
Неэффективная организация жизни в агломерациях лишает людей возможности реализовывать свои потребности в саморазвитии и приводит к тому, что огромное количество времени тратится на дорогу до работы, на борьбу с низким качеством жизни для отдельных групп населения, в то время как ст. 7 Конституции предполагает, что РФ — это социальное государство, а социальное государство не может быть несправедливым. Поэтому проблема справедливости находит свое прямое отражение в нашей жизни и требует решения.
Елена Владимировна Гриценко 21. Тема цифровых прав в контексте общеправового принципа справедливости и его конституционного отражения в принципах правового государства как принципа равенства имеет важное значение. Сама по себе концепция цифровых прав во многом имеет международное измерение, и появление новых цифровых прав констатируется в международных документах (Хартия глобального информационного общества — 2000, Всемирная декларация принципов построения информационного общества — 2003, Резолюция Совета по правам человека о поощрении, защите и осуществлении прав человека в Интернете — 2018). Во всех этих документах указывается на особое значение права на доступ к информационному обществу, что требует обеспечения соответствующих гарантий со стороны государств.
Все права, которые человек имеет в офлайновой среде, должны защищаться и в онлайновой среде. В РФ цифровые права получили прямое закрепление в ГК, но именно в контексте некоторых гражданских прав и им присущи определенные признаки: реализация с использованием информационных систем и по правилам этих систем. Эти два универсальных признака могут быть распространены на цифровые права в публично-правовой сфере. Если резюмировать судебные, доктринальные подходы в различных правовых системах, то можно выделить две концепции: признание самостоятельного значения цифровых прав как нового вида основных прав либо рассмотрение их как новые элементы, изменяющие и дополняющие нормативное содержание уже существующих конституционных прав. Наверное, оба этих направления будут развиваться. В российской реальности скорее преобладает второй подход.
Если констатировать, что новые элементы цифровых прав достаточно универсальны и значимы с учетом доступа к цифровым системам и обусловлены их использованием, то возникает необходимость контроля за деятельностью этих систем и соответствующей защиты прав пользователей. Как соотносятся правила систем с установленными в законах гарантиями реализации конституционных прав? Действительно ли правила этих систем повышают эффективность реализации прав граждан и не происходит ли подмена существующих нормативных актов актами соответствующих информационных систем? Не возникает ли угроза ограничения прав и превращение цифровых прав не в гарантии, а в препятствия для реализации основных прав. Если взять электронную коммуникацию граждан с органами власти, то в отсутствие общего закона об административных процедурах мы можем видеть отсутствие четкого регулирования данной области взаимодействия граждан и государства.
Основной массив регулирования порядка реализации публичного управления с использованием электронных технологий связан с предоставлением государственных и муниципальных услуг в электронной форме. И развивается это регулирование прежде всего в подзаконных актах. В нормативных актах, которые предполагают информационный обмен с гражданами посредством цифровых технологий, не предусматривается никаких правил такого взаимодействия, правил обработки, модерации обращений, которые на практике существуют. Платформы регламентируют формат обращения, установлены жесткие требования (количество слов, формат приложений, типизация запросов и т. п.), основания для принятия или непринятия обращения тоже отличаются на разных платформах и в разных государственных органах, даже сроки, заявляемые для рассмотрения обращения, могут отличаться.
ОБЗОРЫ
Таким образом практические требования более жесткие, чем определены законом. Нарушение этих правил, установленных платформами, на практике может привести к отказу в рассмотрении обращения. То же можно сказать о шаблонных ответах, получаемых гражданами в ответ на обращения с помощью цифровых технологий, которые по факту не являются ответом на конкретный запрос. Такая ситуация, на мой взгляд, очевидно является нарушением общего принципа справедливости и конституционного принципа правового государства. То же можно сказать о безальтернативности формы коммуникации в исключительно цифровой форме, что также нарушает принцип справедливости, равенства доступа граждан к государственному управлению и к средствам защиты своих прав. Чрезмерный формализм также является нарушением этих требований. Эта проблема требует скорейшего разрешения.
Астафичев Павел Александрович 22. Понятие справедливости — это преимущественно оценочное понятие. Обычно его связывают с соответствием заслуг и признанием, деянием и воздаянием и т. д. Это исторически меняющееся представление о должном, верном, истинном, надлежащем, непроизвольном в общественном отношении. Однако в конституционном праве понятие справедливости имеет не только общефилософское, но и специальное юридическое значение. Справедливость — это конституционный критерий, которому должны соответствовать действия органов публичной власти и других субъектов конституционных правоотношений, то есть они должны руководствоваться принципом верховенства права, не вправе действовать произвольно. Конституционный критерий справедливости предполагает баланс интересов, прав, определенность, требуется сочетание унифицированного и индивидуализированного подходов, разумная предсказуемость этих подходов. Федеративные отношения в современной России находятся на стадии эволюции как перманентного поиска оптимального сочетания централизованного и децентрализованного начал в организации публичной власти.
Например, в период пандемии выявилась необходимость децентрализации определенных функций, в то же время общая тенденция свидетельствует скорее о централизации, что следует, в частности, из концепции единой публичной власти, реализованной в ходе реформы 2020 г. В ходе конституционной реформы 2020-го гл. 3 Конституции претерпела значительные изменения, однако именно федеративные отношения остались во многом неизменными. Перечни предметов ведения субъектов и РФ остались содержательно прежними. С точки зрения конституционализма мы наблюдаем весьма противоречивую модель. Институт прав человека унифицирован и стремится к централизации права вокруг себя, институт разделения властей стремится к децентрализации. Я бы сформулировал такие критерии конституционности законодательства с точки зрения обеспечения справедливости в обществе: это равенство (законодатель не вправе вводить отличия в правах и обязанностях, если этого не требует объективная необходимость) и соразмерность ограничения прав и свобод человека.
Малютин Никита Сергеевич 23. Я хочу показать инструментальные возможности применения категории справедливости в праве. Конституция, закрепляя право на судебную защиту, довольно подробно регламентирует этот вопрос, и много исследований посвящено этой тематике, но остается вопрос, какими характеристиками должна обладать судебная защита, чтобы обеспечивать реализацию основного права на судебную защиту. В ст. 6 Европейской конвенции по правам человека закреплено специфическое право на справедливое судебное разбирательство. Обратим внимание, что категория справедливости появляется в формулировке этого права как некий ориентир в отношении деятельности, которую осуществляет суд. Термин «справедливость» дважды упоминается в тексте Конституции России.
При этом термин «справедливость» неслучайно оказывается в преамбуле, таким образом нас, граждан, это ориентирует на ожидание этой справедливости, а государство в лице своих органов — на обязанность поддержания этой справедливости и выполнения этих ожиданий. Таким образом, суд должен прежде всего ориентироваться на справедливость как ценностную характеристику своих решений. Я предлагаю рассмотреть право на справедливое судебное разбирательство с трех позиций. Это институциональная справедливость, которая выражается в построении судебной системы, в доступе к правосудию, организации тех или иных судебных органов. Процессуальная справедливость, на которую прежде всего ориентирован ЕСПЧ: доступ к адвокату, определенные параметры досудебных стадий разбирательств и др. Самый проблемный вопрос, на который у меня у самого нет еще четкого ответа, — справедливость в деятельности суда и результативность решений, которые он выносит, или так называемая материальная справедливость. В этом третьем аспекте понятия справедливости необходимо сопоставлять друг с другом такие понятия, как «истина» и «справедливость». Суд может исходить из формальных юридических критериев и выносить решение строго на основе норм законов или ориентироваться на некое справедливое разрешение спора, которое может быть не в полной мере в соответствии с буквой закона. И попыток поиска этого баланса мы сегодня не видим на практике. Все это большая область для доктринальных и практических разработок.
Правоприменительная практика должна вырабатывать критерии юридической справедливости в ее материальном аспекте. Я бы для этой цели ориентировался на формулировку Кодекса административного судопроизводства, где в ст. 9 указано, что справедливость в том числе обеспечивается получением гражданами и организациями судебной защиты путем восстановления их нарушенных прав. В этом контексте эффективное восстановление нарушенных прав можно рассматривать как базу для формулирования критериев справедливости в материальном смысле.
ОБЗОРЫ
Павел Юрьевич Ултургашев 24. Я бы хотел рассмотреть с позиции справедливости решение РФ о выходе из Совета Европы. На сегодня условия выхода из Совета Европы заданы федеральным законом, который устанавливает два правила: запрет исполнения решений ЕСПЧ после 15 марта, а по остальным решениям — выплата компенсаций до 1 января 2023 г. Здесь можно констатировать следующие проблемы: вступившие в силу решения ЕСПЧ бывают двух видов, и есть те, которые вынесены гораздо раньше этого закона и инициирования процедуры выхода из СЕ. Заявители по этим постановлениям оказываются в неравном положении с теми, кто обратился в ЕСПЧ после 15 марта, или теми, кто получил свои постановления после 15 марта, кроме того заявители по нескольку лет ждали этих решений.
В период с 15 марта по 11 июня 2022 г. в России не было никаких ориентиров в части определения последствий принятого в марте решения, кроме резолюции ЕСПЧ. Следовательно, в этом интервале такие заявители оказались в ситуации, когда были все основания полагать, что постановления по их жалобам будут исполнены. Это предположение оказалось неверным после принятия закона 11 июня 2022 г. Таким образом, данная ситуация приводит к нарушению принципа правовой определенности. Установлен предельный срок выплаты компенсации — 1 января 2023 г., но за РФ числится более 2000 неисполненных постановлений ЕСПЧ, из которых более 700 касаются именно денежных выплат. Возникает сомнение в возможности осуществить выплату в установленный срок. Какие же пути решения этих проблем?
Примеры из практики Верховного Суда говорят, что он выказывает готовность искать способы достижения справедливости, то есть восстановления прав заявителей. ВС не отказывает в возобновлении производства по делам по постановлениям, вынесенным до 15 марта 2022 г. Второй вариант — это системное решение проблемы через закрепление переходного механизма путем возвращения рассмотрения этих жалоб на российскую территорию, перенос рассмотрения этих жалоб, например, в рамках закона о денонсации Конвенции, который может быть принят. Третий вариант — это ситуация, когда заявители не будут ждать действий со стороны государственных органов, а будут пытаться восстановить свои права с помощью конституционного судебного механизма. В любом случае с позиции соблюдения принципа справедливости эту проблему необходимо решить.
Попондопуло Владимир Федорович 25. Справедливость вообще и в частном праве в особенности определяется самими участниками отношений исходя из их интересов и фиксируется в результате их согласованной воли. Вмешательство третьих лиц, в том числе государства, в эти отношения нередко и искажает эту волю, а следовательно, справедливость. Хорошо, если вмешательство государства основано на правовом законе, принятом для решения социальных, экономических задач. Когда же вмешательство основано на волюнтаризме законодателей, административных и судебных органов — это другое дело. Справедливость и проблематика справедливости актуальны для всех сфер жизни общества, научных отраслей, не только для права.
Например, в экономической науке обсуждаются два подхода: следует ли обеспечивать рыночное равновесие, то есть регулировать все для целей справедливости, или нужно обеспечивать свободный рыночный процесс, реагируя лишь на меняющееся поведение и защищая лишь дискриминируемого участника экономических отношений? Эти два подхода могут быть применены ко всем отношениям. Следует ли обеспечивать общественное равновесие посредством тотального регулирования или нужен свободный общественный процесс, с точечной реакцией в целях защиты интересов «слабой» стороны? Этические нормы, не только законодательные, процедурные порядки, нравственные нормы — это и есть сосредоточение справедливости.
Человек действует исходя из своего интереса, который нужно признать правомерным, если против этого интереса никто не возражает. Я встречался со мнением, что категорию справедливости нужно рассматривать как критерий оценки нравственного, а следовательно, правового, но справедливость и нравственность не объективные критерии оценки правового, они различные в разных обществах. Кто определяет, что нравственно, а что нет? Поэтому надо опираться на интерес человека. Если отклоняющееся поведение причиняет вред другим, то государство должно обеспечивать компенсацию вреда. Насильственная социализация личности посредством насаждения нравственной нормы и нормативных обязанностей вряд ли сможет создать справедливое общество. Идея реализации всеобщего блага предполагает навязывание социумом методологии межличностного общения, в силу чего отдельно взятый субъект вынужден придерживаться принципа взаимности и паритетности, таким образом смещается акцент с прав человека на обязанности, что позволит решить задачу правовой социализации личности.
Такой подход, на мой взгляд, противоречит Конституции, где права и свободы — высшая ценность, которые государство обязано признавать, соблюдать и защищать. Изначально права человека составляют основу правового регулирования, а обязанности раскрываются через способ реализации принципа «не навреди другому». Общество должно строиться на двойном основании: свободе и нравственных принципах, прежде всего законе. Сторонники же идеи первичности социальных функций хотят подменить личный интерес индивида другими побуждениями (со-
ОБЗОРЫ
весть, праведность, альтруизм), но только преследование собственных целей интегрирует целостность индивидов в целостность системы, нет антагонизма между интересами индивида и общества. Единственным методом оценки закона должна быть оценка того, насколько эффективно они защищают права и интересы граждан.
Хохлов Евгений Борисович 26. Государство может являться носителем справедливости. И принцип справедливости оно должно воплощать в системе статутного права. Справедливость — категория относительная, так как она связана с интересами различных социальных групп и субъектов. Интересы также имеют динамичный характер, и представления о справедливом меняются в обществе. Будучи связанной с категорией интереса, справедливость тоже относительная, и существует множество справедливостей. Обращаясь к сфере труда, можно отметить три группы интересов: работодателей, работников и общесоциальные, которые представляет государство.
Возникает проблема согласования этих интересов, а значит, и достижения справедливости. Если взять, например, сферу гражданского права, есть такое понятие, как справедливая цена, и критерий справедливой цены будет отличаться со стороны продавца и покупателя. Но их объединяет совпадение интересов «продать — купить», и они в итоге придут к соглашению. Обеспечение справедливости в сфере трудового права достигается по линии публичной власти, которая устанавливает статутное право, и по линии частных субъектов, которые согласуют свои интересы и таким образом обеспечивают справедливые условия применения труда. Согласование политики государства и частноправовых соглашений — это большая сложность. Существует понятие принципов социального партнерства, и в рамках реализации этих принципов и обеспечивается согласование интересов для достижения справедливости.
Традиционная форма согласования интересов — проведение переговоров. Но я бы хотел обратить внимание на другое направление социального партнерства, которое давно развито в так называемых цивилизованных странах, но совершенно не развито у нас — это участие работников в деятельности бизнеса. В ТК есть понятие «участие в управлении», но это чересчур узкий подход, речь скорее надо вести об участии работников в делах работодателей. Мне кажется, что это направление для нас очень перспективно, тем более в советскую эпоху оно развивалось и определенные достижения в этом направлении были. Право на участие работников в делах работодателя реализуется средствами трудового и гражданского, корпоративного права. Существует финансовое участие и организационная форма участия. На мой взгляд, развитие этого направления обеспечило бы возможность создания справедливых условий применения труда и стабильность общества. Что касается государства, то оно могло бы стимулировать развитие этой формы взаимодействия работников и работодателей (получения акций, опционы, особые организационные корпоративные формы и др.).
Новиков Андрей Алексеевич 27. Принцип справедливости в наследственном праве выражается, прежде всего, в переходе имущества наследодателя к тем лицам, которые считаются достойными получить наследство либо в силу закона, либо завещания. Получение наследства недостойными наследниками считается несправедливым. При этом приоритет отдается воле наследодателя в определении достойности наследников: например, если после недостойного поступка в пользу наследника составлено завещание, то такой наследник имеет право на наследство. Недостойными закон считает наследников, которые уклоняются от содержания наследодателя при определенных обстоятельствах, которые не исполняли свои обязанности, например, по уплате алиментов.
Но человек, недостойный с морально-нравственной точки зрения, может не считаться таковым с позиции закона. Таким образом расходятся общепризнанные представления о морали и нравственности с положениями наследственного права в части прав наследников. Или, например, наследодатель оставляет имущество в пользу совершенно постороннего лица, оставляя без наследства достойных с точки зрения морали и нравственности наследников. Такая ситуация тоже может оцениваться как несправедливая с точки зрения морали, но с позиции закона она правомерна. Да, есть определенные инструменты, предусмотренные законом, но они не всегда работают и позволяют достигнуть справедливости с точки зрения морали и нравственности.
Иногда толкование закона судом противоречит буквальному тексту закона в рамках судебной справедливости. Например, судебная практика сейчас пошла по следующему пути : наследник банкрота не может отказаться от банкротства, а должен принять наследство, чтобы кредиторы смогли за счет этого имущества удовлетворить свои интересы. Это очевидно несправедливо с позиции наследника, но также не соответствует и закону. Так, мы видим, что понимание справедливости Верховным Судом в наследственном праве иногда приводит к тому, что перечерки-вается смысл норм наследственного права.
Скворцов Олег Юрьевич28. Правопорядок питается двумя фундаментальными идеями — справедливости и свободы, которые представляют между собой единство и борьбу противоположностей. Борьба неразрешима, но является двигателем общественного развития. Если достигнуть крайней справедливости, то это приведет к апатии общества; если крайней свободы — к господству сильных, которые будут подавлять слабых. Баланс между этими крайностями является источником развития прежде всего для права. Справедливость — консерватизм, свобода — либерализм, справедливость — монархия, свобода — демократия, социалистический рынок — рыночная экономи- ка. Конечно, картина не черно-белая, но такое упрощение позволяет понять скрытые смыслы и тенденции, которые влияют на социальные конструкции. Как идея свободы и справедливости проецируется в праве?
ОБЗОРЫ
Идея справедливости — это норма права, а идея свободы — это мягкое право. Такая проекция может быть и в отраслевых институтах, справедливость в институтах вещного права, которое определяет конкретное состояние, а идея договора как антиномия вещного права выражает идею свободы. То же можно сказать о соотношении гражданского и коммерческого права. Гражданское право обеспечивает справедливость, а коммерческое право — господство сильных. Трудовое воплощает в себе реализацию идеи справедливости, частное право — идею свободы. Эти проекции можно делать и на более низкие уровни, они находят свои проявления на уровне институтов. Мне кажется, такой подход мог бы помочь понять, где и когда мы должны говорить о справедливости.
Абрамова Юлия Николаевна 29. Мы переживаем процесс активной цифровизации общественных отношений. Вопрос необходимости цифровизации тех или иных процессов является очень актуальным, и критерий экономической целесообразности не может в этом вопросе быть решающим. Законодательство цифровой экономики должно опираться на нравственные основы. Риск дегуманизации — один из этических рисков цифровизации экономики. Жизнь человека теряет ценность, на его место выходит искусственный интеллект. Можно выделить такие риски, как риск деперсонификации, когда отдельный человек становится постепенно всего лишь частью типизированной по какому-либо признаку группы, риск снижения контроля за информацией о себе.
Все эти риски снижают значение индивидуума по сравнению с искусственным интеллектом и с так называемым искусственным большинством, которое формируется при помощи того же искусственного интеллекта. Увеличивается количество манипуляций человеческой волей, совершаемых в электронной среде. Как следствие, появляется этический риск утраты возможности реализации прав и обязанностей в своем собственном интересе. Мы можем даже не осознавать, что нами манипулируют, и цифровая среда является таким источником манипуляции. На международном уровне сформированы этические принципы, но если анализировать эти принципы на предмет их способности защитить нас от указанных выше этических рисков, то, скорее, наоборот — с их помощью можно легко менять оценку нашего поведения как одобряемого или нет. В целях недопущения искажения истинного смысла законодательства и представлений человека о добре и зле ориентироваться на эти принципы не следует, нужно использовать привычные нормы морали и нравственности. Конечно, они подвижные, живые, поэтому нам остается опираться только на правовые формы, в которых они существуют, например на базовые принципы, прописанные в каждой отрасли права.
Цепов Георгий Викторович 30. Требование справедливости тесно связано с требованием разумности и добросовестности: добросовестное поведение должно быть справедливым. Принцип справедливости поставлен в один ряд с принципами соразмерности и недопустимости выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. Эти принципы упоминаются в ст. 393 ГК. Высшие суды неоднократно рассматривали вопрос применения принципа справедливости (постановление КС № 3-П от 24.02.2004; Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 11.06.2020 № 306-ЭС19-24912).
Один из ключевых вопросов, возникающих в данном контексте, состоит в том, что понимать под справедливостью, как она соотносится со свободой? Следует ли противопоставлять экономическую эффективность и справедливость? Как соотносится экономическая эффективность и социальное равенство? В рамках критики экономизации права высказывается, что норма нравственности должна находиться выше экономической эффективности. Однако противопоставление справедливости и экономической эффективности для целей гражданско-правового регулирования некорректно. Неверно противопоставлять нормы гражданского законодательства и нравственности: правовые нормы должны быть наполнены идеей справедливости, а не противопоставляться ей. Полная формализация права при этом вряд ли возможна.
Представления о справедливости меняются. Несмотря на трудность точного определения, для целей правового регулирования справедливость должна подлежать рациональной оценке, а значит, и экономическому анализу. Полное отсутствие критериев измеримости справедливости в имущественных отношениях приведет к иррациональности в правоприменительной деятельности. Применительно к экономической деятельности выделяют как минимум два основных значения справедливости: в одном случае под справедливостью понимается эффективность; в другом — социальное равенство. При этом у данных определений имеется область взаимного пересечения. В целях реализации принципа справедливости в гражданско-правовых отношениях применяется принцип формального равенства.
Справедливость должна оцениваться исходя из функций хозяйственного общества. Для воплощения идеи справедливости в корпоративных отношениях применяется принцип пропорциональности, основанный на идеях общей цели, ограниченности ресурсов и равной стоимости вкладов. Этот принцип стимулирует участников действовать в обособленных общих интересах. Но возникает серьезная проблема — «проблема безбилетника».
ОБЗОРЫ
В некоторых случаях допускается отказ от принципа пропорциональности (п. 1 ст. 66 ГК), например, при выплате дивидендов и в других случаях. Тогда потерпевшая сторона может апеллировать к справедливости в рамках спора.
Мы увидим также неустранимое противоречие, которое заложено в самом принципе пропорциональности: на каком-то этапе какое-то определенное большинство участников должно принимать значимые юридически решения, но в рамках таких решений может быть нарушен принцип справедливости, например, при игнорировании имущественных интересов миноритарных участников. Что же делать в таком случае? Насколько допустимо в таких случаях вмешательство суда в хозяйственную деятельность общества? Если суд будет активно вмешиваться, не приведет ли это к хаосу в экономической деятельности? С реализацией справедливости в корпоративных отношениях также связана фундаментальная проблема недостатка информации и невозможности предоставить миноритарным участникам данные о деятельности общества в полном объеме.
Насколько это соотносится с принципом пропорциональности? Одним из выходов из таких противоречий, по моему мнению, является такой способ установления справедливости, как побуждение хозяйственного общества при определенных, предусмотренных законом обстоятельствах выкупить долю участия у отдельных участников (акционеров).