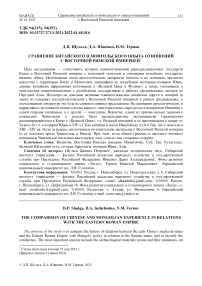Сравнение китайского и монгольского опыта отношений с Восточной Римской империей
Автор: Шульга Д.П., Ющенко Д.А., Тернов Н.М.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: История
Статья в выпуске: 14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования - сопоставить историю взаимоотношений раннесредневековых государств Китая и Восточной Римской империи с политикой монголов в отношении ромейских государств, выявить общее. Источниками стали археологические материалы (монеты и их имитации, предметы искусства с территории Китая и Монголии), эпиграфика из погребений несториан империи Юань, данные китайских нарративных источников о «Великой Цинь и Фулинь», а также упоминания о монгольских взаимоотношениях с ромейскими государствами в работах средневековых авторов из Передней Азии. Несмотря на довольно активные взаимоотношения китайских царств и империй (а также их северных соседей-скотоводов) с Восточной Римской империей в раннем средневековье, в отечественной литературе эта тема не слишком широко представлена. На основании археологических и нарративных источников можно сделать вывод о многочисленных параллелях в восприятии Византии с одной стороны китайцами, а с другой - монголами. Вероятно, одной из причин весьма терпимого отношения Чингизидов к ромеям было распространение несторианства (традиционно ассоциировавшегося в Китае с «Великой Цинь», т.е. Римской империей и её преемниками) к северу от Хуанхэ (в т.ч. в империи Юань в XIV в.). Как китайцы в эпохи Наньбэйчао, Суй и Тан, так и монголы в XIII-XIV вв. были за редким исключением положительны настроены к Восточной Римской империи (и её осколкам вроде Трапезунда и Никеи). При этом, из-за общей границы и высокого военного потенциала Чингизидов последние выступали в этом «союзе» как «старшая» сторона.
Византия, восточная римская империя, наньбэйчао, суй, тан, хулагуиды, великий шёлковый путь, солиды, брактеаты, империя юань, азак
Короткий адрес: https://sciup.org/14125271
IDR: 14125271 | УДК: 94(315), | DOI: 10.53737/2713-2021.2022.61.68.016
Текст научной статьи Сравнение китайского и монгольского опыта отношений с Восточной Римской империей
Взаимоотношения Поднебесной с Византийской империей являются логическим продолжением римско-ханьских контактов (Bueno 2016) по Великому Шёлковому пути1 (Campbell 2016).
В современной историографии ВШИ чаще всего понимается как китаецентричное явление, что не вполне правомерно. Хотя шёлк действительно поставляли из Срединного государства, но роль античного Средиземноморья в общем культурном и экономическом объёме была практически равновеликой. Примечателен тот факт, что взлёт Рима (за точку отсчёта можно взять 201 г. до н.э. — победу во Второй Пунической войне) хронологически близок к долговременному объединению Китая династией Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.). Вполне естественно, что после обретения гегемонии в Средиземноморье Рим стал всё более включаться в международную торговлю, появлялась прослойка чрезвычайно богатых людей, способных платить за импортные товары огромной стоимости. Иными словами, времена, когда консул Регул жаловался на запустение в своём имении в восемь югеров (пусть даже этот факт может быть преувеличен), ушли в прошлое. Шёлковые знамёна были у М. Лициния Красса, шёлковые ткани охотно демонстрировал Г. Юлий Цезарь (Гунн Инъянь 2001). В 30 г. до н.э. Египет превратился в провинцию, Рим стал империей. Первые двести лет имперского периода (многочисленные и колоссальные состояния, приобретённые во время войн; мир и стабильность в Средиземноморском регионе; строительство дорог и портов; укрепление связей между различными регионами, а также развитие мореходства, в т.ч. новые знания о муссонах) — позволили вести масштабную торговлю со странами Востока (Temin 2013: 11). Немалая часть жителей восточных провинций были носителями весьма своеобразной культурной
МАИАСП № 14. 2022
Сравнение китайского и монгольского опыта отношений с Восточной Римской империей традиции, которую уместно назвать эллинистической (на стыке классической греческой, египетской, иранской и семитской)2.
Высокий спрос на роскошь (в том числе — в провинциях) стал движущей силой для процветания римской торговли и развития её по Шёлковому пути в этот период. Древний Шёлковый путь соединял большинство районов Евразии и Северной Африки и являлся культурно-экономическим звеном между Востоком и Западом (Ду Сяоцинь 2017; Гэ Чэнъюн 2018). При этом различные отрезки Пути отличались, как минимум, в культурном отношении, принадлежали к различным политическим образованиям, часть их была зависима от Рима и Хань, часть — нет. О наличии прямых контактов между двумя державами до сих пор ведутся споры. Зачастую роль посредника выполняли иранские государства — Парфия и государство Сасанидов (Ван Саньсань 2018). Коммерческие связи между Хань и Римской империей (в крайней западной точке Великого шёлкового пути) обеспечивали выходцы из Египта, Аравии, Индии, Парфии и Центральной Азии (Чэнь Сывэй 2018). Интересным событием в римско-китайских отношениях отмечено путешествие около 100 г. н.э. Маэса Титиана (Maes Titianusj, выходца с территории Македонии, который, весьма вероятно, достиг Западного Китая. Скорее всего, путь его каравана пролегал через Геллеспонт, Иераполь, Экбатану, Гирканию, Маргиану и Бактрию. Точных данных о том, что купцы из Средиземноморья достигли Лояна, нет. Территория Синьцзяна на тот момент была в вассальной зависимости от Хань. О том, что Титиан всё же достиг Китая, косвенно упоминается в «Хоу Ханьшу» ()нЖ 45, «История Поздней Хань»; составил хронику в V в. н.э. историк Фань Е) и иных источниках (Сюй Годуй 2014: 122).
Торговля с Востоком со стороны Римской империи осуществлялась разными маршрутам и по суше (Freewalt 2014), и по морю: зачастую — через Красное море, Переднюю и Среднюю Азию, либо через Персидский залив в Аравийское море и Индийский океан (Ван Айху 2015; Чэнь Сывэй 2018). Экономический обмен Римской империи с Востоком оказал на её народы и большое социокультурное воздействие, повлиял на образ жизни римлян, расширил их представления о Китае (Hoppal 2011; 2016).
Не секрет, что причины упадка Римской империи до сих пор вызывают множество учёных дискуссий. В отечественной и европейской исследовательской среде часто в качестве основных причин кризиса III в. н.э. называются внутренние военные, политические и экономические проблемы. При этом часто вне зоны рассмотрения оказывается роль международной трансазиатской торговли. Конечно, на настоящее время в Китае ряд исследователей, пожалуй, преувеличивает влияние Шёлкового пути на внутреннее положение в Римской империи (Сюй Годуй 2014), но их наработки могут информационно обогатить русскоязычных историков, изучающих позднюю античность (Ян Гунлэ 2011: 70).
МАИАСП № 14. 2022
Кризисы Римского государства (и это справедливо уже для периода республики) не в последнюю очередь связаны с культом роскоши среди «верхушки» общества (в том числе — императорской семьи), уходом от традиционной «простоты нравов» вследствие изменения экономической системы в процессе завоеваний. Сложно оспорить тот факт, что под руководством таких экстравагантных правителей, как, например, Калигула (37—41 гг. н.э.) или Нерон (54—68 гг. н.э.), имущие слои общества погружались в атмосферу удовольствий и расточительства4. Считается, что шёлковая одежда входит в моду и становится признаком высокой состоятельности со времён Г. Юлия Цезаря (100—44 гг. до н.э.). Однако на рубеже республиканского и имперского периодов Римского государства, в I в. до н.э., по мере развития торговли количество людей, способных позволить себе одежду из этой ткани, росло. Уже второй принцепс, Тиберий (14—37 гг. н.э.), вводит ограничение на ношение шёлковых одежд для женщин, и полный запрет — для мужчин. Объяснялось это тем, что излишняя роскошь вредит нравам. Впрочем, никаких кардинальных изменений не последовало. Потребление «seres» росло, шёлковые ткани всё чаще украшали храмы, обработка (в том числе — окрашивание) восточных тканей с большим размахом велась в восточноримских городах Тир и Сидон в Леванте. Постепенно шёлк становился всё более распространённым, и уже не только аристократы могли его иметь. Основная причина тому — расширение торговых связей между Сересом (так называли римляне Китай и шёлк) 'йДацинъ Ц^Ш, так именовали китайцы Рим) (Хуан Хуанминь 2012: 102).
Борьба с шёлковыми тканями велась и со стороны властей, начиная с постановлений сената 16 г. н.э., заканчивая эдиктами Аврелиана (270—275 гг. н.э.), и со стороны мыслителей, особенно — стоиков. Последние клеймили моду на иноземные ткани как признак вырождения, излишеств и изнеженности. Наиболее яркую критику мы видим у Сенеки, осуждающего тех, кто тратит огромные суммы на товары из стран, неведомых римлянам; а в этом нет никакой необходимости (Сюй Годуй 2014: 126). Между тем по ценности ткани из Китая уравнивались с золотом, ибо служили примерно тем же целям — накоплению богатств и демонстрации своего достатка. Хотя, по мнению сторонников классической простоты, шёлк «наносил» колоссальный моральный вред Риму, его «победное шествие» по империи продолжалось. Во-первых, продолжалось накопление богатств рабовладельческой верхушкой, которая в условиях товарного хозяйства могла легко получить за свою аграрную продукцию «монету» (Scheidel 2008: 28—3 5), тратя её на собственные прихоти. Во-вторых, синхронно с эпохой поздней республики и принципата в Китае правила весьма стабильная династия Хань, обеспечивающая спрос на шёлк на западе в «Дацинь».
Однако экономический обмен «запад-восток» породил проблему: торговый баланс Рима стал отрицательным, то есть драгоценные металлы уходили из империи, что в перспективе отчасти спровоцировало кризис III в. н.э. Таким образом, активный импорт китайского шёлка, с одной стороны, имел негативные последствия для Рима: монета уходила за рубеж; средства вкладывались не в развитие производства, а тратились на покупку «диковин»; в ряде случаев усиливалась эксплуатация рабов; культ воинственности в римском обществе стал отходить на второй план, тем самым понижался мобилизационный потенциал. В то же время, Шёлковый путь «сблизил» две величайшие державы мира: они, хоть и косвенноопосредованно, но составили друг о друге представление, и подчас оно было довольно
МАИАСП № 14. 2022
Сравнение китайского и монгольского опыта отношений с Восточной Римской империей точным в деталях. Например, в упоминавшейся «Хоу Ханьшу» сообщается, что территория Дацинъ простирается на тысячи ли (Ж «ли» — мера длины, равная примерно 0,5 км); на всей этой территории есть почтовые станции, а также более четырёхсот городов с оборонительными стенами из камня. Китайцам было известно, что у Рима есть целый ряд зависимых государств. Описана своеобразная система власти эпохи принципата, когда правитель становился таковым не по праву наследования, а избирался как наиболее достойный (Zuchowska 2015). Это не вполне соотносится с римскими реалиями, но та чёткая грань, которую римляне ставили между терминами тех и princeps показывает, что рациональное зерно в понимании китайцев есть. Вообще Рим в «Хоу Ханьшу» предстаёт некоторым эквивалентом Поднебесной на западе, где люди напоминают китайцев, живя в порядке и довольствии. На это же указывает и наименование «Великая Цинь». Этот топоним можно назвать попыткой «китаизировать» Римскую империю, сопоставив её с одной из великих династий Поднебесной. Династия Цинь, которая объединила царства Центральной равнины во второй половине III в. до н.э., сыграла решающую роль в трансформации Китая в единую империю. «Дацинь» дословно переводится как «Великая Цинь». Очевидно, семантика данного топонима была примерно следующей: «Великое государство на западе, подобное Китаю» (ассоциации с западом проистекали из того факта, что исторически династия Цинь происходила с западных рубежей Поднебесной). Аналогичная ситуация с топонимом «Дася», обозначающим Бактрию, центр Кушанского царства. Ся (Ж) — полулегендарная первая династия, правившая по традиционной хронологии в III — первой половине II тыс. до н.э.
Несмотря на падение Западной Римской империи в V в. н.э., Восточная империя продолжила торговать с Китаем (Freewalt 2015), который в III в. н.э. вступил в полосу кризиса и распада (Ян Гуаньхуа 2016: 8). О торговых связях этого времени свидетельствуют находки монет Юстина, Анастасия и других государей Константинополя в погребениях на территории КНР и Монголии.
На территории КНР встречаются монеты (и их имитации) Восточной Римской империи с изображениями императоров от Феодосия II Каллиграфа7 (408—450 гг. н.э.) до Константина V Копронима8 (741—775 гг. н.э.) (Li Qiang 2015). Вероятно, именно солиды Исаврийской династии завершили длившуюся несколько веков традицию использования ромейского золота на Шёлковом пути.
Очевидную роль сыграли арабские завоевания, из-за которых политическая карта Евразии сильно изменилась. Восточная Римская империя получила серьёзный удар, так что монет басилевсов второй половины VII — начала VIII вв. в КНР не известно. Серебряные монеты халифата постепенно занимают свое место в международной торговле (общеизвестно, что значительное их количество находят вплоть до Скандинавии).
Впрочем, сводить всё к арабскому завоеванию вряд ли правомерно. В V—VI вв. между Поднебесной и Византией также пролегало сильное государство со стабильной серебряной валютой — Сасаниды. Персы также, как и арабы, штурмовали Константинополь (626 г.),
МАИАСП № 14. 2022
занимая на время азиатские владения ромеев (в 542 г. Хоеров Ануширван взял Антиохию, Хоеров II в 614—619 гг. захватил Иерусалим, Египет, и даже Халкидон), однако солиды этого периода (а также их имитации) есть как в Китае, так и в Монголии (Шульга и др. 2020а). Отметим, что «серебряники» шахиншахов в Поднебесной и на сопредельных территориях также присутствуют (Го Юньянь 2006: 5).
Сражение при Пуатье 732 г. стало окончанием победного шествия мусульман в Европе, ускорив, очевидно, наступление кризиса и «Аббасидскую революцию» (747—750 гг.), а также дав основания в перспективе Каролингам официально занять сперва королевский (751 г.), а затем и императорский трон (800 г.). Битва при Таласе 751 г. с одной стороны, остановила продвижение китайского влияния в Среднюю Азию, с другой — положила предел арабским завоеваниям на востоке. Все эти события от Испании до Северного Тянь-Шаня напрямую влияли на Византию и Тан. Восстание Ань Лушаня (755—763 гг.) стало началом для целого столетия смут, войн и мятежей. Экономический потенциал Поднебесной упал, нанеся определённый урон и международной торговле. В Восточной Римской империи на время восторжествовало иконоборчество. Естественно, для Средней Азии и Дальнего Востока это не имело особого значения, но из-за религиозной политики Исаврийской династии наметился раскол между Западной Европой и Константинополем, что несколько уменьшило влияние Византии и в раннесредневековой мировой экономике (а также позволило появиться зачастую враждебному центру силы в лице «Императора Запада» и папства). Указанные выше события, помимо прочего, указывают на прямую связь между событиями, происходившими от побережья Тихого океана до африканских берегов Атлантики.
Так или иначе, и Китай, и Восточная Римская империя вышли из полосы кризисов. В Византии утвердилась Македонская династия (867—1056 гг.) и Комнины (с перерывами, 1057—1185 гг.), а в Поднебесной — Северная Сун (960—1127).
Принципиальная возможность найти солиды в китайских памятниках XI—XII вв. существует . По-видимому, в 1081 г. послы Восточной Римской империи оказались при дворе Шэнь-цзуна, а в 1091 г. было отправлены ответные посольства (судя по тексту «Истории Сун», Я?1£, завершённой к 1345 г.). На данный момент среди исследователей идёт дискуссия, были ли послы из Константинополя, или же происходили из сельджукских владений, захваченных у Византии (Liven 2019).
На наш взгляд, ряд указаний в хронике заставляет склоняться к «восточно-римской» версии. Во-первых, фраза «они делают вино из винограда» скорее соотносится с христианской традицией, чем с исламской, тем более что сельджуки XI в. были весьма ревностными мусульманами (в т.ч. их политика по притеснению христианских паломников стала одной из причин Крестовых походов). Во-вторых, косвенным доказательством может служить указание, что жители Фулинь «в своих уголовных решениях различают серьезные и мелкие преступления. Легкие проступки наказываются несколькими десятками ударов бамбуком; тяжкие преступления до двухсот ударов». Возможно, перед нами своеобразное признание разработанности юридической системы, ведущей свое происхождение от римского права и систематизированной Юстинианом Великим. В-третьих, уж вовсе расходится с завоевательной политикой сельджуков фраза «они не настроены воевать с соседними странами и в случае небольших трудностей пытаются уладить дела по переписке; но, когда на карту поставлены важные интересы, они посылают армию». Восточная Римская империя XI в. как раз занимала скорее оборонительную позицию. В-четвертых, замечание «они отливали
-
9 Впрочем, вряд ли подвергнется пересмотру тот факт, что «золотым веком» солида на Великом Шёлковом пути была эпоха правления императоров от Льва Макеллы (457—474 гг.) до Юстиниана I Великого (527—565 гг.) (Feltham 2009).
МАИАСП № 14. 2022
Сравнение китайского и монгольского опыта отношений с Восточной Римской империей золотые и серебряные монеты без отверстий» явно указывает на византийскую традицию, так как серийных золотых монет мусульманские страны средневековья почти не знали, в отличие от ромеев (Lin Ying 2005), чьи солиды, как мы уже указывали имели хождение в раннем средневековье по всему Шёлковому пути (Li Qiang 2016).
Династия Сун и сельджуки в XIII в. потерпят поражение от монголов, их территория попадёт под власть Чингизидов. Таким образом, возвысившиеся выходцы с северного китайского порубежья10 наконец создали единое политическое пространство от Средиземного моря до Тихого океана.
История монголо-ромейских11 взаимоотношений уникальна. Дело в том, что с большей частью народов Евразии Чингисхан и его потомки воевали (за редким исключением, одерживая одну победу за другой). Удивительно, но отношения монголов с государствами-наследниками Византии были связаны скорее с черноморской торговлей, чем с военной историей региона (Минжин 2014: 35). Ко второй четверти XIII в. территория Монгольской империи была разделена между чингизидами, причем деление «великого наследия» было традиционным для монголов задолго до прихода к власти Чингисхана. По этой же системе вся Золотая Орда была разделена на две части, или два крыла, они по сути являлись государственными объединениями. Территория от Дуная до Иртыша, которая находились под властью Бату — правое крыло, а от Сырдарьи на восток, под властью Орды, то есть старшего Чингизида Джучи — левое. Культурная традиция наделяла стороны альтернативными названиями — передней или основной стороной был юг, именно поэтому жилища у монголо-татар всегда стояли к нему лицом. Север задняя сторона, по этой же логике — восток — левая сторона, а запад — правая. Территория Бату находилась западнее ставки хана Орды и получила название правого крыла, а земли Орды — левого. По этой же традиции стороны «наградили» цветами. Юг — красный, север — черный, запад — белый, а восток — синий (Федоров-Давыдов 1973: 129). Государство фактически распалось и в его «крыльях» проводилась различная экономическая политика. Тем не менее, долгое время. Каракорум оставался основной или «каганской» столицей. Заселив территорию Северного Причерноморья-Приазовья, монголы частично ассимилировались с жившими здесь половцами, и название половецкой степи Дешт-и-Кипчак часто упоминается в источниках как непосредственное название территории орды (Лунин 1949: 83).
Появление новой объединяющей силы в Причерноморье привлекает внимание купеческий государств Италии12. Еще с начала XII в. между Венецией и Генуей началось ожесточенное политическое противостояние за торгово-экономическое господство in confinia mundi. По указания современников, территория рассматривалась как in faucibus inimicorum nostrorum, то есть под властью врагов. В 1169 г. Генуя опередила Венецию, ей удалось добиться для себя хрисовула от императора Византии Мануила I Комнина (1143—1180 гг.). Согласно договоренности, генуэзцы получили исключительное право на торговлю in Маге Maius, как называли Черное море «латиняне». В 1243 г. армия наследников Чингисхана
МАИАСП № 14. 2022
вторглась в Малую Азию и нанесла сокрушительное поражение сельджукам, в результате чего турки окончательно утратили политическое единство. В то же время, с 1250 г., Иоанн III Дука Ватац (1221—1254 гг.) усилил давление на мусульманские бейлики, добившись некоторых успехов. Продолжатель дела своего тестя, Иоанн расширил пределы Никейской державы более чем вдвое, хотя ему не удалось осуществить главную задачу — вернуть Константинополь. Это стало делом Михаила VIII Палеолога (1259—1282 гг.), свергнувшего династию Ласкарисов. Однако, в контексте изменившихся международных отношений и расстановки сил в XIII в. императору было необходимо учитывать новые переменные — идти на компромиссы с окружающими Византию государственными объединениями.
Территория Причерноморья—Приазовья стала неотъемлемой частью мировой экономики в средневековье, включая экономику многих стран «Циркум-средиземноморской» зоны. Важнейшей составной частью черноморско-средиземноморской торговли была торговля в Азовском бассейне, которая обеспечивала выход на необъятные азиатские рынки. Торговая война между итальянскими морскими республиками в XIII в. закончилась победой Генуи. В 1261 г. Генуэзская республика заключила с никейским (а затем и константинопольским) императором Михаилом VIII Палеологом стратегически важный Нимфейский договор, согласно которому Генуя получала монопольное право торговли в Чёрном и Азовском морях. Безусловной заслугой императора можно назвать относительно стабильные отношения с улусами Орды. В 1265 г. широкие торговые полномочия у ордынского хана получили также купцы Венеции, Пизы, а в последующем и Генуи.
К этому времени — к XIII в. — Золотая Орды была разделена на 11 крупных улусов, которые, в свою очередь, делились на более мелкие административные единицы ’. Территория ханов Дешт-и-Кипчака и мамлюков «сливалась» только при необходимости борьбы с общим врагом — Ильханами. Последние же пытались выстроить отношения с населением подвластных и вассальных христианских земель (Западная Грузия, Трапезунд (Карпов 2017: 417), несторианские общины (Тумэнбаяр 2018)1 .
Очевидно, что Михаил Палеолог мог использовать выгодное географическое положение: самым быстрым путём для любых сношений (в т.ч. работорговли (Di Cosmo 2010: 17)) мамлюкского Египта с Золотой Ордой был Босфор (сухопутная дорога контролировалась Хулагуидами) (Баярсайхан 2013: 40). О работорговле в данном регионе следует сказать более широко, так как данный феномен включает в себя многие важные показатели комплекса международных отношений. В силу многонациональности и многоконфессиональности спектр рабов, как и способ их «получения» был широк. Стереотип обычно подталкивает к мысли о том, что рабство закономерный итог военных захватов, но большинство источников сообщают, что подавляющее количество рабов появлялось вследствие обнищания семей под
-
13 Стоит отметить, что границы улусов были условными и довольно расплывчатыми, однако эта ситуация тождественна и для Трапезунда.
-
14 Вот как справедливо описывает ситуацию С.П. Карпов: «Одновременно именно растущая заинтересованность монгольских правителей в выгодах от западноевропейской торговли на их территориях способствовала усилению итальянской колонизации как Крыма, так и Анатолии. И ханы Золотой Орды, и Ильханы в 60—80-е гг. XIII в. как бы соревновались в предоставлении привилегий генуэзцам и венецианцам на устройство факторий. В эти же годы складывается новая система противостоящих политических союзов. С одной стороны — Золотая Орда, Палеологовская Византия и мамлюкский Египет (интересы их, помимо всего прочего, объединяла работорговля через Крым и Константинополь), с другой — держава Ильханов, Западная Грузия, Трапезундская империя. При этом позиции двух греческих государств не были столь определенны: как Михаил VIII, так и Великие Комнины лавировали между могущественными соперниками, временами, как при Георгии Великом Комнине, ища опору в их противоречиях» (Карпов 2017: 417). Если конкретнее, то Георгий, очевидно, состоял в переписке с султаном Бей-Барсом, победителем монголов при Айн-Джалуте, в ходе которой последний убеждал императора совместно действовать против Хулагуидов.
МАИАСП № 14. 2022
Сравнение китайского и монгольского опыта отношений с Восточной Римской империей влиянием различных факторов, например, продолжительной засухи. Ал-Омари писал: «Во время голода и засухи они продают сыновей своих. При избытке ж они охотно продают своих дочерей, но не сыновей, детей же мужского пола они продают не иначе, как в крайности» (Тизенгаузен 1884: 241). Стоит обратить внимание на то, что рынок искусственно регулировали — в годы засухи на корабль допускали не более трех рабов на одного члена экипажа, сдерживая возможную «рабскую инфляцию» (Лейн 2017: 251). Работорговля в Азово-Черноморском регионе велась как для внутреннего рынка, так и для транзитных целей, ориентированных на удаленные рынки принудительного труда невольников. Из Таны-Азака основная масса рабов направлялась в Каффу. Но Каффа — также всего лишь промежуточный пункт, коллектор, в который стекались рабы из всего Приазовья-Причерноморья. Там велся учет их количества, возрастной категории, особенностей внешности, здоровья, национальности, цены. Там же уплачивались налоги за торговлю рабами, затем рабов грузили на корабли вместе с другими товарами и отправляли дальше. Благодаря массариям оффиции св. Антония, становится ясно, что подавляющее большинство рабов направлялось в Египет, однако пути доставки разнились (Карпов 1986: 149). Часто Синоп, Брус, Самос становились промежуточными пунктами, их еще можно назвать центрами реэкспорта. Связано это было как раз с попыткой обойти итальянские центры работорговли Крыма, а также с тем, что формально присутствовало порицание продажи в рабство соплеменников, то есть христиане старались не торговать христианами, а мусульмане мусульманами. Безусловно, работорговля лишь одно из направлений торгово-экономических отношений, но одно из самых прибыльных.
Естественно, будучи в военном отношении слабее всех трёх соседей, да еще и имея необходимость решать проблемы на западе, император Михаил Палеолог был вынужден вести очень осмотрительную политику, дабы не спровоцировать нападение с востока, севера или юга. Дополнительной проблемой были Великие Комнины Трапезунда, которые, относясь к старой династии (правила Восточной Римской империей в 1081—1185 гг.) и будучи вассалами Ильханов (особенно явственно эта зависимость, очевидно, ощущалась с 1260-х по 1330-е гг) (Карпов 2017: 210—213), теоретически могли быть возведены на трон в Константинополе при содействии своих покровителей.
«Регулярные» отношения монгольских улусов с возрождающейся Восточной Римской империей Палеологов начались при Хулагу (1256—1265 гг.). Этот чингизид первым отправил к византийскому императору Михаилу гонца с предложением начать прямые переговоры. Михаил, фактически, согласился стать союзником монголов на Востоке, дабы противостоять сельджукам. Здесь показательна судьба Кей-Кавуса II, которого промонгольски настроенный брат вытеснил в Константинополь, по договорённости с Ильханами бывший конийский султан пребывал на положении почётного пленника, однако в итоге был освобождён силами Золотой Орды в 1265 г. (Баярсайхан 2013: 41).
К слову, отстоять свои интересы, используя распри улусов распадающейся Монгольской империи, пробовали и Великие Комнины. В 1254 г. Мануил I отвоёвывает у турок Синоп, притом, что за год до этого сельджукский правитель получил от Батыя ярлык на управление городом. Видимо, подобный демарш против Золотой Орды встретил со стороны Хулагу одобрение (Карпов 2017: 452—453).
В свою очередь, ханы Золотой Орды так же пытались приспособиться к новым для них условиям. Не стоит пренебрегать тем, что, находясь на стыке цивилизаций и трансконтинентальных торговых путей, политика «огня и меча» была коммерчески невыгодной. Набеги имели стихийный характер и не могли в полной мере удовлетворить потребности развивающегося государства чингизидов, поэтому татаро-монголам пришлось влиться в существующую систему по праву сильного. Для регулирования отношений между
МАИАСП № 14. 2022
иноверцами внутри своего государства ханы наделяли последних полномочиями и правами — выдавали ярлыки. Вопреки расхожему мнению оные выдавались не только на управления или княжение, но и давали право вести различную деятельность. В Причерноморье-Приазовье основной деятельностью была торговая. Данный регион стал камнем преткновения итальянских городов-государств, которые стремясь получить монопольное торговое право, вынуждены были вступать в сношения с ханами.
На осколках Шелкового пути выделяются новые маршруты. Центрами торговли, помимо крупных древних городов и временных перевалочных пунктов, становятся прибрежные итальянские города-фактории Приазовья, которые были своего рода «узлами» между двумя мирами — европейским и азиатским (Рахманалиев 2009: 43—46). В годы правления хана Узбека окончательно складывается политико-административная и экономическая структура Золотой Орды, её основные городские экономические центры. Одним из таких центров стала Тана или Азак (современный город Азов). Город был стратегически важным для лоббирования торговых интересов, не только в Приазовье, но и в трансконтинентальной торговле в целом. Именно поэтому морские республики Генуя и Венеция боролись между собой за торговую гегемонию в Восточном Приазовье (Крамаровский 2001: 209).
Геополитическая картина мира, как было сказано выше, стремительно менялась. В 1204 г. путь в Черное море для Генуи был закрыт, в тоже время в Крыму удалось закрепиться венецианцам. Михаил Палеолог опасался такого стремительного усиления все-таки допустил в свои владения Геную, даровав ей практически монопольное право но торговлю. Исключением были пизанцы, однако их торговые обороты были несоизмеримыми с оборотами Генуи. За 4 года монополии — в 1264 г. — была основана Кафа («о KajaV») (Барбаро 1971: 146). Кафа стала оплотом Генуи и навсегда определила ее основным итальянским торговцем в Тавриде. Венецианцы не оставляли своих стремлений. Дож Джованни Соранцо говорил о том, что Венеции необходимо вести активную торговокоммерческую деятельность, так как от этого напрямую зависит благополучие всех венецианцев, так как город «стоит в море и совершенно не имеет ни виноградников, ни полей». Именно поэтому Венеция ищет новые пути, и уже в начале XIV в. город Тана начинает фигурировать в постановлениях сената (Барбаро 1971: 167). В 1333 г. венецианцы направляют своего посла Андрея Дзено к хану Узбеку, его миссия увенчалась успехом — им было даровано право поселиться на берегу Дона в городе Азак, построив свои кварталы, обнесенные каменными стенами и уплачивать comercium imperiale — налоговый сбор в 3% от торгового оборота в пользу хана15.
Определяющим фактором, который возвысил город Тану-Азак, безусловно являлось ее практически безупречное местонахождение. С точки зрения торгово-политических отношений Тана стала центром пересечения противоположных миров. С одной стороны, католические экономически развитые страны, с другой — огромные пространства, раздираемой внутренними противоречиями — Via Tartaria. Находясь на стыке сухопутных и морских путей и имея огромное транзитное значение, Тана была постоянным предметом споров и раздора между представителями наиболее влиятельных в то время торговых империй — Венеции и Генуи. Именитые кланы всеми силами пытались ограничить влияние друг друга и монополизировать торговлю. В конце XIII в. был издана булла Папы Николай IV, в ней он призвал ополчиться на неверных, в том числе пресечь всякие торговоэкономические сношения16. Позднее, этот документ был подтвержден Папой Бонифацием
МАИАСП Сравнение китайского и монгольского опыта отношений 341 № 14. 2022 с Восточной Римской империей
VIII и Бенедиктом IX, а вот Папа Климент V пошел дальше и запретил торговать не только с Сирией, но и с Египтом. Такой запрет должен был лечь тяжким грузом на стремления Генуи и Венеции к построению разветвлённой евразийской торгово-экономической сети. Отныне, единственной удобоваримой возможностью для совершения их сделок оставалось Приазовье-Причерноморье, потерять данный регион означало потерять всю торговую сеть и надежный экономический коллектор восточнее р. Днепр.
Торговые преференции республик определялись ханскими ярлыками, фактически государственными указами. Всего известны три таких ярлыка: хана Узбека 1333 г. и хана Джанибека 1342 и 1347 гг. О них мы можем судить по переводным копиям, сохранившимся в архивах Генуи и Венеции. С конца 70-х гг. XIV в. система документоведения в этих республиках была хорошо отлажена — акты и другие важные документы копировались и обязательно передавались в архивы.
Учитывая это, геополитическое значение Таны возросло еще сильнее, метрополии пристально следили за своими подданными в Золотой Орде, боясь возможных конфликтов17. Стоит обратить внимание, на то, что «хозяин Таны» — наместник Орды в Азаке совершенно не обременял себя дифференциацией венецианцев, генуэзцев и прочих, следовательно, если возникали конфликты, то для татарского правосудия были виновными все латиняне. Во избежание эскалации напряженности между ними Джанибек определил границу между района их проживания в Тане, однако это не возымело успеха. Таким образом, мы видим, что выходцы из двух частей распавшейся Римской империи, латиноязычного Запада и грекоязычного Востока одновременно продолжали взаимодействовать с номадами (потомками северокитайских дунху) в развитое средневековье.
Как уже говорилось выше, занявший Константинополь Михаил был вынужден выстраивать конструктивный диалог с двумя государствами Чингизидов, а также с мамлюками. В отличие от окружённого горами компактного Трапезундского государства, империя Палеологов была куда более уязвима к внешним вторжениям, да и посредничество в торговле союзников, ордынцев и мамлюков, сулило Константинополю немалые выгоды18 (Laiou-Thomadakis 1980) В итоге была избрана вполне плодотворная политика династийных браков. Две внебрачные дочери императора, Мария и Ефросинья, должны были укрепить позиции Византии на внешнеполитической арене, обезопасив восточные рубежи государства. Мария стала женой ильхана Абаги (1265—1282 гг.), её сестра же вышла замуж за могущественного беклербека Ногая, с 1270-х гг. фактически независимо правившего западными регионами Золотой Орды (Баярсайхан 2016: 78)1 .
Очевидно, что ромейские государства использовали разгром монголами сельджуков (и последующую борьбу улусов между собой и) для собственного усиления. Впрочем, по мере того, как Золотая Орда и государства Хулагуидов всё более теряли централизованное
МАИАСП № 14. 2022
управление, «регулярные» взаимоотношения между ними, Константинополем и Трапезундом ослабевали.
На основании рассмотренных выше фактов, можно, на наш взгляд, сделать вывод о том, что отношения ромеев и с Китаем, и с монголами были по большей части благожелательными (и оставались таковыми даже тогда, когда Чингизиды пришли в Малую Азию). Известный своими представлениями о собственной исключительности Китай на протяжении тысячелетия (от Хань до Сун) воспринимал империю со столицей в Риме или Константинополе как равную в культурном, экономическом и политическом смысле силу. Если сопоставить описания Фулинъ XI в. с информацией о Дацинъ из «Истории Поздней Хань», описывающей реалии I—II вв. н.э., то можно выделить стремление китайцев указать на достойные (с точки зрения конфуцианства) качества, например, миролюбие21 и опору на дипломатию.
Пришедшие на запад Азии монголы, казалось бы, имели совершенно иную систему культурно-политических приоритетов. Но на деле их отношения с Трапезундом и Константинополем не так уж сильно по духу отличались от описанных выше. Удивительно, но от соседства с Чингизидами ромеи пострадали меньше, чем от прочих сопредельных государств и народов: персов, славян, католических правителей Европы (Tinnefeld 2015), тюркских народов, арабов и т.д., опровергая тем самым, сложившийся стереотип в исторической науке. Сложно сказать, было ли подобное дружелюбие унаследовано Чингизидами от Китая (с которым протомонгольские племена находились в тесном контакте еще с кон. I тыс. до н.э.), необходимостью построения спокойствия и мира в своем оплоте или же стало следствием сложившейся на Ближнем Востоке политический ситуации. Определённую роль могло сыграть и несторианство.
В самой Монголии «культурные семена», выпущенные когда-то в Азию из Константинополя, продолжали давать плоды. Ярким примером может служить находка на могильнике Аолуньсуму (^f^^T^I^J^^^Slrl) (хошун Дархан-Муминань городского округа Баотоу, Внутренняя Монголия, КНР). Здесь найден сломанный надгробный памятник высотой 1,2 м и шириной 0,4 м. На нём сохранилась трёхъязычная надпись (на китайском, монгольском и сирийском языках) и изображение креста. Иероглифы расположены в два ряда, текст гласит: «t^t^^+A^, #ЙИ^АЛ^ +ИН», что можно перевести как «почил в тридцать шесть лет, в двадцать четвёртый день шестого месяца четвёртого года правления Тайдин-ди». Напомним, что последний правил в 1323—1328 гг. Усопший принадлежал к племени онгутов, его имя по-китайски передано как «^ТС^^й^Т^^Ж» (Аулабянь Темуцзясы). Он сделал хорошую карьеру и долгое время имел звание даругачи, очевидно, контролировал чиновников не-монголов в пригородах столицы (Вэй Цзянь, Чжан Сяовэй 2013: 204—205). Перед нами яркий (и не единичный) пример жизненного успеха монголоязычного несторианина в эпоху объединившей Китай монгольской династии Юань.
МАИАСП № 14. 2022
Сравнение китайского и монгольского опыта отношений с Восточной Римской империей
Список литературы Сравнение китайского и монгольского опыта отношений с Восточной Римской империей
- Барбаро И. 1971. Путешествие в Тану. В: Скржинская Е.Ч. (пер.). Барбаро и Контарини о России. Ленинград: АН СССР.
- Карпов С.П. 2017. История Трапезундской империи. Санкт-Петербург: Алетейя.
- Карпов С.П. 1986. Работорговля в южном Причерноморье в первой половине XV в. ВВ 46, 139—146.
- Карпов С.П. 2001. Венецианская Тана по актам канцлера Бенедетто Бьянко (1359—60 гг.). В: Причерноморье в средние века 5, 9—26.
- Крамаровский М.Г. 2001. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой Орды. Санкт-Петербург: Славия.
- Лунин Б.В. 1949. Очерки истории Подонья-Приазовья. Кн. I. Ростов-на-Дону: Ростиздат.
- Лейн Ф. 2017. Золотой век Венецианской республики. Завоеватели, торговцы и первые банкиры Европы. Москва: Цетрполиграф.
- Рахманалиев Р. 2009. Империя тюрков. Великая цивилизация. Москва: Рипол классик.
- Тизенгаузен В.Г. 1884. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. I. Извлечение из сочинений арабских. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук.
- Шульга Д.П. 2020a. Имитации византийских монет в Нинся-Хуэйском Автономном районе. ВВ 104, 104—112.
- Шульга Д.П. 2020b. Монеты Восточной Римской империи в Китае как отражение ситуации на Шёлковом пути. МАИАСП 12, 774—788.
- Шульга Д.П., Мерзликин А.А. 2016. «Вертоград полководца» Чжугэ Ляна на стыке дисциплин. Новосибирск: Омега-принт.
- Шульга и др. 2020a: Шульга Д.П., Гирченко Е.А., Филатова М.О. 2020. Восточно-римские монеты из Северной Монголии и их имитации. Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий 26, 695—701.
- Шульга и др. 2020b: Шульга Д.П., Чень Ц., Головко Н.В. 2020. Кочевой мир, Греко-Бактрийское царство и Китай: этнокультурная ситуация на юге Центральной Азии. Schole. Философское антиковедение и классическая традиция 14 (2), 587—608.
- Фёдоров-Давыдов Г.А. 1973. Общественный строй Золотой Орды. Москва: МГУ.
- Bueno A. 2016. Roman Views of the Chinese in Antiquity. Sino-Platonic papers 261, 1—21.
- Campbell D. B. 2016. Did the Romans have links with the Far East? Ancient Warfare X(2), 45—49.
- de Graaf W. J. 2018. The Silk Road in the Mongol Era. Tilburg: Tilburg University research.
- Di Cosmo N. 2010. Black Sea Emporia and the Mongol Empire: A Reassessment of the Pax Mongolica. Journal of the Economic and Social History of the Orient 53 (1-2), 83—108.
- Feltham H. B. 2009. Justinian and the International Silk Trade. Sino-Platonic papers 194, 1—34.
- Freewalt J. 2015. Justinian and China connections between the Byzantine Empire and China during the reign of Justinian I. Late Antiquity and Byzantium. Charles Town: American Military University Press.
- Freewalt J. 2014. Rome and China: connections between two great ancient empires. The Roman Republic and Empire. Charles Town: American Military University Press.
- Hirth F. 1913. The Mystery of Fu-lin. Journal of the American Oriental Society 33, 193—208.
- Hoppal K. 2016. Contextualising Roman-related Glass Artefacts in China. An Integrated Approach to Sino-Roman Relations. Acta Archaeologica 67 (1), 99—114.
- Hoppal K. 2011. The Roman Empire According to the Ancient Chinese Sources. Acta Antiqua 51 (3), 263—306.
- Laiou-Thomadakis A. 1980. The Byzantine Economy in the Mediterranean Trade System: Thirteenth-Fifteenth Centuries. Dumbarton Oaks Papers 34/35, 177—222.
- Li Qiang. 2016. Discussion on Byzantine Numismatic Research Excavated on the Eurasian Steppe Silk Road and Desert Oasis Silk Road. Steppe Cultural Relics 1, 109—112.
- Li Qiang. 2015. Roman coins discovered in China and their research. Eirene. Studia Graeca et Latina 51, 279—299.
- Lin Ying. 2005. Solidi in China and Monetary Culture along the Silk Road. The Silk Road Journal 3 (2), 16—19.
- Liveri A. 2019. Fu-lin dances in medieval Chinese art — Byzantine or imaginary? Zbornik radova Vizantološkog instituta 56, 69—94.
- McLaughlin R. 2016. The Roman Empire and the Silk Routes: The Ancient World Economy and the Empires of Parthia, Central Asia and Han China. Barnsley: Pen & Sword Books Ltd.
- Scheidel W. 2008. The monetary systems of the Han and Roman empires. Princeton/Stanford Working Papers in Classics 110505.
- Temin P. 2013. The Roman Market Economy. Princeton: Princeton University Press.
- Tinnefeld F. 2003. Byzanz und Osteuropa — Politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen. Ringvorlesung WS 2003/04. Das Bild und die Geschichte Osteuropas im Mittelalter.
- Żuchowska M. 2015. “Roman Textiles” in the Hou Han Shu. A 5th Century Chinese Vision versus Roman Reality. Anabasis. Studia Classica et Orientalia 6, 216—238.
- Баярсайхан Д. 2013. Монгол-Византийн олон талт харилцаа (XIII—XIV зуун). Historia Mongolarum 7 (3), 33-48.
- Баярсайхан Д. 2016. Хүлэгү хаанаас Абу Са‘ид хүртэл: Ил-Хаадын тухай өгүүллүүд. Улан-Батор: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар.
- Минжин Л. 2014. Их Монгол улсаас эрхшээлдээ байсан орнуудад явуулсан бодлого, геополитикийн асуудлууд. В: Монголын эзэнт гүрний логистик ба зам тээвэр. Улаанбаатар: Адмон.
- Түмэнбаяр Г. 2013. Христитгэлийн дэлгэрэлт: Үечлэл ба нэршлийн асуудлууд. Historia Mongolarum 7 (8), 169—181.
- Ван Айху. 2015. 从海上丝绸之路的发展史和文献研究看新海上丝绸之路建设的价值和意义 (Взгляд на значение создания Нового морского шелкового пути с позиции исторического и литературного наследия). 华南理工大学学报 (Журнал Южно-Китайского технологического университета) 17 (1), 2—14.
- Ван Саньсань. 2018. 帕提亚与希腊化文化的东渐 (Парфия и постепенное проникновение эллинистической культуры на восток). 世界历史 (Всемирная история) 5, 95—110.
- Вэй Цзянь, Чжан Сяовэй. 2013. 阴山汪古与景教遗存的考古学观察 (Археологические исследования наследия онгутов и следов несторианства в горах Иньшань). 边疆考古 研究 (Археологические исследования приграничья) 4, 193—212.
- Го Юньянь. 2006. 中国发现的拜占廷金币及其仿制品研究 (Исследование обнаруженных в Китае византийиских монет и их имитаций). Тяньцзинь: Отдел аспирантуры университета Нанькай.
- Гун Инъянь. 2001. 西方早期丝绸的发现与中西文化交流 (Появление шёлка на западе и развитие связей Китая с западными странами). 浙江大学学报 (Журнал Чжэцзянского университета) 31 (5), 76—84.
- Гэ Чэнъюн. 2018. 醉拂菻:希腊酒神在中国 (Хмельной средиземноморец: греческий бог вина в Китае). 文物 (Культурные реликвии) 1, 58—68.
- Ду Сяоцинь. 2017. 草原丝绸之路兴盛的历史过程考述 (Степной шёлковый путь и сведения о его историческом развитии). 西南民族大学学报 (Журнал Юго-западного университета национальностей) 12, 2—7.
- Ло Фэн. 2004. 中國境内發現的東羅馬金幣 (Золотые монеты Восточной Римской империи, обнаруженные в Китае). 新疆硬币 (Синьцзянские монеты) 3, 78—103.
- Сюй Годун. 2014. 汉代西域都护府总督郑吉对罗马商队的保护 (Охрана караванов с римскими товарами со стороны генерал-губернаторов империи Хань в Западном крае). 法治研究 (Исследования правового управления) 3, 126—131.
- Хуан Хуанминь. 2012. 丝绸西销与古罗马帝国的衰落 (Угасание Шёлкового пути на западе и упадок Римской империи). 文史(Литература и история) 9, 97—102.
- Чэнь Сывэй. 2018. 埃及与印度次大陆的海上贸易及其在罗马帝国经济中的地位 (Морская торговля между Египтом и Индийским субконтинентом и ее статус в экономике Римской империи). 历史研究 (Исторические исследования) 1, 113—133.
- Ян Гуаньхуа. 2016. 洛阳涧西衡山路北魏墓发掘简报 (Отчет о раскопках гробницы эпохи Северная Вэй в лоянском районе Цзяньси на улице Хэншаньлу). 文物(Культурные реликвии) 7, 4—14.
- Ян Гунлэ. 2011. 丝绸西销导致罗马帝国经济衰落说源流辨析 (Критический анализ гипотезы о взаимосвязи торговли по Шёлковому пути и упадком Римской империи). Collected Papers of History Studies 1, С. 69—74.
- Ян Цзюнпин. 2007. 亚历山大东征与丝绸之路开通 (Восточный поход Александра и открытие Шёлкового пути). 历史研究 (Исторические исследования) 4, 150—161.