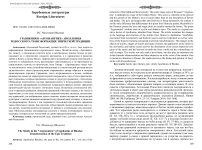Сравнения в "Аргонавтике" Аполлония Родосского: трансформация эпической традиции
Автор: Мостовая Вера Геннадиевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 2 (53), 2020 года.
Бесплатный доступ
Аполлоний Родосский, ученый поэт III в. до н.э., был одним из реформаторов традиционного героического эпоса. Посвятив поэму «Аргонавтика» сюжету о похищении золотого руна, в центральном эпизоде поэмы он рассказывает не о героических подвигах аргонавтов, а о зарождении и развитии любви к Ясону в сердце Медеи. Лирический и волшебный сюжеты (последний, в отличие от гомеровских поэм, рассказывает повествователь, а не персонажи) не единственное отличие от героических поэм Гомера, - «Аргонавтика» имеет черты киклического эпоса (линейная композиция) и этиологической разновидности дидактического эпоса (происхождение современных автору обрядов и история происхождения городов). Сравнение, часто встречающееся в поэме, особенно развернутое, является характерной чертой гомеровского стиля. Статья рассматривает изменения, которые произошли в языке и структуре сравнения у Аполлония. Обновление лексического состава сравнений вместе с использованием гомеровской лексики, варьирование устоявшихся гомеровских формул делают сравнения органической частью позднего эпического языка. Изменение соотношения объекта и признака сравнения, появление сравнений в бытовых сценах, а не только в героических, в том числе в посвященных морской тематике эпизодах, использование сравнений для изображения чувств отвечает новым интересам читательской аудитории: в центре внимания оказывается внутренний мир человека, а также все экстраординарное. Вместе с тем сохраняется тенденция использовать сравнения чаще в батальных сценах. Как средство субъективной оценки сравнения дают голос автору, позволяя менять интонацию от иронии к состраданию или восхищению. Многочисленные опознаваемые аллюзии к Гомеру подчеркивают диалог и полемику, которые ведет Аполлоний со своим предшественником.
Героический эпос, книжный эпос, устная поэзия, аполлоний родосский
Короткий адрес: https://sciup.org/149127253
IDR: 149127253
Текст научной статьи Сравнения в "Аргонавтике" Аполлония Родосского: трансформация эпической традиции
Эллинистический эпос интересен не только как выразитель эклектичных вкусов эпохи, но и как результат развития жанра от Гомера до IV в. до н.э., вобравший в себя черты разных эпических форм, дошедших до нас во фрагментах или упоминаниях. В александрийскую эпоху сочинителями становились профессиональные ученые, чья литературная деятельность была связана с обновлением древних жанров и созданием новых. В этом смысле «Аргонавтика» Аполлония Родосского является экспериментом в эпическом жанре и имеет как черты различных разновидностей греческого эпоса (гомеровского, киклического, дидактического), так и вкрапление гимнических, лирических и драматических элементов [Fantuzzi, Hunter 2004, 96-98; Рыбакова 2014, 23-24; Генерик 2010, 365-366].
Одной из примет гомеровского стиля является сравнение, которое разворачивается в самодостаточную картину. Деяния героев сопоставляются с явлениями природы, животным миром и бытом людей мирных профессий. Эти зарисовки редко повторяются, и стойкость героя в битве сравнивается то с упорством осла, которого не могут прогнать палками дети (II. XI. 558-565), то с отчаянным трудолюбием вдовы, не оставляющей пряжи глубокой ночью ради детей (II. XII. 432-7), а походка богини уподобляется то движению звезды по небосклону (II. IV. 75-80), то скорости мысли, проносящейся в голове разумного мужа (II. XV. 80-83). Лексический состав сравнений отличается от основного текста, так как ни быт, ни пейзаж не являются предметом гомеровского эпоса. Аполлоний заимствует всю палитру гомеровских сравнений, однако он изменяет как саму картину (акцент в сцене с пряхой перенесен с ее упорства на скорость, с которой разгорается зажженная ею лучина), так и лексику, причем мо-

гут использоваться слова, созвучные гомеровским, но отличающиеся по значению, или наоборот - синонимы, не имеющие звукового сходства. К первому случаю относятся такие сравнения: у Гомера пряха yvvf] усрурпд dXr]9f|g взвешивает шерсть аКК ёхоу 6g те таХаута <...>/ р те отаОроу ёуоиоа ка1 eipiov apepig ауёХкег / iaa^ova’(Il. XII. 433-5), а у Аполлония мотает шерстяную нить трлер таХаотра ёруа peppXev (2.292). Во втором - гомеровским обозначениям земледельцев avpp «муж» (XVII. 53, 13.31), жнецов арцтцред (XI. 67) в «Аргонавтике» соответствуют ёруапурд (3.1323), уеюрород (3.1387), avf]p аХсоеид (3.1341), сритотросрод отщаутт|р (3.1343). В сравнении персонажа с коровами, на которых напал слепень, у Аполлония (1.1265) употребляется гомеровское слово оютрод (слепень). (Od. 22.300). Со времен Геродота оно приобретает значение «страсть» [Liddell-Scott 1994, 1210], и его обыгрывает Аполлоний, сравнивая со слепнем Эрота, метящего в Медею, причем поясняет, что под оютрод в данном случае подразумевается цбеохр (синоним для обозначения насекомого) (3.276-7). В некоторых новых сравнениях у Аполлония используется гомеровская лексика, связанная с бытовыми деталями, встречающимися у Гомера вне сравнений [Fantuzzi, Hunter 2004, 275-277].
Развернутые сравнения у Гомера практически не повторяются (7 повторов в «Илиаде» и 2 - в «Одиссее»), поэтому в них встречается не так много ритмико-синтаксических устойчивых словосочетаний. Формулы встречаются в эмблематических сравнениях с животными, указывающих на статус героя (вождя или победителя) и его образ действий: Xecov бреФтросрод «вскормленный в горах лев» (II. XII. 300, XVII. 61, Od. 6.300, 9.292), аХк! ЛЕЛог96д «полагающийся на силу» (II. V. 299, XIII. 471, XVII. 61, XVII. 728, XVIII. 58, Od. 6.130) и др. Эти формулы в «Аргонавтике» не встречаются, и неслучайно. Аполлоний Родосский избегает прямых повторов знаковых элементов из Гомера, и сравнений со львами у него всего два (2.25-29, 4.1337-1344), при этом Аполлоний умело использует вариативность гомеровских художественных приемов, начиная от формул и кончая типическими сценами. На ритмико-синтаксическом уровне это выразилось в построении собственных формульных рядов и разнообразном варьировании формул, встречающихся у Гомера [Рыбакова 2014, 11-13]. Так, среди сравнений «Аргонавтики» встречается измененная гомеровская формула яоФ краигуоия лелохОбд «полагающийся на быстрые ноги». У Гомера она всегда завершает стих (II. VI. 505, XVII. 190, XXI. 247, XXII. 138, Od. 14.33) и при варьировании прилагательное крашуокл (быстрыми) занимает одну и ту же позицию в стихе. Аполлоний Родосский разрывает словосочетание яоо! краигуоия и использует дублетную форму дательного падежа краглуогог лёбоу рцаслося лобкоогу (1.539).
Содержательная сторона сравнений претерпевает более значимые изменения, затрагивающие поэтический прием в целом (объект, средство и признак сравнения). Как сравнения «Илиады» тесно связаны с важными для развития сюжета, не обязательно батальными, событиями, так и у Аполлония необычные для читателей Гомера сравнения появляются при

описании важнейшего и неслыханного события для описываемой мифологической эпохи - плавания по морю на корабле, построенном при помощи божества. У Гомера плавание показано как нечто обыденное, а у Аполлония аргонавты хоть и не первые и не единственные мореплаватели, их труд представлен заслуживающим особого внимания, и взгляд автора останавливается на гребле (1.536-543), следе от корабля (1.545-546), его скорости (2.600), размере волны (2.169-171), поведении дельфинов, устремившихся за кораблем под песнь Орфея (1.572-579), внешности морских богов, показавшихся из пучины (4.933-38, 4.945, 4.948-955, 4.1604-1616). В «Аргонавтике» мореплавание связано с необыкновенными происшествиями, которые преодолеваются человеческим трудом не без помощи сверхъестественных сил и способностей, и его тематическая значимость поддерживается средствами языковой выразительности: Аполлоний Родосский создает собственные поэтические формулы для описания морских путешествий [Рыбакова 2014, 11-13].
Чувства гомеровских героев, сопровождающиеся тяжелыми раздумьями, изображаются через сравнения, например, переживания Пенелопы или Патрокла за близких или радость спутников Одиссея; но такие сравнения редки у Гомера. В «Аргонавтике» чувства, особенно любовные, становятся одним из центральных предметов изображения, что подчеркнуто обращением к Музе Эрато в зачине третей книги поэмы, указывающем по традиции на тему произведения. И они же являются одним из главных объектов сравнения в поэме. Любовное чувство зарождается под внешним воздействием, влиянием Эрота. Бог сравнивается с оводом, т.е. мучительной страстью (3.275), которая разгорается как лучина (3.292-3), от любви разум Медеи тает, как роса на солнце (3.1019-21), а сердце скачет, как солнечный зайчик (3.755-760), она грезит наяву (3.446-7), горюет о неизбежной разлуке, как безутешная вдова (3.656-664, 4.1062-67). Влюбленные герои теряют дар речи и стоят друг перед другом молчаливые, как деревья (3.967-71). Аполлоний иллюстрирует сравнениями переживания другого рода: безутешная печаль матери, расстающейся с сыном (1.268-277), волнение Ясона перед походом (1.460-461), радость от вида руна (4.167-173), радость Ясона и отблески руна на лице, радость от встречи с гостями и гостеприимными хозяевами (4.996-8), печаль аргонавтов от безысходности (4.1280-1289).
Новые сюжеты далеко не всегда предполагают у Аполлония новые средства сравнения. Среди новых образов: сравнение Ясона с Аполлоном, шествующим в свой храм (1.307-311). Это сравнение символично, поскольку вся поэма пронизана присутствием Аполлона, который покровительствует героям, но никогда не вмешивается в действие. К богу обращается сам поэт, а герои по всему пути основывают новые праздники и алтари в его честь. Сравнение белой пены, остающейся за Арго, с белой тропинкой на лугу, а дельфинов, привлеченных музыкой Орфея, со стадом, бегущим за пастухом, - дань буколическим мотивам поэзии Феокрита. Некоторые образы пришли из преданий, причем герои могут быть названы по
имени, как в сравнении Ясона и Эита с Тесеем и Миносом (3.1100-1101), а в других они подразумеваются, как в сравнении Медеи с новобрачной, овдовевшей сразу после свадьбы (3.656-664) или в сравнении Ясона со звездой, чарующей разлученных с женихом дев (1.774-781), в которых угадывается история героя троянской войны Протесилая и его жены Лао-дамии и героев «Аргонавтики», царя долионов Кизика и его жены Клиты. В некоторых сравнениях есть отсылки к персонажам гомеровского эпоса: нереиды перебрасывают друг другу Арго подобно девушкам, играющим в мяч (4.948-955). Это сравнение вызывает в памяти читателя образ Навси-каи, играющей со своими служанками (Od. 6.99-116).
В сравнениях Аполлония появляются новые профессии, однако с равной вероятностью это может быть как изобретение автора, так и заимствование из недошедшей эпической традиции: ткачество (1.627-630), дровосеки (1.1003-1011), плотники (2.79-85), путник (2.541-549), вор (3.1194-98). Если у Гомера крылья гигантского орла сравнивались с дверью в богатом доме (II. XXIV. 317-9), то у Аполлония в сравнении орла, терзающего Прометея, реалия из быта аргонавтов - весла (2.1254-5).
Изменение третьего элемента - признака сравнения - повлияло как на варьирование сюжета внутри гомеровских сравнений при их заимствовании, так и на значение самого художественного приема в поэме. Отмеченные выше сравнения, описывающие в «Аргонавтике» любовные чувства: сравнение с пряхой, деревьями, слепнем, - приходят из эпического описания битв (соотв. II. XII. 432-7, II. XII. 131-6, Od. 22.299-303), что само по себе не ново и встречается уже в ранней греческой лирике [Гринцер 2007, 21-26]. Даже у Гомера можно найти перенос «военных сравнений» в сферу чувств, как упомянутое сравнение тревожащейся за Телемаха Пенелопы со львом (Od. IV. 791-3). У Аполлония такой перенос не ограничивается единичными случаями, а затрагивает большинство заимствований из Гомера. В «Илиаде» сравнения со звездами, особенно с Сириусом, указывают либо на опасность и воинственность героя, либо на блеск оружия и костров. У Аполлония сохраняется гомеровское значение при описании битвы Ясона со спартами, где он, как Сириус, обрушивается на спартов (3.1377-80 / II. XI .61-6 - о Гекторе). Когда спарты появляются из-под земли, их оружие блестит, как звезды зимней ночью, которые загораются в небе после снежной бури (3.1359-63 / в II. XII. 278-289 со снежной бурей сравнивается оружие, камни, которые сыплются с обеих сторон на троянцев и данайцев, со звездами - огни костров). Но помимо этого сравнение со звездой, употребленное в «Аргонавтике» вне военного контекста, подчеркивает красоту героя и его исключительность по сравнению с окружающей толпой (1.239-240, 1.774-781, 2.40-42).
Подобно героям-мужчинам и Медея противопоставлена толпе через сравнение, имеющее прототип у Гомера. В «Одиссее» Навсикая - феакий-ская царевна, оказавшая помощь Одиссею и желающая вступить с ним в брак, чему не суждено было случиться, - сравнивается с Артемидой, предводительствующей прекрасным нимфам на охоте и выделяющейся
необыкновенной красотой, чем радует свою мать Лето (Od. 6Л 02-8). В третьей книге выезд Медеи со служанками так же, как и выезд Навсикаи, иллюстрируется сравнением с Артемидой (3.876-886), однако богиня в этом сравнении мчится принимать жертвы, и звери расходятся перед ее колесницей, поджав хвосты. Статус богини, чествуемой на алтарях, подчеркивает не столько красоту Медеи, сколько дистанцию между героиней и всеми остальными. Это выражено в заключении сравнения словами: «Народ расступался, избегая взглядов девушки».
Сравнение героев с богами - распространенный прием у Гомера, эти сравнения редко бывают развернутые, и в основном герои-воины сравниваются с богом войны Аресом (24 сравнения), один раз Агамемнон сравнивается с Аресом и Посейдоном, и один раз взгляд Гектора сравнивается со взглядом Горгоны. Эти сравнения приложимы к самым разным персонажам «Илиады», троянцам и ахейцам, и являются типической характеристикой свирепого воина, губителя мужей. В «Аргонавтике» такие сравнения тоже присутствуют, хоть их и не много: царь колхов Эит сравнивается с Посейдоном (3.1240-5). Одним из прототипов для Эита послужил гомеровский Агамемнон. Описание его подготовки перед подвигом Ясона отсылает к соответствующей сцене с Агамемноном, самой пышной среди типических сцен облачения воина в доспехи (II. XI. 17^46). При этом Ясон, идущий на битву, сравнивается с Аресом, но это сравнение относится не к ярости духа, а к прекрасной внешности и усиливается последующим сравнением с Аполлоном (3.1278-83). Еще одно сравнение с Ясона с Аполлоном рисует его как героя выдающегося, отделенного от толпы, так как Аполлон в этом сравнении идет в свой храм принимать жертвы (1.307-311). Это сравнение является парным к сравнению Медеи с Артемидой. Герои сравниваются с богами-близнецами в тот момент, когда они идут принимать положенные им почести в храме. Вместе с тем в этих сравнениях есть и отличия: если от Медеи толпа отворачивалась, то Ясон притягивает взоры и вызывает симпатию у людей.
Одним из распространенных гомеровских образов сравнений, воспринятых Аполлонием Родосским, является образ огня, пламени и молнии. Сравнение с огнем у Гомера подразумевает скорость распространения боя или широко разносящийся блеск оружия, т.е. контекст, опасный для персонажей (XIII. 39, XIII. 53, 688, XVII. 88, XVIII. 154, XIII. 330, XX. 423, Ил. II. 455, XI. 156, XV. 605, XX. 490, X. 154). У Аполлония же сравнение с пламенем вне батальных сцен выражает идею радости: снасти блестят на солнце, как огонь (1.544-5), руно - как молния Зевса и свет от огня (4.184-5, 4.1145-6). Аполлоний создает два парных сравнения, которые характеризуют переживания Ясона и Медеи. От волнения за судьбу возлюбленного у Медеи в груди сердце бьется и скачет, как солнечный луч по стенам комнаты, отраженный от воды, налитой в кувшин (3.755-760). С девушкой, радующейся свету в полнолуние, сравнивается Ясон, получивший золотое руно (4.167-173). Если в предыдущей паре были противопоставлены реакции окружающих на главных героев, тот здесь - их соб-
ственные чувства.
Образы в развернутых сравнениях «Илиады» и «Одиссеи» всегда соответствуют объектам сравнения, а у Аполлония Родосского появляются сравнения, которые можно было бы назвать парадоксальными. Сравнение плачущей Медеи с безутешной вдовой, потерявшей мужа, обращает на себя внимание уже тем, что Ясон еще в этот момент не подозревает о чувствах девушки, но ей лишь приснился сон о том, что он увозит Медею к себе на родину. Ясон сравнивается с пахарем, который срезает еще не выросшие колосья перед наступлением врага (3.1377-85), хотя в данном случае враг именно он; в момент убийства Апсирта у алтаря, те. в момент преступления, - с человеком, приносящим жертву (4.468-71). Б. Эффе анализирует парадоксальные сравнения «Аргонавтики» и отмечает их связь с иными художественными средствами, вскрывающими парадоксальность рассказанной истории: торжественная сцена вооружения Эита, по мнению исследователя, избыточна, потому что герою не доведется сражаться, Ясон слишком нерешителен и не обладает достаточной силой, чтобы совершить подвиг без помощи девушки-колдуньи и т.д. Б. Эффе видит в этом пересмотр эпического идеала и иронию по отношению к персонажам [Effe 2001, 150-153]. Но можно сказать, что сравнения заменяют внутренний монолог героя в одном случае, портрет - в другом, сознание правильности действия - в третьем.
Ирония присутствует в поэме и в других эпизодах, например, когда ворон обращается с назиданием к пророку, сопровождающему друга на свидание (3.927-937), однако соотношение волшебного и героического ограничивается, на наш взгляд, не только иронией и пародией. Сюжет, положенный в основу «Аргонавтики», автор связывает как с героическим эпосом, так и с этиологическим. Рассказ о культурной роли аргонавтов подкрепляется не только экскурсами, но и обращенной к ним в конце поэмы просьбы о милости и процветании, свойственной гимнической поэзии. Аполлоний объединил далекие окраины греческого мира одной историей, и придал героическому эпосу оттенок дидактики. Обращение к мифу об аргонавтах отражало свойственную эпохе эллинизма тягу к волшебному, загадочному и сверхъестественному. В этом смысле Аполлоний противоположен Гомеру, который устраняет из мира своих героев все сверхъестественное и волшебное и относит это либо к сфере божественной, либо, если героям доводится сталкиваться с подобными явлениями, рассказ о необычных странах и встречах вкладывает в уста персонажа, Менелая или Одиссея. Ахилл славится как лучший воин и сын богини, но у Гомера не упоминается ни его неуязвимость, ни способ, которым она была приобретена. Напротив, Ахилл получает самый крепкий доспех, выкованный богом. Герой Аполлония не обладает подобными физическими качествами и приобретает их благодаря снадобьям Медеи, но на битву он выходит обнаженным, взяв только меч и копье. Его копье, как и копье Ахилла, обладает особыми свойствами, и управиться с ним может только владелец. При этом сравнения, которые описывают поведение Ясона, взяты из гоме-
ровского эпоса. Как подобает герою, он рвется в битву, как конь, подобно свирепому вепрю, он жадно пьет воду, он подобен Аресу и т.д. Таким образом, Аполлоний Родосский представляет нового Ахилла, обнажая волшебную природу его необыкновенной силы. Это не столько ирония или попытка вписать новую историю в героический стандарт [Fantuzzi, Hunter 2004, 271], сколько намеренная трансформация традиционного эпоса в соответствии с новыми чаяниями читателей. Поэтика эпоса претерпевает изменения и на уровне соотношения персонажей. Если для классического героического эпоса родового строя характерно изображение врагов соразмерными по доблести главным героям [Мелетинский 2004, 441], то в эллинистическом эпосе появляется разграничение врагов-варваров (Амик, Эит), которых Аполлоний наделяет жестокостью и вероломством, и героев-эллинов. Впрочем, Ясон одновременно и благочестив, за что ему помогают Гера и Афина, и совершает преступление, убив брата Медеи у алтаря, при этом он может продолжать свой путь после ритуала очищения. Заметим, что и здесь есть определенные переклички и полемика с троянским преданием, согласно которому за преступления, совершенные после разрушения Трои, некоторые греческие герои были наказаны богами и погибли или блуждали много лет, прежде чем вернулись домой.
Сравнения в «Аргонавтике» встречаются 114 раз, их объем варьируется от 8-10 стихов до короткого уподобления (Apet siKE^og, «подобный Аресу»), Всего 4 сравнения встречаются в речи персонажей, и в этом Аполлоний следует принципам гомеровской поэтики, где сравнение является характеристикой речи повествователя: из 248 сравнений «Илиады» только 15 принадлежат героям, и 11 сравнений произносят герои «Одиссеи», в то время как на долю повествователя приходится 32. Диспропорция объясняется влиянием жанровой разновидности: сравнения из мира природы и повседневной жизни относятся к событиям далекого военного быта героев, поэтому их больше в «Илиаде», увеличение же их в речи персонажей в «Одиссее» связано с тем, что сам Одиссей на протяжении четырех песен выступает в роли рассказчика и именно в этой части сосредоточены 9 сравнений в его речи. Так что можно предположить, что, когда Алкиной сравнивает Одиссея со сказителем (Od. XI. 368-9), он подразумевает не только занимательность рассказа, но и владение профессиональным мастерством, в том числе - поэтическими художественными средствами. Аполлоний Родосский следует во многом принципам гомеровской поэтики. Сравнения чаще сопутствуют подвигам: 19 встречается в первой книге, 22 - во второй, 31 - в третьей и 42 - в четвертой. Как было сказано выше, они иллюстрируют чувства героев, описание героев и реакцию на них окружающих, сопровождают рассказы о военных подвигах и особенностях морского путешествия, причем большая часть сравнений приходится именно на описание подвигов, тягот пути и встречи с неожиданными явлениями, такими как движущиеся скалы, помощь морских богов, явившихся героям, свет золотого руна. Если действие в первой и второй книгах развивается равномерно, единственной паузой в путешествии была

остановка на Лемносе, и герои вступают в битвы, встречаются с необычным попеременно, то третья книга и отчасти четвертая отличаются в композиционном отношении и от первых двух, и друг от друга.
Первая, большая по объему часть третьей книги посвящена развитию любовной интриги, и 8 сравнений из 10 описывают внутреннее состояние Медеи. Вторая часть, занимающая всего 217 стихов, заключает в себе батальную сцену, и в описании подвига участвует 21 сравнение, которым отведена значительная часть повествования. В четвертой книге первая часть насыщена событиями, связанными с похищением руна, Медеи, битвой с колхами и посещением Кирки и феаков, плаванием по морю через Сим-плегады, а во второй описывается отчаяние аргонавтов, увязших в Ливии без дороги, без воды и без надежды на спасение. И хотя в последней трети поэмы действие сменяется бездействием и отчаянием, Аполлоний сравнивает аргонавтов с «людьми, подобными бездушным идолам, во время войны и дурных предзнаменований» (4.1280-1289), а плач служанок Медеи -с плачем лебедей или птенцов, выпавших из гнезда (4.1298-1304), частота появления сравнений к концу книги увеличивается лишь незначительно (16 против 26), причем они опять связаны либо с активным действием: с поиском и находкой воды (4.1393-4,4.1452-62) или с чудесным избавлением от тягот пути (4.1541-47, 4.1604-10, 4.1610-16, 4.1679-80, 4.1682-88). Таким образом, оказывается, что в третьей книге, отличающейся от всех остальных по содержанию и композиции, сравнение напрямую связано с характеристиками сюжета и является важным, несколько утрированным (употребляется в 2 раза чаще, чем у Гомера [Мостовая 2017, 40]) сопутствующим признаком героического повествования.
Редкие сравнения в речи персонажей «Аргонавтики» служат либо средством убеждения, как в речах Ясона (3.1100-1) и Медеи (4.1024-25), либо играют в ее речи роль объяснения (3.1044-5), либо являются частью насмешки - в речи Луны (4.56-65). В гомеровском эпосе сравнения в речах чаще употреблялись для оскорбления или придания выразительности основной мысли [Мостовая 2007, 102].
Для введения сравнений Аполлоний использует принятые в гомеровском языке синонимические конструкции, обозначающие «так... словно», и синонимы со значением «подобный, равный». Сравнение является одним из способов субъективизации эпического повествования уже у Гомера. Эллинистический автор, в большей мере интересующийся переживаниями персонажа, в то же время больше открыт аудитории. Это достигается как введением дидактического элемента, описанием современных читателю праздников, что сокращает дистанцию между прошлым и настоящим, так и благодаря многочисленным обращениям автора к неизвестному адресату, в том числе и в сравнениях. Одним из способов сокращения эпической дистанции служит выражение, вводящее сравнение, «ты бы сказал / ты бы не сказал», которое встречается у Гомера и Аполлония по 6 раз: в речи повествователя «Илиады - 3 раза (II. IV.429, XV. 697, XVII. 366), «Аргонавтики» - 4 раза (2.171, 3.1265, 4.23 8, 4.997). Такие сравнения появляются в драматичные моменты действия, и возможно, восходят к исполнительской традиции древнего эпоса, в котором встречаются даже непосредственные обращения автора к персонажу. И все же у Аполлония они встречаются не только чаще относительно общего объема произведения: в сравнения проникают рассуждения об участи людей в форме 1 л. мн. ч. (2.541-548).
Словно странник, вдали от страны родной пребывая, -
Ах, как много мы, люди, блуждаем в скитаньях! - повсюду
Мучится сильным волненьем, и все города озирает,
Лишь своего не найдет, когда же заметит родимый
Дом, то мчится к нему, желанному, морем и сушей. Так, заметив корабль, спешила дочь громовержца.
(Пер. Н.А. Чистяковой)
В заключении можно сказать, что сравнения в «Аргонавтике» не только дань традиции и формальный признак эпического стиля. Обновление лексического состава сравнений вместе с использованием гомеровской лексики, игра слов, варьирование устоявшихся гомеровских формул по модели гомеровских же вариаций внутри формул делают сравнения органической частью позднего эпического языка. Изменение соотношения объекта и признака сравнения, появление сравнений в бытовых сценах, а не только в героических, в том числе в посвященных морской тематике эпизодах, использование сравнений для изображения чувств отвечает новым интересам читательской аудитории: в центре внимания оказывается внутренний мир человека, а также все необыкновенное и экстраординарное. Вместе с тем в употреблении сравнений сохраняется жанровый признак, и в батальных сценах сравнения могут составлять большую часть рассказа. С помощью сравнений Аполлоний Родосский рисует образ героя нового типа, вызывающего восхищение и любовь толпы, который может быть слаб и силен одновременно. Парные сравнения проясняют сходство и различия главных героев, парадоксальные сравнения подчеркивают противоречивый характер чувств и поступков Ясона и Медеи. Вместе с тем сравнения дают голос автору, позволяют менять интонацию от иронии к состраданию или восхищению. Все это говорит о включенности сравнения в систему художественных средств нового эпоса и его тесной связи не только с жанром, но и с системой персонажей и содержанием произведения.
Список литературы Сравнения в "Аргонавтике" Аполлония Родосского: трансформация эпической традиции
- Гринцер Н.П. Древнегреческая "лирика": значение термина и суть явления // Лирика. Генезис и эволюция. М., 2007. С. 13-530.
- Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса. М., 2004.
- Мостовая В.Г. Функции сравнений в речи персонажей "Илиады" // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2007. № 1. С. 95-104.
- Мостовая В.Г. Гомеровский интертекст в "Аргонавтике" Аполлония Родосского (на материале эпических сравнений III книги) // Литература и культура эллинизма. Сборник статей по материалам конференции памяти В.П. Завьяловой (14-15 ноября 2016 года). М., 2017. С. 38-46.
- Рыбакова И.В. Традиция и новация в "Аргонавтике" Аполлония Родосского (лексика - композиция - стиль): автореф. дис. … к. филол. н.: 10.02.14. М., 2014.
- Теперик Т.Ф. Художественная роль экскурсов в "Аргонавтике" Аполлония Родосского // Индоевропейское языкознание и классическая филология - XIV (чтения памяти И.М. Тронского). Ч. 2. СПб., 2010. С. 360-370.
- Effe B. The Similies of Apollonius Rhodius. Intertextuality and Epic Innovation // A Companion to Apollonius Rhodius. Ed. Papanghelis Th.D., Rengakos A. Leiden; Boston; Koeln, 2001. P. 147-169.
- Fantuzzi M., Hunter R. Tradition and Innovation in Hellenistic Poetry. Cambridge, 2004.
- Liddell H.G., Scott R. Greek - English Lexicon. Oxford, 1994.