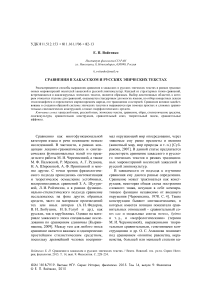Сравнения в хакасском и русских эпических текстах
Автор: Войтенко Екатерина Петровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются способы выражения сравнения в хакасских и русских эпических текстах в рамках традиционных мировоззрений носителей хакасской и русской лингвокультур. Каждый из структурных типов сравнений, встречающихся в анализируемых эпических текстах, является образным. Выбор денотативных областей, к которым относятся эталоны для сравнений, оказывается стандартным для многих языков, но отбор конкретных лексем этноспецифичен и определяется мировоззрением народа, его традициями и историей. Сравнения активно задействованы в создании образной системы эпических текстов и выражаются при помощи простых и сложных сравнительных синтаксических конструкций, а также «морфологических» средств.
Хакасский язык, русский язык, эпические тексты, сравнение, образ, стилистические средства, лингвокультура, сравнительная конструкция, сравнительный союз, творительный падеж, сравнительные аффиксы
Короткий адрес: https://sciup.org/147219452
IDR: 147219452 | УДК: 811.512.153
Текст научной статьи Сравнения в хакасском и русских эпических текстах
Сравнению как многофункциональной категории языка и речи посвящено немало исследований. В частности, в рамках концепции лексико-грамматических и синтаксических функциональных полей это прежде всего работы М. И. Черемисиной, а также М. Ф. Палевской, Р. Мразека, А. Г. Руднева, Н. А. Широковой, А. Ф. Прияткиной и многие другие. С точки зрения фразеологического подхода проводились систематизация и теоретическое осмысление устойчивых, воспроизводимых сравнений З. А. Шугуро-вой, Л. И. Ройзензон, а в рамках функционально-стилистического подхода сравнение исследовалось на фоне других образных средств, часто на материале произведений тех или иных авторов (А. И. Федоров, В. И. Любушин, И. Б. Голуб и др.), как русских, так и зарубежных. Однако на материале хакасского эпоса специальные исследования по сравнениям единичны [Кыржи-накова, 2009]. Между тем для любого эпоса сравнение является важным и одновременно простейшим стилистическим средством, поскольку древнейший человек восприни- мал окружающий мир опосредованно, через знакомые ему ранее предметы и явления (животный мир, мир природы и т. п.) [Суб-ракова, 2007]. В данной статье предлагается рассмотреть сравнение хакасского и русского эпических текстов в рамках традиционных мировоззрений носителей хакасской и русской лингвокультур.
В зависимости от подхода к изучению сравнения ему даются разные определения. Сравнение может трактоваться как конструкция, некоторая общая схема построения сложного знака, несущая в себе компаративную функцию независимо от внешнего окружения [Черемисина, 1978. С. 4]. Такие конструкции бывают синтаксическими, в которых имеется позиция показателя сравнительных отношений – сравнительный союз как и модальные союзы точно , будто и т. д., и «морфологическими» (термин М. И. Черемисиной), выраженными творительным сравнительным, генетивными конструкциями и др. О. С. Ахманова понимает под сравнением «понятие равенства, неравенства, большей или меньшей степени ка-
Войтенко Е. П. Сравнения в хакасском и русских эпических текстах // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 9: Филология. С. 228–234.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 9: Филология © Е. П. Войтенко, 2015
чества, находящее выражение как в грамматической категории степеней сравнения прилагательных и наречий, так и в лексике и фразеологии» [2007. С. 449].
Для хакасского языка характерны синтаксические простые и сложные сравнительные конструкции с послелогами чми , осхас, а также «морфологические», по термину М. И. Черемисиной, конструкции со специальным формантом -daF (при этом показатель - daF может присоединяться не только к именам, например существительным, но и к глаголам: Алтында турFaн хара чирГ сaрFодaнъ capFan mypFaH=daz , ах айа-стынъ алтында илгектенъ илгеп тур-FaH=daF ‘Внизу великая земля колыхалась, будто [как если бы] просеивали ее ручной веялкой, под белым ясным небом колыхалась, будто [как если бы] сеяли ее ситом’), степенями сравнения, продольным / сравнительным падежом и др. В образовании русских сравнений участвуют аналогичные синтаксические сравнительные конструкции с союзами как , точно , словно или устаревшими аки , ровно и т. п., а также «морфологические» конструкции с творительным «метафорическим» и генетивным падежами и т. п.
Сравнение как показатель определенных синтаксических отношений, различных языковых моделей мы можем вывести и на уровень культурно-исторических и мифологических представлений народов, если в этом случае под сравнением будем понимать метод художественного мышления [Табахьян, 1983], при анализе которого необходимо учитывать жанровую специфику фольклорных текстов. В связи с этим сравнение функционально будет приравниваться к другим художественно-изобразительным средствам (метафорам, метонимиям, гиперболам и др.), позволяющим говорить об эпическом произведении как о самостоятельной стилевой системе любой лингвокультуры. Поэтому одна из задач нашего исследования - показать, что каждый из структурных типов сравнений, встречающихся в анализируемых эпических текстах, несет в себе функцию образности, т. е. является образным.
Выбор денотативных областей, к которым относятся эталоны для сравнений, оказывается стандартным для многих языков, но отбор конкретных лексем этноспецифи-чен и определяется мировоззрением народа, его традициями и историей. Для удобства изложения материала мы отобрали по 27 лексем, часто встречающихся в хакасском и русских эпических текстах и участвующих в формировании сравнений. Хакасские единицы: аба ‘медведь’, aрFaмчъы ‘веревка’, илгек ‘сито, решето’, Гнек ‘корова’, кун ‘солнце’, нанъмыр ‘дождь’, ос ‘осина’, от ‘трава, сено’, парс ‘тигр’, пырFы ‘дудка’, сaрFaaс ‘ручная веялка’, сеек ‘муха’, соок ‘кость’, суF ‘река, вода’, тaF ‘гора’, талай ‘река, море’, тулгу ‘лиса’, хазынъ ‘береза’, хан ‘кровь’, хар ‘снег’, хaрлыFaс ‘ласточка’, хус ‘птица’, чазы ‘поле’, чалын ‘пламя’, чил ‘ветер’, чГп ‘нитка’, чылFы ‘лошадь’. Русские: береза, бык, гоголь, дубина, дубрава, жар, звезды, зверь, ключ, колесо, котел, лес, луч, маковица, ночь, орел, погода, пташечка, река, свеча, селезень, слеза, снег, соболь, сокол, тигр, щука.
Естественно, эталоны для сравнений берутся из окружающей действительности. Одни из них являются знаками, заключающими в себе информацию культурного, религиозного или социального планов (например, береза , пташечка ; хазынъ ‘береза’, кун ‘солнце’); другие - символами, формирующими новое значение предмета «при создании неординарной ситуации в контексте повседневности» [Богомаз, 2008] (например, аба ‘медведь’, чГп ‘нитка’); третьи -наименованиями артефактов, т. е. предметов быта, не соответствующих по своим функциям действительности (реликтов прошлого, например, котел , сaрFaaс ‘ручная веялка’, илгек ‘сито, решето’), или маркерами -указателями на те или иные мифологические события или «части» пространственновременной и социокультурной ориентации человека (например, талай ‘река, море’, тaF ‘гора’).
Распределим все единицы - компоненты сравнений по тематическим группам:
-
1) биоморфизмы, или зоонимы и орнито-нимы, куда мы включаем наименования животных, птиц, насекомых, рыб (хакас. аба ‘медведь’, Гнек ‘корова’, парс ‘тигр’, тулгу ‘лиса’, чь^ы / ат ‘лошадь’, сеек ‘муха’, хaрлыFaс ‘ласточка’, хус ‘птица’; рус. бык , гоголь , зверь , тигр , щука , орел , пташечка , селезень , соболь , сокол ), в том числе фито-нимы (хакас. ос ‘осина’, хазынъ ‘береза’, от ‘трава’; рус. береза , дубрава , лес , маковица ), названия других натурфактов, в частности небесных светил (хакас. кун ‘солнце’, нанъмыр ‘дождь’, суF ‘вода’, талай ‘река’, тaF
‘гора’, хар ‘снег’, чил ‘ветер’; рус. звезды , ночь , погода , река , снег );
-
2) соматизмы и квазисоматизмы. (хакас. соок ‘кость’, хан ‘кровь’; рус. слеза) ;
-
3) наименования артефактов. (хакас. ар-ғамчъы ‘веревка’, илгек ‘сито’, пырғы ‘дудка’, сарFаас ‘ручная веялка’, ч1п ‘нитка’; рус. ключ , колесо , котел , свеча) ;
-
4) лексемы, обозначающие отвлеченные понятия, физические явления, пространственные реалии. (хакас. чалын ‘пламя’, чазы ‘поле’; рус. жар , луч) .
Рассмотрим сравнительные конструкции, в составе которых используются члены этих групп.
Одними из первых среди отечественных исследователей на этноспецифику биоморфизмов обратили внимание М. И. Черемисина и ее коллеги [Гутман, Черемисина, 1972; 1976; Гутман и др., 1977]. Биоморфизмы чаще всего характеризуют в фольклорных текстах удаль богатырей, позволяют в яркой иносказательной форме донести сакральные смыслы, помогают расшифровать топонимику, а в хакасском эпосе – еще и объяснить происхождение родов, народов и всего мира. В эпических произведениях все биоморфизмы оценочны, и характер оценки зависит от общепринятых, традиционно сложившихся представлений о животных или птицах. Например, и в хакасском эпосе, и в русских былинах используются сравнения персонажей с тигром: Ала парс 1 чiли курлес турадырлар ‘[Айна] как тигры, друг на друга зарычали’; Больша-то сестра тигрой по лесам разыскивает любимого брата своего, середняя-то сестра - дубиной по рекам, меньша-то сестра - щукой во сине море [Калинин-царь увозит девушку]. Однако если в первом (хакасском) контексте биоморфизм в составе сравнения приобретает отрицательный коннотативный компонент в своем значении (айна 2, как и хищное животное, очень опасны), то русский былинный пример демонстрирует через биоморфное сравнение положительные качества, приписываемые тигру (преданность, смелость, ловкость, быстрота). Даже из этих двух контекстов видно, что способы выражения сравнений могут быть разными: в хакасском примере – это синтаксическая конструкция со сравнительным послелогом ч1ли (соответствующим русскому союзу как), а в русском – «морфологическая» с творительным метафорическим (или творительным сравнения).
У хакасов эталоном сравнения среди диких животных чаще всего становился медведь аба , почитавшийся как тотемное существо. В первую очередь учитывались мифологические представления о медведе, в соответствии с которыми ему приписывались социальные роли брата или отца, и в таких случаях «медвежий» получал в эпосе положительную оценку: Аба чiлеп , хыс чах-сызы харлап , курлебгскен ‘Как медведь, достойнейшая дева, заревев, закричала’. Если же в основу сравнения брался не социальный, а ассоциативный (например, физический звуковой) признак подобия, то этот же образ получал отрицательную оценку: Аба чiли , айна харлас турадырлар ‘Как медведи, айна друг на друга заревели’. В русских былинах мифологической (тотемной) соотнесенности не зафиксировано, и сравнения с компонентами-зоонимами построены на актуализации ассоциативных функциональных, результативных или внешних формальных, цветовых и других признаков, например: И тут Василий , ровно бык , прошел (актуализированы функциональный и результативный признаки) [Василий Кази-мерской]; Его черны брови , как два соболя (актуализированы внешние цветовой и кон-систенциальный признаки) [Потоп Михайлович].
Рассмотрим примеры сравнений с зоонимом конь, наименованием верного друга и помощника богатырей, нередко и их советника и даже спасителя. В русских былинах конь сравнивается с диким зверем (на основе динамического и результативного признаков, так как при сравнении учитываются прежде всего его ловкость, быстрота реакции, сила): Под ним [Суханом сыном Домантьевича] добрый конь, аки лютой зверь [Потоп Михайлович]; Под молодцом конь, как лютой зверь, на коне молодец -как ясен сокол [Илья Муромец и его сын Бориско]. Для хакасов же конь являлся сакральным животным, и с ним была связана определенная мифологическая символика: способности к метаморфозам, или перево- площению, целительству и т. д. Кроме того, по шаманистским представлениям, конь не только погребальное животное, но и проводник души из одного мира в другой [Ойношев, 2006]. Возможно, поэтому имена человека и коня в тюркских языках включают одинаковый компонент ат [Бутанаев, Монгуш, 2005]. Однако в хакасском эпосе в сравнениях чаще участвует гипероним чылFы: Хы^ыли парадыра хыс пала, чылFы чiлu юстебскен ‘Клич бросила девочка, словно лошадь заржала’; ХыйFыли парадыра хыс пала, чылFы чiли кктебскен, нанъыра-да кiстеп турFанда, чылFы мал прай кiстезiбiскен ‘Клич бросила девочка, как лошадь заржала, когда пронзительно она заржала, лошадиный табун весь заржал’. Иногда в качестве компонента сравнений используется и общепринятое ат, но в составе другого типа сравнений - «морфологического»: Пай хазынънынъ пазында ат пазын=даF алтын коок ‘На вершине священной березы находится золотая кукушка (размером) с конскую голову’. В данном контексте сравнение эксплицируется особым показателем -даF. Приведем еще пример с этим показателем: 1нек улиин=даF хара тастынъ хырина читкен хара адай ‘До большого камня величиной с корову черная собака добежала’. Дело в том, что почти все домашние животные у хакасов считались священными оберегами людей, и, видимо, поэтому в представлениях создателей эпоса эталоном сравнения должно было стать домашнее животное крупного размера, способное защитить человека.
Птицы, наряду с животными, играют важную роль в мифологиях всех народов мира. Они могут отождествляться с божествами, тотемными предками, героями, ездовыми животными, а также выступать в качестве символов Верхнего мира, неба, божественной сущности [Ойношев, 2006]. Так, в русских былинах птица-сокол или орел связаны с описаниями божественного мира или символизируют свободу, силу и могущество, независимость былинных героев: На коне-то он сидит, как сизой орэл [Потоп Михайлович]; На коне молодец -как ясен сокол [Илья Муромец и его сын Бориско]; Под оправою однозолотою сам [Добрыня] на коне, как сокол, сидит [Про Добрыню Никитича и отца его Никиту Романовича]; Выезжал Алешенька Попович во чисто поле. Как малая он пташечка, по полю он перелетывал [Алеша Попович и Змей Тугаретин]; Его ясны очи, как у сокола [Потоп Михайлович]. Орнитонимы употребляются и в обращениях: И станешь ты, серый селезень, поплавати и, ярый гоголь, поныривать [Про Добрыню Никитича и отца его Никиту Романовича]. В космогонических мифах многих народов большую роль играют именно птицы, конкретнее - водоплавающие лебеди, гуси, утки. По мнению некоторых исследователей, даже этноним «хакасы» произошел от сочетания ах + хас, что означает ‘белый гусь’ [Киндикова, 2008]. Почитаемыми птицами у хакасов также считались сокол нарчын, ястреб хартыFа и кукушка коок (по поверью, ее кукование воскрешало мертвых). Сравнительные обороты с орнитонимами хус ‘гусь’, хартыFа ‘ястреб’, нарчын ‘сокол’, коок ‘кукушка’ вводятся в хакасские предложения также и послелогом чiли: Хус чiли, ат чах-сызы халыхтап ‘Как птица, достойнейший конь побежал’; ХартыFа хус чiли, ат чах-сызы, халлап, халыхтап, ойлап сыххан ‘Как птица-ястреб, достойнейший конь побежал, галопом поскакал’.
В целом, анализ биоморфизмов в составе сравнений двух эпических образных систем показал, что основными синтаксическими способами выражения сравнений при формировании фольклорных биоморфных образов стали синтаксические конструкции с союзами как , аки , ровно (в русских текстах) и с послелогом чiли (в хакасском), реже использовались «морфологические», по термину М. И. Черемисиной, средства.
Большое количество лексем, участвующих в сравнениях, относится к наименованиям других натурфактов. С природными реалиями (например, со снегом, водными и другими ландшафтами, с небесными светилами и т. д.) обычно в былинах сравнивается внешний вид героев: У ней [Василисы] белое лицо , ровно белый снег [Ставер Годено-вич]; Набело она [лебедушка Захарьевна] бела , как и белой снег [Потоп Михайлович]. Если рассматривать эти сравнительные конструкции по шкале простоты-сложности (см.: [Черемисина, 1978]), то можно заметить, что здесь встречаются конструкции простые, осложненные сравнительными оборотами и выраженные существительными: Глаза у него как ясны звезды [Скимен-зверь заслышал рождение богатыря]; Тугарин темнеет на Олешу как темная ночь
[Алеша Попович и Змей Тугаретин], а также сложные сравнительные конструкции, части которых вступают в отношения главного и придаточного предложений (так называемые фольклорные параллелизмы): И стоит его матушка у стремена, молода Амельфа Тимофеевна, и плачет она, как река течет [Про Добрыню Никитича и отца его Никиту Романовича]; И сама она [красна девица] плачет, как река текот, возрыдает она, как погода бьет [Туры]; Во руках держит [красна девица] книжку евангеле, она чтет евангеле, как река текот [Туры]. Причем если рассматривать отношения между сказуемыми, то можно говорить и о наличии «дейктических предикатов» (термин М. И. Черемисиной) в придаточных частях.
Аналогичные примеры встречаются в хакасском эпосе, в простых и сложных конструкциях.
-
• Простые предложения: Хыс Хан та-лай чiли таазыбысхан ‘Хыс-Хан подобно великой реке стала подниматься’; Тозегинде чачъазы тaF чiли кооп парFан ‘На полу старшая сестра его подобно горе распухла’.
-
• Сложные предложения: Тозеггнде ча-чазы тундергл парFан одыр , талай чiли та-ас парFан ‘Старшая сестра на постели сидит, как будто великая река выступила из берегов’; Тус паратхан улуF чил чiли , ыылап киледгр ‘Как будто бы дует сильный ветер, так зашумел он [достойнейший из коней]’.
Сравнение с горой или рекой не случайно: река считалась проводником в Подземный мир, поэтому часто в эпосе ее наименованию сопутствует эпитет хара ‘черная’, а гора связывала фольклорные Нижний, Средний и Верхний миры: Ир соогг - искiр таF осхас ‘Тело мужа - подобно сообщающей горе’. Последний пример интересен и употреблением еще одного сравнительного послелога - осхас со значением ‘похож, подобен’. См. также: Тиггрденъ тускен хар осхас ‘Он [младенец] подобен снегу, спустившемуся с небес’ (традиционная формула описания белолицего ребенка); ТaмaFын кизгбгскен хан осхас ‘[младенец] подобен крови из горла’ (традиционная формула описания румяного ребенка через квазисо-матический образ). Этот же послелог рассматривается иногда как особого рода наречие, у которого еще не завершился переход от самостоятельного слова (может принимать различные грамматические формы) к служебному (в предложении самостоятель- но не употребляется, но имеет самостоятельное лексическое значение) [Кыржина-кова, 2009].
Фитонимы в эпических текстах разнообразны и символичны. Считается, что, например, образ дерева отражает наличие ряда универсальных мифологем, распространенных по всему миру. Это мифологемы Мирового дерева, Древа жизни и Древа познания [Ойношев, 2006. С. 121]. Растущее дерево с вечнозелеными листьями есть символ жизни, процветания народа. Дерево является также своеобразным «маркером» рода, так как каждому роду соответствовало определенное дерево. Кроме того, деревья, точнее появляющаяся и исчезающая на них листва, были естественными показателями времени [Сагалаев, Октябрьская, 1990]. Так, символ русской природы - береза (Да и не белая береза к земле клонится, и не шелковая трава в поле устилается, еще клонится родной сын перед матерью [Илья Муромец и его сын Бориско]) - имеет огромное значение и в хакасской мифологии, являясь, наряду с осиной и лиственницей, родословным деревом. Отсюда и образы для сравнения: Хазынъ (осхас) чооны хaбырFaлaрын хати тудызыбысханнар ‘[Хан-Мирген и Белесый Волк] били друг друга по ребрам, которые были толщиной с березу’; Ос (осхас ) чооны орхаларын олыстыра тарты-зыбысханнар ‘[Хан-Мирген и Белесый Волк] тянули друг друга за позвоночники, которые были толщиною с осину’. Как видно из первого контекста, кроме уже отмеченных нами ранее способов (Из права алтаря вышла красна девица, лицом бела, щеки как две маковицы, во руках держит книжку евангеле [Туры]; На буйной голове кудерцы дубровушкой шумят [Алеша Попович и Змей Тугаретин]), в былинах встретились и приемы отрицательных сравнений: Не белая лебедка в перелет летит, красная девушка из полону бежит [Девушка бежит из плена]; Он [Добрыня] стрелял во голуба со голубкою. Богатырска-то стрела не путем пошла, не путем пошла, колесом (в)звела, не попала во голуба со голубкою [Добрыня и Маринка]. Такой тип сравнений не отмечен в хакасском эпосе, да и в русских былинах он довольно редок. В целом фитообразные компоненты используются преимущественно в составе придаточных сравнительных предложений, причем в русском эпосе - еще и в составе отрицательных конструкций, а в хакасском – в конструкциях с послелогом осхас.
Категорию сравнения в рамках когнитивной лингвистики некоторые исследователи относят к модусным, причем средства выражения сравнения могут быть морфологическими, а точнее степенями сравнения прилагательных, которые выражают граду-альность признаков: от их равенства до приблизительного равенства, неполного неравенства, полного различия и т. п. [Захарова, 2009]. Степени сравнения стали одним из средств формирования образа и для хакасского эпоса: Хан Мирген , ирдтъ чахсы-зы , хазыра , пуге тартыбысхан , Ай Тонъ1с , альт к1з1н1 , алты айланып , тастап парFан ‘Хан-Мирген, достойнейший из мужей, согнув богатыря Ай-Тенгиса, схватил, шесть раз покрутив, бросил’. Сравнительная конструкция ирдгнъ чахсызы ‘достойнейший из мужей’ выражена сравнительной степенью, образованной при помощи аффикса принадлежности 3-го л. ед. ч. при определяемом и родительным падежом при определении. Эта конструкция выбивается из привычного понимания сравнения (наличие образа для сравнения и формального показателя для сравнения), однако, учитывая, что сравнения могут быть эксплицитными и имплицитными (в форме положительной степени прилагательного выражают градуальные признаки сравниваемых предметов и явлений [Садовская, 2008]), считаем, что такую конструкцию можно рассматривать в качестве образоформирующей, поскольку ее возникновение в эпическом тексте обусловлено переоценкой качеств эпических героев, в данном случае высшей степенью идеализации одного из них. Так же можно объяснить и пример Чачъазынынъ сырайы чабал , сыны-пусУт андыF ниме - саFызы улам чабал ‘[Хан-Мирген думает]: у старшей сестры страшное лицо, если у нее такое сложение, ум ее еще более страшный’. Наречие улам ‘еще, сильнее, больше’ содержит в себе признак сравнения.
Как уже говорилось, сравнение в русских былинах может выражаться при помощи творительного сравнительного. В хакасском языке тоже есть подобные «морфологические» сравнительные конструкции с формами продольного / сравнительного падежа (по кому, по чему): АрыF сшг хыс чахсы, от=ча обалы чоFыл ‘Прекрасная достойная дева, даже подобно травинке греха в ней нет’; Ч1п=че позы халFан хыс кЫ ‘Сама дева стала как нить (исхудала)’; Падар айданъ чачъазы соFлыF=чъа чатчадыр ‘У опустившейся луны старшая сестра подобно тлеющим углям лежит’.
Как видим, сравнения активно задействованы в создании образной системы эпических текстов и выражены при помощи простых и сложных сравнительных синтаксических конструкций, а также «морфологических» средств. Во всех случаях выбор денотативных сфер эталонов для эпических сравнений определялся актуализацией традиционных представлений о действительности, в частности традиционных верований народов (например, их мифологии, шаманизма, анимализма и т. д.). Все рассмотренные нами случаи сравнений, войдя в круг изобразительных средств эпических стилевых систем и отразив в текстах определенные типы идеализации национальных фольклорных миров, способствовали закреплению в эпосах таких мифологических, религиозных, бытовых образных представлений.
Список литературы Сравнения в хакасском и русских эпических текстах
- Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: КомКнига, 2007.
- Богомаз С. М. Вещь в традиционной культуре тюркских народов Центральной Азии//Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2008. № 3 (4). С. 121-126.
- Бутанаев В. Я., Монгуш Ч. В. Архаические обычаи и обряды саянских тюрков. Абакан, 2005.
- Гутман Е. А., Черемисина М. И. Зооморфизмы в современном французском языке в сопоставлении с русским//В помощь преподавателям иностранных языков. Новосибирск, 1972. Вып. 3.
- Гутман Е. А., Черемисина М. И. Образные значения зоонимов в словарях//Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск, 1976. Вып. 5.
- Гутман Е. А., Литвин Ф. А., Черемисина М. И. Сопоставительный анализ зооморфных характеристик (на материале русского и французского языков)//Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977.
- Захарова Т. В. Степени сравнения прилагательных как первичные морфологические средства вербализации концепта сравнения//Вестн. Челябинск. гос. пед. ун-та. Серия: Филология. 2009., № 3. С. 200-209.
- Субракова О. В. Язык хакасского героического эпоса. Абакан: Хакасское кн. изд-во, 2007.
- Киндикова Н. М. Алтайцы в контексте истории (этнокультурологический аспект)//Филология и человек. 2008. № 1. С. 97-103.
- Кыржинакова Э. В. Сравнительная конструкция со словом осхас в современном хакасском языке//Вестн. ВЭГУ. 2009. № 3 (41). С. 150-156.
- Майногашева В. Е. Хакасское героическое сказание «Алтын Арығ»: Дис. … канд. филол. наук. Новосибирск: Ин-т истории, филологии и филос. СО АН СССР, 1967.
- Ойношев В. П. Система мифологических символов в алтайском героическом эпосе. Горно-Алтайск, 2006.
- Сагалаев А. М., Октябрьская И. В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал. Новосибирск: Наука, 1990.
- Садовская Н. Д. Сравнительные конструкции с компонентом «прекрасное» в английской литературной сказке о животных//Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. № 3. С. 109-113.
- Табахьян П. В. Изобразительно-выразительные средства фольклора. Днепропетровск, 1983.
- Черемисина М. И. Сравнительные конструкции русского языка. Новосибирск: Наука, 1978.