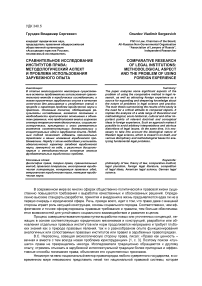Сравнительное исследование институтов права: методологический аспект и проблема использования зарубежного опыта
Автор: Груздев Владимир Сергеевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 8, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются некоторые существенные аспекты проблематики использования сравнительного метода в юридических исследованиях, а также привлечения зарубежного опыта в качестве источника для расширения и углубления знаний о природе и характере проблем юридической науки и практики. Основным тезисом, обобщающим результаты исследования, является положение о необходимости критического отношения к объектам сравнения, что предполагает анализ широкого спектра теоретико-методологических, социально-исторических, культурных и иных релевантных моментов соответствующих доктринальных и концептуальных идей в зарубежном опыте. Подобный подход позволяет избежать произвольных трактовок и явных искажений юридической проблематики. Наряду с этим необходимо учитывать идеологический характер западной юридической науки, замкнутой на себе, и различные дисциплинарные и методологические основания анализа фундаментальных юридических проблем.
Философия права, теория права, сравнительный метод, правовой плюрализм, иностранная юридическая литература, конкуренция правовых идей, американская юридическая наука, немецкая юридическая наука
Короткий адрес: https://sciup.org/149132594
IDR: 149132594 | УДК: 340.5 | DOI: 10.24158/pep.2020.8.14
Текст научной статьи Сравнительное исследование институтов права: методологический аспект и проблема использования зарубежного опыта
В современном мире во многих сферах общественно-политической и правовой жизни существенно повышаются требования к выработке качественных и обоснованных решений. Определенно высокие стандарты разработки, принятия и внедрения в жизнь предъявляются едва ли не в первую очередь к юридической сфере. Речь, прежде всего, идет о том, что право даже с внешней стороны играет роль несущей конструкции, основы социального порядка. Соответственно, чем эффективнее и точнее сформулированы правовые требования и правила, тем больше обеспечивается возможностей для устойчивого социального взаимодействия и развития в целом.
Процесс совершенствования права путем выработки новых или уточненных концепций, лежащих в основе соответствующих юридических механизмов и конструкций, разработки или обновления отдельных правовых институтов или норм продолжается непрерывно и требует глубоких знаний как о природе правовых явлений, так и о разнообразном опыте функционирования аналогичных или сопоставимых правовых институтов или правил в зарубежных правопорядках.
В.С. Нерсесянц, освещая аксиологическую сторону права, писал: «Право как ценность – вечная и вместе с тем всегда новая проблема юриспруденции» [1, с. 3]. Поэтому поиски «лучшего» права не прекращались никогда. Исследователи традиционно обращаются к другому опыту, стремясь отыскать в зарубежной интеллектуальной традиции более пригодные и эффективные способы понимания права, объяснения его существенных признаков.
Несмотря на явно национальный вектор правопорядка любого суверенного государства, в современном мире невозможно представить некий тип национальной правовой системы, которая сформировалась и существовала бы как нечто совершенно автономное, т. е. независимо от каких-либо влияний, заимствований, воспроизведения опыта прошлых или нынешних поколений, более удачных и успешных практик решения конкретных социальных проблем и т. п.
Сравнительные исследования правовых идей, концепций, институтов, основанные на всестороннем анализе исследовательских задач и познавательных возможностей, всегда существенно обогащали юридическую науку и служили одним из ключевых факторов совершенствования юридической деятельности. В современной юридической литературе можно найти многочисленные исследования, в которых с разной степенью эффективности, но достаточно активно используется сравнительный подход (Р. Давид, Х. Кетц, К. Цвайгерт, М.Н. Марченко, А.Х. Саидов, А.А. Тилле и др.). При этом, к сожалению, обращение к зарубежному опыту нередко ограничивается узконаправленными извлечениями примеров из литературы, законодательства и практики, что часто сопряжено с неверными трактовками смысла и содержания конкретных идей, концепций, институтов, отдельных норм. Так, например, сравнение институтов завещания в российском и немецком праве без освоения наследственного и гражданского права обеих стран в целом заведомо привело бы к ошибочным результатам, т. к. в основе законодательного регулирования этого института в указанных правопорядках лежат существенно различающиеся концепции (например, в связи с правом на обязательную долю в наследстве, принципиально по иному распределяющим объем свободы завещания, и т. п.).
Иностранный опыт, безусловно, является важным элементом сравнения, контрастным фоном, который позволяет более точно расставить положительные и отрицательные оценки собственным успехам и результатам. Однако в этом отношении следует избегать некритического заимствования зарубежных идей и практик. В настоящее время в юридической науке, в том числе западной, сложилась ситуация, когда внутри ее предметного поля практически сведена на нет конкурентная борьба между идеями. А если и присутствует, то в виде отрицания иной позиции как таковой.
Во второй половине ХХ столетия возникла мода на плюрализм [2]. Многообразие стало объявляться закономерностью, атрибутом западного стиля мышления. Эта установка снимала проблему универсальности правовых идей и понятий, т. к. предполагала известную социологи-зацию юридического мышления, деконструируя имманентные для права признаки в виде обязательности, нормативности, системности. В новейших подходах к объяснению права, особенно в американской юридической литературе, тотальность юридического воспринимается как некий пережиток прежних доктрин, особенно в отношении постоянно возрождающегося в трудные периоды социальной истории естественного права, а традиционные юридические идеи и понятия, с которыми, как минимум, со времен классического римского права работали многие поколения юристов, объявляются балластом для «нового» и «прогрессивного», например, для представителей так называемого «нового правового реализма» [3].
Серьезная проблема юридической науки состоит в том, что идеи зарубежных предшественников и современников анализируются не в контексте их критического анализа и возможного диалога, а лишь, как правило, в качестве образцов для подражания, опираясь на почти квазирелиги-озные утверждения о ценности каких-либо взглядов и необходимости примкнуть к ним. Такой подход, к сожалению, крайне популярен сегодня и вряд ли имеет конструктивный характер. В действительности знакомство с иностранной литературой, соответствующими доктринами, государственной и социальной практикой всегда представляет собой сложнейший научный процесс, предполагающий поиск, расшифровку, сопоставление и объяснение соответствующих источников и материалов. При этом в каждом случае существует разнообразная литература, повествующая о разных трактовках предмета, возможности и необходимости поиска путей решения существующих проблем, критике собственных подходов и достижений и т. п.
Кроме того, в наше время по-прежнему сильное влияние на западную литературу оказывает идеология, которая традиционно замыкается на признании собственной центральной роли. Так, известный немецкий философ М. Хайдеггер подчеркивал, что то, что называется словом «философия», является лишь историей западноевропейской культуры, т. к. интеллектуальная история последней и есть, по его мнению, история философии [4, с. 27]. Если следовать его тезису, то можно сказать, что при таком подходе никакой западной философии не существует, т. к. история того, что он называет философией, определяется не вообще западноевропейской интеллектуальной традицией, а античной, в особенности греческой, философией. Чрезвычайно сильной является роль политических лозунгов и в целом политической этики в правовом мышлении западного общества. Поэтому зачастую многие современные, по крайней мере, возникшие в ХХ в. правовые доктрины и концепции становятся понятными лишь на основе продолжения или предположения определенных принципов конкретной политической идеологии, например, о демократии, индивидуальной свободе, правах меньшинств и т. п.
Анализируя национальную литературу, например, американскую, немецкую и российскую, по вопросу о предмете и наборе юридических дисциплин, можно отметить, что, скажем, в немецкой традиции философия права и теория права с трудом различимы. Один из наиболее авторитетных немецких правоведов и философов второй половины ХХ в. А. Кауфман не раз подчеркивал, что существование теории права наряду с философией права «можно объяснить только исторически» [5, с. 8]. В 1980 г. он, в частности, писал (этот тезис повторялся и в 2001 г., в последних прижизненных изданиях «Введение в философии права...»): «Хотя название “теория права” старое, его использование для специальной дисциплины науки права вряд ли насчитывает более чем три десятилетия. Однако дисциплина “теория права” также совсем не нова, ведь то, что в XIX в. до начала XX в. имело силу под этикеткой “общее учение о праве”, хотя и не то же самое, но все же нечто очень схожее с сегодняшней теорией права» [6].
В структуре немецкой системы юридического образования философия права и история права относятся к базовому блоку дисциплин, освоение которых рассматривается как необходимое условие, например, для судейской деятельности. Теория права не изучается в этой стране, так же как, скажем, в России. Или же, например, в американском юридическом образовании, которое чрезвычайно разнится от штата к штату, философия права изучается традиционно лишь в форме специальных курсов и освещения отдельных проблем философско-правового характера (своего рода партикулярная философия права). В каждом случае мы можем констатировать, что американская философия права имеет весьма односторонний региональный фокус, акцентируя внимание на философско-правовом обсуждении проблем американского общества, например, особенно сильны традиционные темы расизма, феминизма, междисциплинарных исследований права в соотношении с экономикой, политикой, обществом и т. п.
В немецкой юридической литературе по-прежнему приоритетными являются темы идеалистического плана, в частности, о критериях научности юриспруденции, естественно-правовом мышлении, правовой системе и особенно юридической догматике. Новые направления весьма осторожно обозначаются как «тенденции», в которых фиксируется устойчивый интерес исследователей к определенной проблематике, например, по вопросам соотношения биоэтики и права, повышения значения процедурного компонента в уголовном праве и т. п.
В отечественной юридической литературе философия права по-прежнему занимает очень скромное положение, составляет в значительной степени предмет научного творчества, а в сфере образования решающую роль играет теория права и государства, которая имеет в основном совершенно непохожий на зарубежные образцы набор тем для обсуждения и изучения. В.А. Туманов, в частности, писал: «Чем выше философский уровень общей теории права, тем большее место занимают в ней юридико-философские проблемы (в том числе аксиологические), тем больше возрастают познавательные и методологические возможности этой науки» [7, с. 271]. Один наиболее ярких представителей американской теории права В. Фридман (немец по происхождению, юридическое образование получил в Берлине) в неоднократно переиздававшемся курсе «Теория права» настойчиво говорил о необходимости «разрушить изоляционизм чисто профессионального и технического подхода к праву» [8, с. 15] за счет исследования философских, политических и экономических аспектов.
Таким образом, если обнаруживаются и выбираются в качестве предмета исследования сопоставимые темы и проблемы в опыте разных региональных подходов, то зачастую, при внешнем созвучии и сходстве, конкретное их содержательное наполнение, методологические приемы разъяснения и разработки могут существенно различаться. И если при этом игнорируется или упускается из виду необходимость выяснения теоретико-методологических и социально-исторических предпосылок соответствующей проблематики, то нередки весьма существенные искажения и фальсификации правовых идей и явлений.
В этой связи, когда ставится задача освоения зарубежного опыта в области философии права или теории права, то очевидно, что понимание сущности соответствующих проблем, методология работы с ними, восприятие их значимости, оценка эффективности соответствующих решений, как правило, существенно отличаются в каждом случае. И лишь на основе широкого охвата социально-исторического контекста, идейного и культурного своеобразия, определенных социально-практических установок можно объяснить значение соответствующих понятий и конструктов, использовать их для сравнительного анализа и выработать на этой основе рекомендации о возможных путях их дальнейшего использования.
Совершенствование юридической теории и государственно-правовой практики предполагает сравнение и критический анализ отечественных и зарубежных правовых институтов. Некритически «импортируемые» идеи и институты ведут к перегрузке национальной правовой системы, искажают правовую реальность и влияют деструктивно на пересоздание системы базовых цен- ностей, лежащих в основе правовой системы и правовой культуры. Сравнительный анализ институтов права в разных правопорядках должен основываться на разъяснении «логики» (концептуального содержания) конкретной правовой системы как в целом, так и в частности по анализируемым аспектам, что позволяет сделать значимую поправку на влияние идеологии, специфику использования приемов анализа юридической проблематики, а также характер аргументации при оценке результатов функционирования соответствующих институтов правовой системы.
Ссылки:
-
1. Политико-правовые ценности: история и современность / под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2000. 256 с.
-
2. Gailhofer P. Rechtspluralismus und Rechtsgeltung. Baden-Baden, 2016. 388 s.; Seinecke R. Das Recht des Rechtspluralismus.
-
3. The New Legal Realism. Vol. 1: Translating Law-and-Society for Today’s Legal Practice. N.Y., 2016. 303 р.; The New Legal Realism. Vol. 2: Studying Law Globally: New Legal Realist Perspectives. N.Y., 2016. 282 р.
-
4. Хайдеггер М. Гегель. Негативность. Разбирательство с Гегелем в ракурсе вопроса о негативности. СПб., 2015. 320 с.
-
5. Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart / hrsg. A. Kaufmann, W. Hassemer, U. Neumann.
-
6. Ibid. S. 8.
-
7. Туманов В.А. Избранное. М., 2010. 736 с.
-
8. Friedmann W. Legal Theory. N.Y., 1967. 607 p.
Tübingen, 2015. 444 s.
Heidelberg, 2004. 515 s.
Редактор, переводчик: Арсентьева Ирина Ильинична
Список литературы Сравнительное исследование институтов права: методологический аспект и проблема использования зарубежного опыта
- Политико-правовые ценности: история и современность / под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2000. 256 с
- Gailhofer P. Rechtspluralismus und Rechtsgeltung. Baden-Baden, 2016. 388 s.; Seinecke R. Das Recht des Rechtspluralismus. Tübingen, 2015. 444 s
- The New Legal Realism. Vol. 1: Translating Law-and-Society for Today's Legal Practice. N.Y., 2016. 303 р.; The New Legal Realism. Vol. 2: Studying Law Globally: New Legal Realist Perspectives. N.Y., 2016. 282 р
- Хайдеггер М. Гегель. Негативность. Разбирательство с Гегелем в ракурсе вопроса о негативности. СПб., 2015. 320 с
- Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart / hrsg. A. Kaufmann, W. Hassemer, U. Neumann. Heidelberg, 2004. 515 s
- Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart / hrsg. A. Kaufmann, W. Hassemer, U. Neumann. Heidelberg, 2004. S. 8.
- Туманов В.А. Избранное. М., 2010. 736 с
- Friedmann W. Legal Theory. N.Y., 1967. 607 p