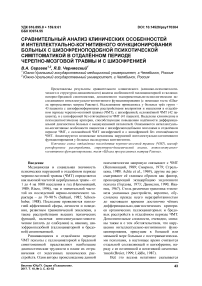Сравнительный анализ клинических особенностей и интеллектуально-когнитивного функционирования больных с шизофреноподобной психотической симптоматикой в отдалённом периоде черепно-мозговой травмы и с шизофренией
Автор: Сергеев Владимир Андреевич, Чернявский Ярослав Валерьевич
Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu
Рубрика: Медицинская (клиническая) психология
Статья в выпуске: 3 т.10, 2017 года.
Бесплатный доступ
Представлены результаты сравнительного клинического (клинико-психопатологического и структурно-динамического) анализа особенностей галлюцинаторной и галлюцинаторно-бредовой симптоматики, дополненного экспериментально-психологическим исследованием интеллектуально-когнитивного функционирования (с помощью теста «Шкала прогрессивных матриц Равена»). Исследование проводилось у больных трёх групп - 43 пациента с шизофреноформными расстройствами восприятия и мышления в отдалённом периоде черепно-мозговой травмы (ЧМТ), с шизофренией, осложнённой ЧМТ (42 пациента), и с шизофренией без отягощённости ЧМТ (41 пациент). Выделены клинические и психодиагностические критерии, способствующие повышению надёжности дифференциальной диагностики больных с вышеуказанной патологией. Описываются интеллектуально-когнитивные особенности пациентов с шизофреноподобными психозами в отдалённом периоде ЧМТ, с осложнённой ЧМТ шизофренией и с шизофренией без отягощённости ЧМТ. Анализируются возможные механизмы нарушений интеллектуально-когнитивного функционирования у больных исследуемых контингентов.
Отдалённые последствия черепно-мозговой травмы (чмт), шизофреноформные расстройства, структурно-динамический анализ, интеллектуально-когнитивное функционирование, тест "шкала прогрессивных матриц равена"
Короткий адрес: https://sciup.org/147160068
IDR: 147160068 | УДК: 616.895.8 | DOI: 10.14529/psy170304
Текст научной статьи Сравнительный анализ клинических особенностей и интеллектуально-когнитивного функционирования больных с шизофреноподобной психотической симптоматикой в отдалённом периоде черепно-мозговой травмы и с шизофренией
Медицинская и социальная значимость психических нарушений в отдалённом периоде черепно-мозговой травмы (ЧМТ) определяется как высокой частотой церебральных травм – от 1 до 4 на 1000 населения в год (Непомнящий, 1989; Rizzo, 1996), так и значительной частотой их последствий нервно-психического характера – до 70–90 % (Saltuari, 1985; Schoen-huber, 1988). Последние проявляются патологией аффективной сферы, личности и поведения, развитием травматической эпилепсии, а также расстройствами высших психических функций, включая интеллектуально-мнести-ческие (вплоть до слабоумия) и, наконец, ши-зофреноподобной (галлюцинаторной и бредовой) симптоматикой.
Развивающиеся в отдалённом периоде ЧМТ психозы с галлюцинаторной и бредовой симптоматикой представляют наибольшие диагностические трудности в плане их отграничения от эндогенных психических расстройств. Одни авторы происхождение данной психопатологии напрямую связывают с ЧМТ (Непомнящий, 1989; Смирнов, 1979; Стрельцова, 1989; Achte et al., 1969), другие же рассматривают её главным образом как фактор, провоцирующий экзацербацию эндогенного психоза (Гордова, 1973; Даниелян, 1990; Ива-нец, 1967). Столь различная трактовка этиоге-неза указанных расстройств, вероятно, обусловлена прежде всего неразработанностью до настоящего времени достаточно чётких дифференциально-диагностических критериев органических галлюцинаторных и бредовых расстройств в отдалённом периоде ЧМТ. Дополнительные сложности, очевидно, связаны также и с тем обстоятельством, что нарушения интеллектуально-когнитивного функционирования, присущие в большей или меньшей мере больным с посттравматическими психозами, в настоящее время считаются отдельной составляющей и шизофрении, наряду с ее позитивной и негативной симптоматикой (Breier, 1999; Liddle, 1987).
Всё это весьма негативно сказывается в отношении как надёжности диагностики, так и в оказании адекватной и эффективной лечебной и психосоциальной помощи таким больным. Как следствие, требуется расширение диагностических подходов не только в плане поиска новых и уточнения известных клинико-диагностических критериев, но и за счёт привлечения методов экспериментальнопсихологического исследования, включая тесты оценки интеллектуального функционирования.
Вышеизложенное определило цель настоящего исследования – выделение комплекса клинико-диагностических и психодиагностических критериев экзогенно-органических (в периоде отдалённых последствий ЧМТ) и эндогенных галлюцинаторно-бредовых расстройств на основе их структурнодинамического (клинико-феноменологического и клинико-динамического) анализа и сравнительного изучения интеллектуально-когнитивного функционирования больных с соответствующей патологией для осуществления дифференциальной диагностики и дифференцированной лечебно-реабилитационной помощи, а также прогноза и решения вопросов экспертизы.
Материал и методы
Материалом исследования послужили результаты комплексного обследования 126 пациентов в возрасте от 18 до 50 лет (в том числе 80 мужчин и 46 женщин), находившихся на лечении в психиатрическом стационаре по поводу наличия у них галлюцинаторной и галлюцинаторно-бредовой симптоматики. Исследуемую выборку составили больные, входившие в одну из трёх групп изучения. Первая (основная группа, ОГ) включала 43 человека (29 мужчин и 14 женщин) с эндоморфной психопатологической симптоматикой в отдалённом периоде ЧМТ, прямо обусловленной перенесенной ЧМТ. Вторая группа (группа сравнения № 1, ГС-1) состояла из 42 больных (27 мужчин и 15 женщин) с сочетанной патологией – шизофренией и ЧМТ в анамнезе, имевшей место уже после манифестации эндогенной патологии, с развитием соответствующей психопатологии. В третью группу – группу сравнения № 2, ГС-2) – вошли 41 больной шизофренией (24 мужчины и 17 женщин) с галлюцинаторно-бредовой симптоматикой без ЧМТ в анамнезе.
Средний возраст пациентов на момент обследования был сопоставим и составил: в груп- пе ОГ – 30,7 лет; ГС-1 – 29,5 лет; ГС-2 – 28,9 лет. Возраст манифестации галлюцинаторной и галлюцинаторно-бредовой симптоматики приходился в среднем: в группе ОГ – на возраст 27,5 лет; ГС-1 – на 25,8 лет; ГC-2 – на 25,4 лет. Давность заболевания составляла: в ОГ – 3,2 года; в ГС-1 – 3,7 года; в ГС-2 – 3,5 года.
Все пациенты групп ОГ и ГC-1 перенесли закрытую ЧМТ в возрасте 26,4 и 25,1 лет соответственно. В первой из них сотрясения головного мозга имели место у 6 (14 %) больных, ушибы головного мозга лёгкой степени у 8 (18,6 %), ушибы средней степени у 29 (67,4 %); во второй – сотрясения зафиксированы у 7 (16,7 %), лёгкие ушибы мозга у 10 (23,8 %) и ушибы средней тяжести у 25 (59,5 %) пациентов.
Методы исследования включали клиническое изучение психопатологической симптоматики, экспериментально-психологическое исследование интеллектуально-когнитивного функционирования и статистические методы анализа результатов обследования.
Из клинических методов, наряду с традиционным клинико-психопатологическим, использовался также и структурно-динамический подход к изучению особенностей галлюцинаторной и галлюцинаторно-бредовой симптоматики у больных исследуемых групп, осуществлявшийся на основе клинико-феноменологического анализа психопатологических проявлений с учётом их динамических характеристик (Рыбальский, 1989).
Интеллектуально-когнитивное функционирование больных изучаемых групп оценивалось с помощью экспериментальнопсихологической диагностической методики «Шкала прогрессивных матриц Равена», позволяющей оценивать способность обследуемых к систематизированной и планомерной интеллектуальной деятельности и характеризующейся тем, что решение входящих в неё заданий требует участия трёх основных психических процессов – внимания, перцепции и мышления. Существенным плюсом данной методики, определившим её выбор, является то, что благодаря невербальному характеру заданий на результаты тестирования меньше влияют приобретённые обследуемым знания в связи с образованием и жизненным опытом (Блейхер, 1986). Определённую роль в предпочтении выбора этого теста сыграло также и то, что он позволяет более тонко дифференцировать особенности интеллекта в низших по- лосах интеллектуальных способностей – прежде всего в субнорме (Черны, 1988).
Статистическая обработка первичных данных осуществлялась с помощью пакета прикладных программ SPSS Statistics (версия 20) в среде Windows-7 с использованием критерия Стьюдента.
Результаты
Сопоставление изучаемых групп больных с проведением соответствующей статистической процедуры не выявило между ними каких-либо существенных различий по возрастному и гендерному составу, давности заболевания и возрасту его манифестации, а также по характеру и тяжести перенесенной ЧМТ и возрасту, в котором она была получена (для групп ОГ и ГС-1 p>0,05). Всё это, несомненно, свидетельствует о сопоставимости рассматриваемых групп по критерию наличия ЧМТ и ее последствий.
Клиническое исследование с помощью традиционного клинико-психопатологического анализа зафиксировало наличие галлюцинаторного синдрома, не сопровождавшегося какой-либо бредовой симптоматикой у 28 больных группы ОГ (65 % численности группы) и лишь у 8 (19 % выборки) больных группы ГС-1, тогда как в группе ГС-2 пациентов с исключительно галлюцинаторной симптоматикой (без бреда) не было ни одного, что статистически значимо различало эти три группы между собой (p<0,05). Галлюцинаторно-бредовый синдром наблюдался: у 15 больных группы ОГ (35 %); у 34 больных второй группы (81 % выборки ГС-1) и у всех 100 % больных группы ГС-2, что также статистически достоверно отличало их друг от друга и имеет вполне очевидные, на наш взгляд, объяснения, связанные с нозологической спецификой групп.
Весьма заметно исследуемые группы разнились и по численному составу пациентов с галлюцинациями различной топической модальности, регистрировавшимися в наших наблюдениях исключительно в виде одного из двух вариантов – слуховых или зрительных. Последнее нашло своё отражение в табл. 1, демонстрирующей достоверное преобладание зрительных галлюцинаций у больных основной группы (ОГ) относительно групп сравнения (ГС-1 и ГС-2). В последних, в свою очередь, со статистической значимостью больше были представлены пациенты с обособленными слуховыми галлюцинациями или в сочетании со зрительными галлюцинациями (p<0,05). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в группе больных шизофренией без отягощённости ЧМТ (ГС-2) ни у кого из обследуемых не отмечались изолированные зрительные галлюцинации (вне их комбинации со слуховыми). Напротив, в группе пациентов с галлюцинаторной симптоматикой, обусловленной ЧМТ (ОГ), исключительно редким явлением была как раз сочетанность слуховых и зрительных галлюцинаций, а там, где таковая фиксировалась в клиникопсихопатологической картине, первыми всегда появлялись зрительные галлюцинации с последующим присоединением к ним слуховых. В то же время в двух других группах (ГС-1 и ГС-2) последовательность развития галлюцинаций указанных модальностей во всех случаях была прямо противоположной – первоначально шло формирование слуховых, а затем уже и зрительных нарушений.
Психопатологический анализ клинических проявлений бредовых расстройств, входивших в структуру галлюцинаторнобредового синдрома, позволил квалифицировать их как параноидные у 15 больных группы ОГ (35 % численности), у 42 (100 %) больных в группе ГС-1 и у подавляющего большинства (у 39) больных в группе ГС-2 (95 % ее численности), что также статистически достовер-
Таблица 1
Сравнительный модальностно-топический анализ галлюцинаторной симптоматики у больных трёх групп изучения
Ещё более существенные межгрупповые различия выявил структурно-динамический анализ галлюцинаторной и галлюцинаторнобредовой симптоматики. Итоговые результаты соответствующего изучения обманов восприятия представлены в обобщённом виде в табл. 2, фиксирующей отличительные особенности пациентов из основной группы (ГО) и групп сравнения (ГС-1 и ГС-2).
Установлено, например, что присущие псевдогаллюцинаторному синдрому характеристики (связь галлюцинаций с патологией мышления и некритичное отношение к ним; отсутствие естественности и реалистичности в их оформлении с чувством сделанности и снижением сенсорности; локализация в ин-тра- или экстрапроекции, но всегда в представляемом пространстве и всегда воспринимающихся мозгом) не регистрировались ни у одного из больных группы ОГ, но отмечались у более половины (57,1 %) пациентов группы ГС-1 и у всех больных третьей группы (ГС-2), что статистически значимо различало как основную группу с группами сравнения, так и две последние между собой (p<0,05).
Совершенно иное соотношение частоты выявления в изучаемых группах обнаружено в отношении синдрома галлюциноза, регистрируемого в виде одного из трёх вариантов – органического, идеаторного и псевдогаллюциноза.
Органический галлюциноз (характеризующийся проекцией в представляемое или воспринимаемое пространство, но всегда без ассимиляции окружающей обстановкой, а также отсутствием реалистичности и преимущественно добродушным отношением больного к галлюцинациям) достоверно чаще (р<0,05) отмечался в группе ОГ – 60,5 % (при том что в группе ГС-1 он отмечался только у каждого шестого пациента, а у больных группы ГС-2 он вообще не регистрировался).
Идеаторный галлюциноз (с проекцией галлюцинаций только в воспринимаемое пространство, со связью с окружающими объективными предметами и реалистичностью оформления, характеризующийся в то же время отсутствием веры в его действительное существование за счёт сохранности критики и в целом более адекватной аффективной реакцией на сам факт появления расстройств восприятия) также преобладал у пациентов группы ОГ (но в меньшей степени, чем органический галлюциноз) и отмечался у каждого третьего пациента (34,8 % численности этой выборки), тогда как в группе ГС-1 он регистрировался лишь у каждого четвертого пациента и не регистрировался ни у одного из пациентов группы ГС-2 (все различия достоверны на уровне p<0,05). Псевдогаллюциноз, структурно отличавшийся от идеаторного лишь интрапроекцией, фиксировался лишь у 2 больных из группы ОГ и ни у кого из представителей групп сравнения.
Истинные галлюцинации (с присущими им экстрапроекцией галлюцинаторного образа, оцениваемого как реально существующий, с предшествующим нарушением мышления, утратой критики и бредовой интерпретацией при отсутствии чувства сделанности, с эмоционально-аффективной реакцией, соот-
Таблица 2
Сравнительный клинико-феноменологический анализ галлюцинаторной симптоматики у больных трех групп изучения
|
Варианты галлюцинаторного синдрома |
Группы изучения |
Группы с достоверными различиями (p<0,05) |
|||||
|
ОГ (n=43) |
ГС-1 (n=42) |
ГС-2 (n=41) |
|||||
|
абс. |
% |
абс. |
% |
абс. |
% |
||
|
1. Истинные галлюцинации |
0 |
0 |
(12)* |
(28,6)* |
(14)* |
(34,2)* |
ОГ – ГС-1, ГС-2; |
|
2. Псевдогаллюцинации |
0 |
0 |
24 |
57,1 |
41 |
100 |
ОГ – ГС-1, ГС-2; ГС-1 – ГС-2; |
|
3. Галлюциноз, в том числе: |
43 |
100 |
18 |
42,9 |
0 |
0 |
ОГ – ГС-1, ГС-2; ГС-1 – ГС-2; |
|
– органический |
26 |
60,5 |
7 |
16,7 |
0 |
0 |
ОГ – ГС-1, ГС-2; ГС-1 – ГС-2; |
|
– идеаторный |
15 |
34,8 |
11 |
26,2 |
0 |
0 |
ОГ – ГС-1, ГС-2; ГС-1 – ГС-2; |
|
– псевдогаллюциноз |
2 |
4,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* По анамнестическим сведениям.
ветствующей содержанию галлюцинаций) наличествовали в дебюте психоза (по анамнестическим сведениям) у четверти больных группы ГС-1 и трети пациентов группы ГС-2, но не отмечался ни у одного из пациентов группы ОГ (p<0,05).
Изучение структурно-динамических особенностей нарушений мышления у больных исследуемых групп также выявило определённые межгрупповые различия.
Пациенты группы ОГ характеризовались большей контактностью и открытостью, а также сохранностью критики и отсутствием бредовых расстройств у большей части больных (65 %). При этом формирование бреда (всегда на высоте галлюцинирования) отражало содержание этих галлюцинаций, отличаясь в то же время несистематизированностью и фрагментарностью своей структуры, имевшей скорее характер бредоподобных идей с частичной сохранностью критики. Купирование галлюцинаторной симптоматики сопровождалось сравнительно быстрой редукцией бредовых расстройств и полным восстановлением критики. Эмоциональная реакция на наличие психопатологической симптоматики (прежде всего – галлюцинаций) была достаточно адекватна и не связанна с содержанием бредовых (или бредоподобных) идей. В отличие от этого, у больных из групп ГС-1 и ГС-2 наблюдались более выраженная социальная отстранённость, существенно сниженная или полностью отсутствующая критика к своему состоянию, эмоционально-аффективная реакция, зависящая от содержания бредовых идей и значительная систематизация бреда.
Экспериментально-психологическое исследование интеллектуально-когнитивного функционирования больных трёх изучаемых групп тестом «Шкала прогрессивных матриц Равена», результаты которого в обобщённом виде представлены в табл. 3, зафиксировало, что в каждой из этих групп преобладали больные со средним уровнем интеллекта в его нижних границах.
Таким образом, полученные при сопоставлении усреднённых групповых показателей данные свидетельствуют, что наиболее низкий (p<0,05) уровень интеллектуального функционирования фиксировался у пациентов группы ОГ. При этом удельный вес лиц со сниженным уровнем интеллектуально-когнитивного функционирования (с интеллектом ниже среднего и пограничным уровнем) в группах ГС-1 и ГС-2 составил лишь 26,2 % и 19,5 % соответственно (т. е. отмечался у каждого четвертого и пятого пациента соответствующей группы). В отличие от этого, относительно низкий уровень интеллектуального функционирования определялся у половины пациентов группы ОГ (т. е. у каждого второго больного или 51,2 % численности выборки). Помимо этого, в этой группе достоверно выше было и число пациентов с пограничным уровнем интеллектуального функционирования – 16,3 % или шестая часть выборки (в группах ГС-1 и ГС-2 отмечались лишь единичные такие случаи – 4,8 и 2,4 % соответственно). Таким образом, две трети численности выборки основной группы составили больные с низким и пограничным уровнем интеллектуального функционирования.
Таблица 3
Частотное распределение больных всех групп по степени (уровню) интеллекта, оцениваемого методикой Равена (в %)
|
№ |
Уровень интеллекта (в баллах методики) |
ОГ (n=43) |
ГС-1 (n=42) |
ГС-2 (n-41) |
Группы с достоверными различиями (p<0,05) |
|||
|
абс. |
% |
абс. |
% |
абс. |
% |
|||
|
1 |
Высокая (55 баллов и выше) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Выше среднего (49–54 балла) |
3 |
7,0 |
10 |
23,8 |
12 |
29,3 |
ОГ – ГС-1, ГС-2; |
|
3 |
Средний уровень (37–48 баллов) |
18 |
41,9 |
21 |
50 |
21 |
51,2 |
|
|
4 |
Ниже среднего 30–36 баллов) |
15 |
34,9 |
9 |
21,4 |
7 |
17,1 |
ОГ – ГС-1, ГС-2; |
|
5 |
Пограничная зона (24–30 баллов) |
7 |
16,3 |
2 |
4,8 |
1 |
2,4 |
ОГ – ГС-1, ГС-2; |
Кроме того, если в группе ОГ больные с показателем интеллекта выше среднего встречались буквально в единичных случаях, то в группах ГС-1 и ГС-2 они составили около четверти соответствующей выборки. Здесь также следует отметить и то обстоятельство, что по удельному весу больных с показателями интеллекта на пограничном уровне, а также зон ниже и выше среднего уровня группа ГС-1 занимала промежуточное положение между двумя другими (ОГ и ГС-2), достоверно различаясь лишь с основной группой, тогда как в сравнении с ГС-2 эти отличия не достигали статистической значимости.
Всё вышеизложенное в совокупности свидетельствует о существенно большей выраженности нарушений интеллектуально-когнитивного функционирования у больных с формированием психоза (с галлюцинаторной и галлюцинаторно-бредовой симптоматикой) на поздних этапах травматической болезни головного мозга.
Установление факта ведущей роли церебрального травматического процесса в снижении уровня интеллектуально-когнитивного функционирования у больных из основной группы (ОГ) при неочевидности такового у пациентов с комбинированной патологией (ГС-1) обусловило необходимость поиска ряда иных факторов, непосредственно связанных с ЧМТ, с анализом их участия в развитии указанных нарушений. Среди таких факторов преимущество при исследовании получили два клинических фактора – тяжесть ЧМТ и сторона поражения головного мозга.
В связи с этим проводилось сопоставление больных из групп ОГ и ГС-1, различающихся показателями интеллекта и тяжестью ЧМТ. Результаты этого этапа, представленные в табл. 4, со статистической достоверностью демонстрируют тот факт, что наиболее низкий уровень интеллектуально-когнитивного функционирования фиксировался у пациентов группы ОГ с большей (средней) степенью тяжести ЧМТ, в отличие от тех пациентов этой же группы, кто перенёс лёгкую ЧМТ. Такие же отличия характерны и по сравнению с больными группы ГС-1, вне зависимости от степени тяжести их ЧМТ (p<0,05). При этом в группе ГС-1 также наблюдались более низкие показатели интеллектуального функционирования у пациентов с более тяжелым вариантом ЧМТ в анамнезе, в сравнении с теми, кто перенёс лёгкие ЧМТ, однако эти данные не имеют статистически достоверного доказательства. Это обстоятельство, по нашему мнению, свидетельствует о существенных отличиях в церебральных механизмах нарушений интеллекту-
Таблица 4
Характеристики сопряженности тяжести перенесенной ЧМТ и уровня интеллектуального функционирования у больных с наличием ЧМТ в анамнезе
|
№ |
Уровень интеллекта |
ОГ (n=43) |
ГС-1 (n=42) |
Достоверность межгрупповых различий (р<0,05) |
||||||
|
Подгруппа 1 |
Подгруппа 2 |
Подгруппа 1 |
Подгруппа 2 |
|||||||
|
абс. |
% |
абс. |
% |
абс. |
% |
абс. |
% |
|||
|
1 |
Высокий (55 баллов и выше) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Выше среднего (49–54 балла) |
0 |
0 |
3 |
7,0 |
4 |
9,5 |
6 |
14,3 |
ОГст – ГС1лт |
|
3 |
Средний уровень (37–48 баллов) |
5 |
11,6 |
13 |
30,2 |
11 |
26,2 |
10 |
23,8 |
ОГст – ОГлт, ГС1ст, ГС1лт |
|
4 |
Ниже среднего (30–36 баллов) |
9 |
20,9 |
6 |
14,0 |
5 |
12,0 |
4 |
9,5 |
ОГст – ГС1лт |
|
5 |
Пограничная зона (24–30 баллов) |
6 |
14,0 |
1 |
2,3 |
2 |
4,8 |
0 |
0 |
ОГст – ОГлт, ГС1лт |
Примечание: Характеристики подгрупп в основной (ОГ) и первой группе сравнения (ГС-1):
подгруппа 1 ОГ – ЧМТ средней степени тяжести (n-29), ОГст; подгруппа 2 ОГ – ЧМТ лёгкой степени тяжести (n-14), ОГлт;
подгруппа 1 ГС-1 – ЧМТ средней степени тяжести (n-26), ГС1ст; подгруппа 2 ГС-1 – ЧМТ лёгкой степени тяжести(n-16), ГС1лт.
ально-когнитивного функционирования у больных с посттравматическими шизоформ-ными психозами и с шизофренией, даже в тех случаях, где последняя была отягощена наличием ЧМТ в анамнезе.
Сравнительный анализ больных с различной гемилатерилазацией мозгового поражения вследствие ЧМТ (из числа включенных в те же две группы ОГ и ГС-1), нашедший своё отражение в табл. 5, обнаружил в основной группе (ОГ) статистически достоверное преобладание пациентов с левосторонним поражением среди лиц с наиболее низким уровнем интеллектуально-когнитивного функционирования. Та же тенденция – превалирование больных с левополушарным поражением головного мозга – отмечается среди пациентов с комбинированной патологией (ГС-1) с относительно низким уровнем интеллектуально-когнитивного функционирования, но уровня статистической достоверности она не достигала.
Обсуждение результатов
Результаты сравнительного клиникопсихопатологического и структурно-динамического анализа больных с галлюцинаторной и галлюцинаторно-бредовой симптоматикой различного генеза свидетельствуют о том, что у всех без исключения, пациентов основной группы с обусловленной ЧМТ психотиче- ской шизофреноподобной симптоматикой галлюцинаторные проявления на протяжении всего заболевания были представлены одним из вариантов синдрома галлюциноза (органического, идеаторного или псевдогаллюциноза). У больных шизофренией с отягощённостью ЧМТ (ГС-1) этот синдром выявлялся значительно реже (более чем вдвое) при его полном отсутствии в группе шизофрении без дополнительной органической патологии (ГС-2). В двух последних группах галлюцинаторная симптоматика на момент обследования проявлялась преимущественно (ГС-1) или полностью (ГС-2) псевдогаллюцинаторным синдромом, а в дебюте заболевания у некоторых пациентов (примерно у трети их численности) фиксировались истинные галлюцинации, тогда как ни один из пациентов основной группы (ОГ) указанных синдромов не обнаруживал ни в настоящем, ни в прошлом.
Следует также отметить, что галлюциноз у пациентов из групп ОГ и ГС-1 заметным образом отличался по некоторым из своих клинико-феноменологических характеристик. Прежде всего по критичности по отношению к галлюцинаторным переживаниям, которая была практически полной у тех, кто входил в основную группу (ОГ), и лишь частичной у лиц из ГС-1. Другая характеристика – эмоциональная реакция больных, возникающая
Таблица 5
Характеристики сопряженности гемилатерализации поражения мозга при ЧМТ и уровня интеллектуального функционирования у больных с наличием ЧМТ в анамнезе
|
№ |
Степень интеллекта |
ОГ (n-43) |
ГС-1 (n-42) |
Достоверность различий (p<0,05) |
||||||
|
Подгруппа 1 |
Подгруппа 2 |
Подгруппа 1 |
Подгруппа 2 |
|||||||
|
абс. |
% |
абс. |
% |
абс. |
% |
абс. |
% |
|||
|
1 |
Высокая (55 баллов и выше) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Выше среднего (49–54 балла) |
3 |
7,0 |
0 |
0 |
6 |
14,3 |
4 |
9,5 |
ОГлг – ГС-1пг |
|
3 |
Средний уровень (37–48 баллов) |
12 |
27,9 |
6 |
14,0 |
11 |
26,2 |
9 |
21,4 |
ОГлг – ОГпг, ГС-1пг |
|
4 |
Ниже среднего (30–36 баллов) |
5 |
11,6 |
10 |
23,3 |
3 |
7,1 |
6 |
14,3 |
ОГлг – ОГпг, ГС-1пг |
|
5 |
Пограничная зона (24–30 баллов) |
1 |
2,3 |
6 |
14,0 |
0 |
0 |
3 |
7,1 |
ОГлг – ОГпг, ГС-1пг |
Примечание : Характеристики подгрупп в основной (ОГ) и первой группе сравнения (ГС-1):
подгруппа 1 ОГ – ЧМТ правой гемисферы (n-21), ОГпг; подгруппа 2 ОГ – ЧМТ левой гемисферы (n-22), ОГлг;
подгруппа 1 ГС-1 – ЧМТ правой гемисферы (n-20), ГС1пг, подгруппа 2 ГС-1 – ЧМТ левой гемисферы (n-22), ГС-1л.
при появлении галлюцинаторной симптоматики – у обследуемых из группы ОГ обусловливалась исключительно самим фактом галлюцинирования, тогда как у пациентов группы ГС-1 в структуре аналогичного типа реагирования с достаточной яркостью были представлены и эмоциональные переживания, связанные с содержанием галлюцинаций.
Отдельного анализа заслуживают отмеченные в каждой из групп изучения случаи сочетания слуховых и зрительных галлюцинаций. Как уже указывалось выше (см. табл. 1), в группе ОГ сочетание слуховых и зрительных обманов фиксировалось исключительно редко. При этом ведущим всегда выступал зрительный органический галлюциноз, который и появлялся первым, и структурно был более выразителен по своему оформлению и содержанию. При этом слуховые нарушения носили вторичный характер, что выражалось как в их более поздней манифестации, так и в существенно меньшей дифференцированности и содержательности, а также меньшей яркости чувственного переживания. Последние, по сути, проявляя себя в качестве дополнительных к первым и обусловленных ими содержательно, исходя из современных воззрений на клинико-психопатологическую систематику обманов восприятия, представляли собой, как можно предположить, один из вариантов рефлекторных галлюцинаций, а именно слуховой рефлекторный галлюциноз, соответствующий всем приведенным выше характеристикам органического галлюциноза.
В группах сравнения (ГС-1 и ГС-2), где сочетание галлюцинаций различных модальностей фиксировалось значительно чаще, первичными всегда являлись слуховые галлюцинации, которые во всех случаях без исключения представляли собой псевдогаллюцинации. Но если зрительные галлюцинации, присоединившиеся к слуховым, у пациентов ГС-2 имели всё тот же исключительно псевдогаллюцинаторный характер, то у больных в ГС-1 структура зрительных обманов во всех случаях соответствовала идеаторному галлюцинозу.
Межгрупповые различия прослеживались и при изучении структурно-динамических особенностей нарушений мышления у больных исследуемых контингентов. Пациенты группы ОГ характеризовались большей контактностью и открытостью, сохранностью критики и отсутствием бредовых расстройств у боль- шинства из них, а при формировании бреда (всегда на высоте галлюцинирования) он, как правило, отражал содержание галлюцинаций, отличаясь несистематизированностью и фрагментарностью своей структуры. Купирование галлюцинаторной симптоматики сопровождалось сравнительно быстрой редукцией бредовых расстройств и полным восстановлением критики. В то же время больные из групп ГС-1 и ГС-2 отличались более выраженной социальной отстранённостью, существенно сниженной или полностью отсутствующей критикой к своему состоянию, значительной систематизацией бреда.
Характерно, что экспериментально-психологическое исследование интеллектуальнокогнитивного функционирования больных изучаемых контингентов зафиксировало наиболее низкие показатели такового в группе пациентов с посттравматической шизоформной симптоматикой. В существенно меньшей степени уровень интеллектуально-когнитивного функционирования оказался снижен у больных шизофренией без ЧМТ в анамнезе (ГС-2). Пациенты с сочетанной патологией – шизофренией отягощённой ЧМТ (ГС-1) – по соответствующим показателям занимали промежуточную позицию между двумя вышеозначенными группами.
Снижение уровня интеллектуальнокогнитивного функционирования у больных из основной группы (ОГ) в значительной степени обусловливалось большей тяжестью ЧМТ и поражением доминантного (левого) полушария головного мозга. В группе пациентов с сочетанной патологией (ГС-1) также прослеживалось влияние вышеуказанных факторов, но они, не будучи определяющими, проявлялись лишь в виде тенденции, не достигавшей уровня статистической значимости. Данное обстоятельство, как мы полагаем, свидетельствует о существенных отличиях в церебральных механизмах нарушений интеллектуально-когнитивного функционирования у больных с посттравматическими шизоформ-ными психозами и с шизофренией, даже в тех случаях, где последняя была отягощена наличием ЧМТ в анамнезе.
Заключение
Сравнительный клинико-феноменологический анализ структурно-динамических характеристик галлюцинаторной и галлюцинаторно-бредовой симптоматики у больных с психозами травматического, эндогенного и сочетанного генеза, в комплексе с исследованием их интеллектуально-когнитивного функционирования, позволили выявить ряд существенных особенностей присущих каждой из групп изучения и различающих их между собой.
Итоговые результаты клинического (структурно-динамического) анализа свидетельствуют о том, что в группе больных с психотической шизофреноподобной симптоматикой, обусловленной ЧМТ (ОГ), наиболее типичным был синдром галлюциноза (идеа-торного, органического или псевдогаллюциноза) и в гораздо меньшей степени бредовые расстройства, развивавшиеся на высоте галлюциноза (и то далеко не всегда), с относительно быстрой их редукцией и восстановлением критики после купирования галлюцинаторной симптоматики. Пациенты, входившие в группы сравнения (ГС-1 и ГС-2), отличались от основной группы (ОГ) наличием стойких бредовых расстройств (начальный этап формирования которых предшествовал развитию галлюцинаторной симптоматики), а также достаточно частой представленностью псевдогаллюцинаторного синдрома.
Экспериментально-психологическое исследование интеллектуально-когнитивного функционирования больных изучаемых групп зафиксировало наиболее заметное снижение такового у пациентов из основной группы (ОГ), что в наибольшей степени определялось тяжестью ЧМТ и поражением доминантного (левого) полушария, тогда как при шизофрении отягощённой ЧМТ подобной зависимости не прослеживалось. Последнее свидетельствует о существенных отличиях в церебральных механизмах нарушений интеллектуально-когнитивного функционирования у больных с посттравматическими шизоформными психозами и с шизофренией даже в тех случаях, где она была отягощена наличием ЧМТ в анамнезе.
Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что, несмотря на существенное синдро-мальное сходство клинических проявлений у пациентов трёх исследуемых групп, структурно-динамический анализ присущей им психопатологической симптоматики, а также экспериментально-психологическое исследование их психических функций, включая интеллектуально-когнитивную, позволяет в значительной части случаев с достаточной достоверностью верифицировать соответствующий диагноз, объективизировать оценку жа- лоб больных, способствовать решению задач экспертизы и прогноза. А это, в свою очередь, повышает возможности адресной подборки и реализации дифференцированных и эффективных лечебно-реабилитационных программ для данных контингентов больных с учетом их групповых и индивидуальных особенностей.
Список литературы Сравнительный анализ клинических особенностей и интеллектуально-когнитивного функционирования больных с шизофреноподобной психотической симптоматикой в отдалённом периоде черепно-мозговой травмы и с шизофренией
- Блейхер, В.М. Патопсихологическая диагностика./В.М. Блейхер, И.В. Круг. -Киев: Здоров'я, 1986. -280 с.
- Гордова, Т.Н. Отдалённый период закрытой черепно-мозговой травмы в судебно-психиатрическом аспекте/Т.Н. Гордова. -М.: Медицина, 1973. -175 с.
- Даниелян, К.Г. Клиника, дифференциальная диагностика и лечение резидуально органических психозов//Методические рекомендации/К.Г. Даниелян. -Ереван, 1990. -43 с.
- Иванец, Н.Н. Клиническая структура, динамики и судебно-психиатрическое значение идей ревности у лиц с остаточными явлениями закрытой черепно-мозговой травмы/Н.Н. Иванец//Вопросы клиники, патогенеза и судебно-психиатрической оценки психических заболеваний. -М., 1967. -С. 34-49.
- Непомнящий, В.П. Роль изучения эпидемиологии черепно-мозгового травматизма в совершенствовании нейрохирургической помощи населению/В.П. Непомнящий, В.В. Ярцев, Л.Б. Лихтерман//Эпидемиология центральной нервной системы. -Л., 1989. -С. 4-9.
- Рыбальский, М.И. Иллюзии, галлюцинации и псевдогаллюцинации. -М: Медицина, 1989. -536 с.
- Смирнов, В.Е. Диагностический аспект проблемы поздних травматических психозов/В.Е. Смирнов//Труды Московского НИИ психиатрии Минздрава РСФСР. -М., 1979. -С. 110-123.
- Стрельцова, Н.И. О дифференциальной диагностике посттравматических шизофреноподобных психозов и шизофрении/Н.И. Стрельцова, Б.А. Кувшинов, А.Б. Гусова//Неврология и психиатрия (Республиканский межведомственный сборник МЗ УССР) -Киев, 1989. -Вып. 18. -С. 85-88.
- Черны, В. Тест Равена для взрослых//Компендиум диагностических методов/В. Черны, К. Колларик. -Братислава, 1988. -Т. 1. -С. 122-124.
- Achte, K.A. Psychoses following war brain injures/K.A. Achte, E. Hillbom, N. Aalberg//Acta Psychiatrica scandinavica. -1969. -Vol. 45. -P. 1-18.
- Breier, A. Cognitive deficit in schizophrenia and its neurochemical basis/A. Breier//Br. J. Psychiatry. -1999. -Vol. 174, suppl. 37. -Р. 16-18.
- Liddle, P.F. Shizophrenic syndromes, cognitive performance and neurological disfunction/P.F. Liddle//Psychological Medicine. -1987. -Vol. 17. -P. 49-57.
- Rizzo, M. Head injury and postconcussive syndrome/M. Rizzo, D. Tranel//Churchill Levingstone, 1996. -533 p.
- Saltuari, L. Rehabilitation von Patienten nach schwerem Schadel-Hiru-Trauma/L. Saltuari, G. Birbamer//Intensivbehandlung. -1985. -Bd. 10, H. 3. -S. 108-116.
- Schoenhuber, R. Anxiety and depression after mild head injury: A case control study/R. Schoenhuber, M. Gentilini//J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. -1988. -Vol. 51, № 5. -P. 722-724.