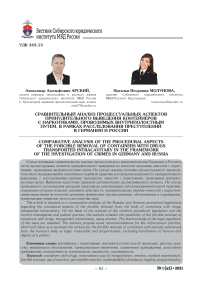Сравнительный анализ процессуальных аспектов принудительного выведения контейнеров с наркотиками, провозимых внутриполостным путем, в рамках расследования преступлений в Германии и России
Автор: Арский А.А., Молунова Н.И.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 1 (42), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сравнительному анализу процессуального законодательства Германии и России в части процессуальных аспектов принудительного выведения из полостей организма емкостей с наркотиками, провозимых внутриполостным путем. На основе анализа уголовно-процессуального законодательства и складывающейся следственно-судебной практики рассмотрена возможность принудительного выведения, с использованием рвотных препаратов, емкостей с наркотиками, провозимых внутриполостным путем. Выявлены недостатки правовой регламентации рассматриваемого вопроса. На основе проведенного исследования авторами предложены рекомендации для правоприменительной практики, следование которым позволит оценивать действия по принудительному изъятию емкостей с наркотическими веществами из полостей организма физических лиц как законные, обоснованные и соразмерные, исключающие унижение чести и достоинства лица.
Контейнеры с наркотиками, внутриполостной способ перевозки, рвотное средство, медицинское обследование, принудительное извлечение, применение принуждения, допустимое принуждение, недопустимость доказательств, законность, соразмерность
Короткий адрес: https://sciup.org/140257657
IDR: 140257657 | УДК: 343.13 | DOI: 10.51980/2542-1735_2021_1_82
Текст научной статьи Сравнительный анализ процессуальных аспектов принудительного выведения контейнеров с наркотиками, провозимых внутриполостным путем, в рамках расследования преступлений в Германии и России
Проблемы, возникающие при расследовании рассматриваемого вида преступлений, с точки зрения процесса доказывания, во-первых, обуславливаются отсутствием специального, законодательно закрепленного порядка изъятия контейнеров с наркотиками из полости организма задержанного лица, во-вторых, отсутствием в существующем порядке производства следственных действий, регламентируемых УПК РФ, общего порядка изъятия объектов из полостей организма физического лица.
Анализ эмпирических материалов по исследуемым вопросам позволил нам определить ряд факторов, обуславливающих необходимость процессуальной регламентации процедуры изъятия контейнеров с наркотиками из организма человека:
-
1) в силу отсутствия в законе прямо закрепленной процедуры изъятия из организма человека контейнеров с наркотиками правомерность действий сотрудников правоохранительных органов, направленных на подобное извлечение, может быть легко поставлена под сомнение;
-
2) неправильные действия, направленные на изъятие контейнеров с наркотиками из полостей организма, как и вовсе их неизвле-чение, могут причинить вред здоровью человека. Если подобный контейнер разрывается в организме или протекает, это приводит к интоксикации, опасной для жизни задержанного лица;
-
3) при осуществлении уголовного преследования правоохранительные органы нередко сталкиваются с активным противодействием задержанных лиц и их отказом от добровольного согласия на проведение процедуры изъятия наркотических средств из полостей их организма. В связи с этим становится актуальным вопрос о возможности принудительного извлечения контейнеров с наркотиками из желудочно-кишечного тракта с помощью медицинских средств: рвотных веществ и слабительных препаратов, а также таких медицинских процедур, как клизмиро-вание и рентгенограмма. Отметим, что следствием описанного пробела в законодательстве является отсутствие как процессуального инструментария для правоприменителей, так и надежных правовых гарантий права граждан на личную неприкосновенность.
В связи с указанным возникает ряд организационных и процессуальных вопросов, связанных с порядком извлечения из организма таких объектов. Для изучения проблемы и выработки практических рекомендаций считаем целесообразным обратиться не только к положениям УПК РФ, но также к подзаконным актам, теоретическим разработкам отечественных процессуалистов, к отечественной и зарубежной судебной практике.
Рассмотрим некоторые позиции отечественных ученых-процессуалистов по данному вопросу. Так, А.В. Пупцева считает возможными подобного рода изъятия при проведении личного обыска задержанного. Для этого автор предлагает внести в ст. 184 УПК РФ дополнения о необходимости получения разрешения на проведение медицинских процедур в рамках производства личного обыска, включая рентгеноскопию, с целью обнаружить в полостях тела задержанного наркотические средства, психотропные вещества либо их аналоги [6]. Однако на этапе проверки сообщения о преступлении, как можно предположить, указанный порядок вызовет ряд трудностей, так как стадия возбуждения уголовного дела достаточно специфична: ей присущи такие отличительные признаки, как отсутствие у вовлеченных в неё граждан определенного процессуального статуса, отсутствие регламентации прав проверяемых лиц, её предварительный характер, отсутствие принуждения или его минимальная возможность, недопустимость производства личного обыска. Изъятие объектов на этапе предварительной проверки может иметь место только в рамках тех следственных действий, которые предусмотрены ч. 1 ст. 144 УПК (осмотр, освидетельствование, получение образцов для сравнительного исследования, производство экспертизы).
Некоторые авторы рассматривают в качестве процессуального способа изъятия объектов (наркотических средств) из полостей организма такое следственное действие, как освидетельствование [5; 7; 9]. Выразим критическое отношение к данной позиции, так как основание и цель рассматриваемого следственного действия не предполагают изъятия чего-либо, а статья, его регламентирующая (ст. 179 УПК РФ), не предусматривает порядка изъятия предметов.
Ю.А. Кудрявцева приравнивает подобное изъятие к получению образцов для сравнительного исследования [4]. Позволим себе не согласиться и с этой позицией, так как образцами могут быть лишь объекты, происходящие непосредственно от жизнедеятельности человека [8].
Несомненно, аргументы указанных авторов заслуживают внимания, но, на наш взгляд, большую определенность в изучаемом вопросе даёт судебная практика. В частности, рассмотрев некоторые обвинительные приговоры, вынесенные по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 228 и 229.1 УК РФ3, позволим себе сделать предварительный вывод о том, что в практике сложился определенный алгоритм изъятия контейнеров с наркотиками из полостей организма физического лица. Так, весь процесс изъятия условно можно разделить на два этапа4.
-
1. Непроцессуальный этап изъятия заключается в обнаружении правоохранительными органами признаков незаконной перевозки наркотиков внутриполостным путем и в непосредственной реализации оперативной информации. Должностные лица органа дознания, осуществляющего проверку по имеющимся данным, задерживают заподозренное лицо, проводят личный досмотр и оформляют направление на медицинское освидетельствование, вместе с этим принимают организационные меры к осуществлению данного непроцессуального действия. Если субъектами реализации оперативной информации являются сотрудники таможенных органов, личный досмотр проводится на основании ст. 323 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в которой помимо общих правил производства досмотра указано, что обследование тела физического лица, в отношении которого проводится личный таможенный досмотр, проводится только медицинским работником с использованием при необходимости специальной медицинской техники.
-
2. Процессуальный этап изъятия начинается с регистрации сотрудниками органа дознания рапорта об обнаружении признаков преступления, отражающего информацию о совершенном деянии, подтвержденную результатами медицинского обследования. Однако практика не идет по единому для всех пути: так, рапорт при наличии достаточной оперативной информации может быть зарегистрирован на первоначальном этапе, до подтверждения факта нахождения в организме заподозренного лица емкостей с наркотическими веществами. В подобных случаях процедура досмотра, медицинского обследования и изъятия инородных объектов производится в рамках процессуального этапа.
В рамках этой процедуры медицинские сотрудники проводят рентгенологические исследования, пальпацию брюшной полости и освидетельствование на состояние опьянения (экспресс-тест на наличие наркотических веществ в организме), по итогам проведенных мероприятий медицинскими сотрудниками составляется акт освидетельствования, к которому в том числе прикладываются результаты рентгеновского обследования. Если результаты обследования подтверждают наличие инородных объектов в желудочно-кишечном тракте задержанного5, принимается незамедлительное решение об их изъятии. Чаще всего такое изъятие происходит естественным путем в присутствии медицинского работника, который контролирует физиологические процессы, следит за физическим состоянием и самочувствием задержанного лица.
Также в рамках предварительной проверки сообщения о преступлении следователь проводит осмотр изъятых из организма задержанного капсул с наркотиками, оценивает полученный материал для разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела и дальнейшей возможности его использования в процессе доказывания, выносит постановление о назначении экспертизы.
Наиболее уязвимыми пунктами в представленном порядке являются: направление на медицинское освидетельствование и процедура непосредственного извлечения контейнеров с наркотическими веществами из организма физического лица.
Рассмотрим эти пункты более подробно. В формулировках судебных решений правоприменитель оперирует понятием «медицинское освидетельствование», подразумевая под ним рентгеноскопию, пальпацию и другие медицинские манипуляции. Полагаем, что использование такой формулировки является не совсем корректным. Согласно ст. 65 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинское освидетельствование лица представляет собой совокупность методов медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных на подтверждение такого состояния здоровья человека, которое влечет за собой наступление юридически значимых последствий. Фактически формулировка понятия «медицинское освидетельствование» отражает специфику проводимых обследований при выявлении наличия в полостях организма физического лица контейнеров с наркотическими веществами. Но отметим, что в указанной статье законодатель также дает закрытый перечень видов медицинского освидетельствования, в котором не отражает медицинское обследование, включающее в себя обнаружение и изъятие из желудочно-кишечного тракта объектов с наркотическими веществами. Таким образом, правомерность проводимого освидетельствования может быть поставлена под сомнение, так как законодательно такая процедура не предусмотрена.
При рассмотрении этапа непосредственного выведения из организма капсул с наркотическими веществами в ситуации противодействия, когда задержанный отказывается от добровольного выведения контейнеров с наркотическими веществами из организма, возникает справедливый вопрос о законности применения физической силы и принудительного выведения контейнеров с наркотическими веществами из полости организма задержанного. Согласно ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граж- дан в Российской Федерации» необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство, но закон допускает при этом несколько исключений, в том числе необязательность получения упомянутого согласия от лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления). Таким образом, несмотря на допустимость недобровольного изъятия, необходимая регламентация подобной процедуры отсутствует, что неизбежно ставит перед следователем вопрос о законности применяемых им процедур.
Некую определенность и конкретику при изучении вопроса о применении принудительных мер при извлечении контейнеров с наркотиками из полостей организма наркокурьера можно получить, анализируя опыт европейской судебной практики. Так, аргументом в пользу ограничения принудительных методов извлечения контейнеров с наркотиками из полостей организма является решение Европейского суда по правам человека по делу «Яллох против Германии» [Jalloh v. Germany] (постановление ЕСПЧ от 11.07.2006 по делу «Яллох против Германии», жалоба N№ 54810/00).
В судебном решении по указанному делу отмечено, что насильственное медицинское вмешательство в отношении обвиняемого с целью получения вещественных доказательств при отсутствии его добровольного на то согласия явилось нарушением ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в Риме 04.11.1950) и на этом основании признается незаконным. Задержанный Яллох подозревался в незаконном обороте наркотиков в 1993 г. Проглоченные им до задержания наркотики были извлечены посредством принудительного введения рвотного средства через назогастральный зонд с помощью шприца. Впоследствии в ходе производства по уголовному делу Яллох заявил о неправомерности описанных действий и, соответственно, о недопустимости полученных таким образом доказательств. После отказа в рассмотрении его жалобы в национальных уголовных судах он заявил о нарушении своих конституционных прав и подал очередную жалобу, но уже в Федеральный Конституционный Суд Германии. Суд рассмотрел жалобу и признал упомянутые в ней действия недопустимыми. Тем самым решение суда поставило под сомнение правомерность принудительного использования рвотных средств, поскольку решением суда принудительное использование лекарственного средства было признано процедурой, унижающей человеческое достоинство. После этого обвиняемый обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который, приняв во внимание все нюансы рассматриваемого дела, постановил следующие: в деле усматривается нарушение положений ст. 3 и 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно подвержение пыткам, бесчеловечному или уничижающему достоинство обращению и несправедливость судебного решения, вследствие чего полученные таким способом вещественные доказательства не имеют юридической силы. Несмотря на это, решением суда использование физического принуждения в рамках расследования по уголовным делам запрещено не было в силу того, что суд допустил оговорку: в каждом конкретном случае вопрос о правомерности использования физического принуждения (в том числе и принудительное применение рвотных средств) необходимо решать в индивидуальном порядке с учетом таких факторов, как цель применения принудительных мер, степень необходимости принудительного медицинского вмешательства для получения доказательств, риски для здоровья подозреваемого, способ проведения процедуры и причиненные ею физическая боль и душевные страдания, степень медицинского наблюдения и воздействие данной процедуры на состояние здоровья подозреваемого.
Таким образом, даже после вынесенного решения кардинальных изменений в правоприменительной практике Германии не произошло. Следственные органы продолжали предписывать принудительное использование рвотных средств (сироп ипекакуаны)
для изъятия из полостей организма «глотателей» капсул с наркотическими веществами с целью быстрого получения вещественных доказательств. Рвотные препараты в Германии были включены в перечень допустимых средств расследования в начале 1990-х гг. Основанием для этого является предположение, что использование рвотных средств оправдывается нормой, закрепленной в § 81 УПК Германии, регламентирующей принудительный отбор биологического материала [10].
Следует отметить, что до недавнего времени правовой основой для такого насильственного выведения из организма проглоченных емкостей с наркотическими веществами признавался § 81 УПК Германии, который разрешал (и фактически разрешает, так как до настоящего времени рассматриваемая норма не изменялась) применение физического воздействия в отношении обвиняемого без его согласия, «если не существует опасности нанесения вреда его здоровью» [3]. При этом указанная процедура должна проводиться врачом с соблюдением всех правил процессуального и медицинского порядка. Кроме того, отмечается, что физическое вмешательство подчиняется принципу соразмерности, как и все уголовно-процессуальные действия. В частности, типичным примером физического воздействия, которое часто встречается в следственной практике Германии, является сбор крови, принудительный характер которого точно определен процессуальным законом Германии и не является его нарушением. Как и российское законодательство, УПК Германии прямо не предусматривает процедуру изъятия наркотических средств, а правоприменитель ссылается на аналогию закона и прецедентное право.
Однако постепенно к обсуждаемому принудительному применению рвотного средства через назогастральный зонд сформировалось отношение как к противоправному [12]. Главным аргументом при этом стала называться несоразмерность меры, с одной стороны, нарушающей человеческое достоинство, а с другой – создающей необратимые риски для здоровья.
До 2010 г. судебная практика Германии соглашалась с упомянутыми процессуальными действиями, если они способствовали получению доказательств виновности. Ответственность при этом лежала на том, кто проводил эти процедуры по изъятию.
Однако в 2010 г. в связи с рассмотрением Судебной коллегией Германии по уголовным делам решения по делу об ответственности врача, который по распоряжению двух полицейских выполнял принудительное изъятие контейнеров с наркотиками из организма задержанного, ситуация с доказыванием несколько изменилась. В большинстве земель Германии на местном уровне был введен запрет на принудительное использование рвотных средств для получения вещественных доказательств, но изменений на уровне процессуального закона по-прежнему принято не было [11].
Рассмотрим обстоятельства дела более подробно. В конце 2004 г. принудительное применение рвотных средств частным врачом стало причиной смерти задержанного. Обвиняемым-врач, который с сентября 2000 г. занимался частной врачебной практикой, связанной с действиями, направленными на получение вещественных доказательств. В описываемом случае задержанный подозревался в торговле наркотиками и был доставлен двумя сотрудниками полиции в частное медицинское учреждение. Не проведя процедуру разъяснения заподозренному лицу процессуальных прав и возможных рисков процедуры выведения капсул с наркотиками, полицейские предписали врачу незамедлительно применить средства принудительного выведения капсул с наркотиками из организма задержанного в целях скорейшего получения вещественных доказательств. В результате проведения принудительных действий из организма наркоторговца было выведено множество контейнеров, содержащих наркотики. На этом процедура изъятия не закончилось: врач продолжал вводить рвотное средство, а сопротивление задержанного подавлялось применением физической силы со стороны сотрудников полиции. Неправильно проводимая процедура при- вела к снижению возможностей дыхательной функциональности легких и тем самым вызвала нарушение обеспечения организма кислородом. Однако задержанный не владел языком уголовного судопроизводства и, соответственно, не мог сообщить об ухудшении своего состояния. Врач и полицейские приняли поведение обследуемого за симуляцию, исходя из того, что подозреваемый просто притворялся ради прекращения проводимой процедуры. Дело в том, что он был из числа африканских переселенцев, а для них, как показывала практика, при проведении подобных процедур симулирующее поведение является типичным. В результате проведения описанной процедуры задержанный впал в кому и через несколько дней умер от кислородного голодания мозга.
Отметим, что стремление сотрудников правоохранительных органов поскорее извлечь наркотические средства из организма человека не может быть оправданием их действий в случае неблагоприятного исхода для жизни и здоровья задержанного, поскольку принуждение к рвоте может спровоцировать попадание рвотной массы в дыхательные пути, а это – привести к асфиксии.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование принуждения в целях извлечения капсул с наркотиками из организма (и, соответственно, получения доказательств) может быть оправдано только в случае реальной угрозы жизни и здоровью объекта принуждения. При этом отметим, что вероятность разрыва емкости с наркотическим веществом в полости организма возможна в любой момент, а это, как правило, приводит к необратимым последствиям, к смерти. Так в январе 2020 г. в российских СМИ был описан случай смерти наркокурьера, который при задержании в целях скрыть улики проглотил пакетик с наркотическим веществом. Сотрудниками полиции незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, однако мужчина скончался до приезда медицинских работников [2]. Своевременное применение принудительных мер, направленных на извлечение проглоченного объекта, могло спасти задержанного. Исходя из этого, счита- ем целесообразным рассматривать отдельно каждый случай применения принуждения в подобных ситуациях и к процедуре изъятия сотрудникам правоохранительных органов из организма задержанного контейнеров с наркотиками стоит подходить очень осмотрительно: в обязательном порядке учитывать продолжительность нахождения емкости с наркотиком в организме и герметичность ее упаковки, а также следовать изложенным ниже рекомендациям:
– процедуре изъятия предметов, находящихся в организме задержанного, должно предшествовать объяснение задержанному порядка проведения процедуры, направленной на извлечение капсул с наркотическими веществами, и всех возможных негативных последствий этого действия;
– получение от задержанного согласия на проведение медицинских манипуляций или отказа от этого должно производиться в обязательном порядке, несмотря на то что закон разрешает производство медицинского обследования вне зависимости от наличия подобных сведений, как уже было отмечено выше;
– предварительное медицинское обследование и непосредственно процедуру изъятия емкостей с наркотическими веществами необходимо проводить с участием квалифицированного специалиста в соответствующей области медицины. Это объясняется тем, что медицинское вмешательство напрямую связано с ограничением права на неприкосновенность личности, а также с необходимостью обеспечения безопасности при проведении медицинских процедур;
– при выборе способа выведения контейнеров с наркотиками из организма задержанного необходимо учитывать следующие факторы: медицинские противопоказания, время нахождения капсул внутри организма, герметичность их упаковки. При угрозе разрыва емкости с наркотиками (если это было выяснено при медицинском обследовании) изъятие по возможности необходимо произвести незамедлительно в присутствии медицинского работника, вне зависимости от наличия добровольного согласия на проведе- ние медицинского вмешательства. Если есть сопротивление со стороны задержанного, то следует применять необходимые меры принудительного воздействия на него;
– физическое принуждение (при его необходимости) в рамках изъятия емкостей с наркотиками из организма задержанного должно соответствовать принципу соразмерности и характеризоваться адекватным уровнем силового воздействия, не допускающим негативные последствий для жизни и здоровья;
– необходимо соблюдать этические нормы на протяжении всей процедуры изъятия предметов из организма задержанного в це- лях соблюдения принципа защиты его чести и достоинства.
В заключение отметим, что для совершенствования уголовно-процессуальной формы и обеспечения конституционных и уголовно-процессуальных гарантий прав и свобод человека и гражданина необходима строгая законодательная регламентация в УПК РФ порядка извлечения объектов из организма физического лица. Считаем, что выводы, сделанные нами в рамках настоящего исследования, имеют весомое практическое значение и могут способствовать совершенствованию уголовно-процессуального законодательства.
Список литературы Сравнительный анализ процессуальных аспектов принудительного выведения контейнеров с наркотиками, провозимых внутриполостным путем, в рамках расследования преступлений в Германии и России
- Абдуназаров, К.А. Незаконный оборот наркотиков (использование внутриполостных сокрытий) / К.А. Абдуназаров. - Душанбе: Таможенный комитет при Правительстве Республики Таджикистан, 2000.
- Алиев, Т. В Махачкале наркодилер проглотил «закладку» и умер на глазах у полиции / Т. Алиев // Российская газета. - 2020. - 27 января.
- Головенков, П. Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ. Научно-практический комментарий и перевод текста закона / П. Головенков, Н. Спица // Universitatsverlag Potsdam, 2012.
- Кудрявцева, Ю.А. Вопросы получения образцов для сравнительного исследования в решениях Европейского суда по правам человека и высших судебных органов России / Ю.А. Кудрявцева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: право. -2011. - № 27(244).
- Перякина, М.П. Некоторые процессуальные вопросы изъятия предметов и документов до возбуждения уголовного дела / М.П. Перякина // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2014. - № 4(71).
- Пупцева, А.В. Особенности раскрытия и расследования незаконных перевозки, пересылки наркотических средств и психотропных веществ (по материалам правоохранительных органов Южного федерального округа) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Пупцева. - Екатеринбург, 2012.
- Рыжаков, А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.П. Рыжаков. - 9-е изд., перераб. - Подготовлен для системы Консультант-Плюс, 2017.
- Судницын, А.Б Принудительное получение биологических образцов для сравнительного исследования: нормативная регламентация, складывающаяся практика, рекомендации правоприменителям / А.Б. Судницын // Вестник Сибирского юридического института МВД России. - 2018. - № 4.
- Сумин, А.А. Некоторые проблемы применения ст. 144 УПК РФ / А.А. Сумин // Адвокат. - 2013. - № 4.
- Кгьдег, Matthias; Kroke, Susann (2011): Brechmitteleinsatz in den Рдпдеп von Straf-, Strafprozess- und Medizinrecht. In: JURA - Juristische Ausbildung, Vol. 33, No. 4: p. 91.
- Urteil des 5. Strafsenats vom 29.4.2010 - 5 StR 18/10 // offizielle Website des Bundesgerichts. - URL: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en &nr=52237&pos=0&anz=1 (дата обращения: 10.11.2020). ^
- Vgl. dafer Meyer-GoHner (Fn. 3), § 81a Rn. 22; Binder/Seemann NStZ 2002, 234, 237 f.; Beulke, StrafprozessR, 8. Aufl. (2005), Rn. 241.