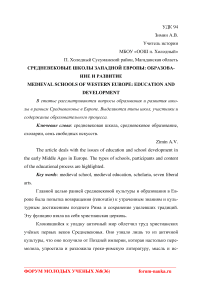Средневековые школы Западной Европы: образование и развитие
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы образования и развития школы в раннем Средневековье в Европе. Выделяются типы школ, участники и содержание образовательного процесса.
Средневековая школа, средневековое образование, схоларии, семь свободных искусств
Короткий адрес: https://sciup.org/140287035
IDR: 140287035 | УДК: 94
Текст научной статьи Средневековые школы Западной Европы: образование и развитие
Главной целью ранней средневековой культуры и образования в Европе была попытка возвращения (renovatio) к утраченным знаниям и культурным достижениям позднего Рима и сохранение уцелевших традиций. Эту функцию взяла на себя христианская церковь.
Клонившийся к упадку античный мир облегчил труд христианских учёных первых веков Средневековья. Оно узнало лишь то из античной культуры, что оно получило от Поздней империи, которая настолько перемолола, упростила и разложила греко-римскую литературу, мысль и ис- кусство, что варваризированному раннему средневековью легко было их усвоить.
Учёные раннего Средневековья позаимствовали программу образования не у Цицерона или Квинтилиана, а у карфагенского ритора Марци-анна Капеллы, который в начале V в. определил семь свободных искусств в поэме «Бракосочетание Меркурия и Филологии» [10, с. 10]. Они искали познаний в географии не у Плиния или Страбона, а у посредственного компилятора III в., века начала упадка, Юлиана Солина, который передал Средневековью картину мира, населённого чудесами, чудовищами и дивами Востока. Воображение и искусство от этого, правда, выиграли, но наука несла убытки. Средневековая зоология была зоологией «Физиолога», александрийского сочинения II в., переведённого на латынь в V в., где наука растворена в поэзии басенного стиля и в нравоучениях. Животные здесь превращены в символы. И Средневековье извлекло из этого материал для своих бестардиев, так что и зоологические познания эпохи оказались на грани невежества. Эти позднеантичные риторы и компиляторы научили средневековых людей обходиться крохами познаний.
Просто констатировать этот упадок интеллектуальной культуры было бы недостаточно. Гораздо важнее понять, что он был вызван необходимостью приспособить её к условиям эпохи. Наиболее выдающиеся, образованные представители новой христианской элиты вызывает удивление лишь тем, что они, сознавая недостатки своего образования перед лицом великих предшественников, тем не менее, отказывались даже и от того запаса утончённой культуры, которым они ещё владели или могли овладеть, ради того, чтобы стать понятным своей пастве. Опроститься, чтобы завоевать сердца, - таков был их выбор [5, с. 108-109].
Основоположниками средневековой школы принято считать Боэция (480-524 гг.), Кассиодора (480-573 гг.), Исидора Севильского (560-636 гг.) и Беду Достопочтенного (673-735 гг.). Их исключительная роль заключа- лась в том, что они спасли основное из античной культуры, изложили его в доступной для средневековой мысли форме и придали ему необходимое христианское обличие. Теперь предстоит выяснить, чем же всё-таки являлось школьное образование в раннем Средневековье, насколько оно развилось вширь и вглубь общества и какое значение оно имело для возникновения первых университетов.
Большая часть историков считает, что «основным мотивом в приобретении тех крайне скромных познаний, которые только и были доступны в начале средних веков, явились потребности богослужения» [4, с. 270]. Другие, среди прочих мотивов, упоминают о «тупом консерватизме народных масс» [9, с. 38]. Большинство школ раннего Средневековья удовлетворяли потребности католической церкви в пополнении духовного сословия. Пожелание Карла Великого, высказанные в «Капитулярии о занятиях науками» (780-800гг.) «...признали мы полезным, чтобы в епископствах и в монастырях, прилежали и в обучении наукам каждого , кто, по мере сил своих способностей, с Божией помощью, сможет учиться» [7, с. 199], скорее, действительно, является пожеланием, но не реальностью.
Благодаря целибату единственное грамотное сословие в средние века постоянно должно было пополнять свои ряды из всего общества. В местных приходских церквах часто богослужения отправляли выходцы из нижнего безграмотного слоя общества, которые, получив отдельные фрагменты знаний в школах, могли занять вакантное место приходского священника. Среди высших церковных лиц мы часто можем встретить упоминания об известных знатных фамилиях. Эти люди также обучались в каких-либо школах, либо у домашних учителей. При таком порядке своего пополнения духовное сословие, которое обыкновенно так резко противопоставлялось светскому обществу, само очень скоро и очень глубоко стало отражать в себе следы сословного деления этого общества. «Пастырь, которому поручалось пасти мужицкие души сам обыкновенно брался из кре- стьянских детей; его духовный начальник, вращавшийся среди баронов, сам являлся в большинстве случаев дворянином и жил по-дворянски» [9, с. 51-52]. Таким образом, эти школы в значительной степени служили для того, чтобы из числа учеников («клириков», clerici) пополнять ряды духовенства, т.е. школа давала своеобразную профессиональную подготовку. Но проходили полный курс обучения далеко не все, кто начинал обучение в школе. Именно они и занимали вакантные церковные должности. Очень часто клирики, освоив одну-две «науки» бросали учение и уходили странствовать, ещё чаще они бросали учение, так и не освоив ничего из преподаваемого им. Сам по себе цикл преподаваемых дисциплин не имел вида какой-то определённой системы. Это позволяло критикам, изучившим, например, искусство пения или грамматику хорошо устроиться в каком-либо монастыре или церкви. Искусных переписчиков ценили везде и всюду.
Некоторые историки утверждали, что средневековая школа имела массовый характер. Помимо монастырских и соборных школ упоминается огромное количество деревенских школ. Таким образом, делается вывод, что народное образование в раннем средневековье, если и не имело всеохватывающего характера, то оказало влияние на значительные массы общества («вновь открытый факт необыкновенной многочисленности этих начальных школ решительно не позволяет считать их маленькими духовными семинариями…» [9, с. 33]).
Многочисленные упоминания о преподавании в той или иной местности наук ещё не свидетельствует о многочисленности очагов преподавания. Огромное большинство из них можно отнести к следующему: какой-либо учитель, решивший преподавать одну или несколько наук очень часто место своего жительства и упоминания о школах, которые он основал нельзя принимать на веру. Как только он уходил в другую местность преподавание в такой «школке» обыкновенно прекращалось. А этот учитель переходил с места на место оставляя о себе многочисленные упоминания и создавая видимость бурлящей учебной деятельности в раннем средневековом обществе. Прямое указание на сей счёт дают мемуары Петра Абеляра - знаменитого средневекового учёного и преподавателя. В «Истории моих бедствий» он упоминает о том, что он сам преподавал в целом ряде школ, часть из которых он сам основал, и которые с его уходом прекращали существование [2, с. 261-286].
По-видимому, центр образования находился всё же в монастырях и в школах при соборах. И лишь отдельные наиболее известные школы могли в силу ряда причин существовать относительно продолжительное время и, даже, впоследствии, некоторые из них, как, например, школа Ирнерия в Болонье, переросли в университеты. Основную же массу составляли кафедральные и монастырские школы, которых, впрочем, было очень ограниченное количество. Поэтому подобные школы могут называться народными, как и народным может называться образование в раннем Средневековье лишь постольку, поскольку в них обучались представители многих сословных групп, в том числе выходцы из крестьян.
Наиболее ярким проявлением подъема образования в раннем Средневековье принято считать эпоху Каролингского возрождения. Однако существует точка зрения несколько отличная от других. Согласно ей «Каролингское возрождение» было лишь итогом серии мелких возрождений, которые после 680 г. дали о себе знать в монастырях Корби, Сен-Матрен-де-Тур, Сен-Галлен, Фульда, Боббио, а также в Йорке, Павии и Риме. Прежде всего, оно не было новаторским. Принятая им программа обучения была всего лишь программой прежних церковных школ, в соответствии с которой «в каждом епископстве и в каждом монастыре учили псалмам, письму, пению, счёту, грамматике и заботились о переписке книг». Увлечение античностью чаще всего ограничивалось знакомством с Кассиодором и Исидором Севильским. Ограниченность Каролингского возрождения была предопределена тем, что оно отвечало неглубоким потребностям узкой социальной группы. Оно должно было обеспечить элементарной культурой высших служащих. Для этой узкой группы культура, помимо развлечения, представляла собой скорее предмет эстетического наслаждения и способ укрепления престижа, нежели образованность и средство управления. Если она и помогала управлять, то благодаря не просвещению народа, а производимому на него сильному впечатлению.
Как и экономический подъем VIII-IX вв. Каролингское возрождение было, несомненно, неудавшейся попыткой двинуться вперёд, завершившейся тем, что пришлось свернуть с пути или остановиться. Но тем не менее оно стало первым проявлением того длительного и глубинного Возрождения, которое набирало силы на протяжении X-XIV вв., - к такому выводу пришёл Жак ле Гофф [5, с. 103]. Любопытным путём пришли школы в Англию. Влияние римской культуры в юго-западных и южных районах Англии в VII-IX вв. было довольно незначительным и школьное образование не могло в этом районе возникнуть на собственной базе. Лишь во второй половине VII в. здесь начинается движение в сторону создания базовых условий интеллектуальной жизни. Появляется большое число преподавателей, среди которых выделялись Теодор (Theodore), Хадриан (Hadrian) и Алдельм (Aldhelm). Это интеллектуальное течение представлялось действием двух отличных и иногда антагонистических влияний: классическая традиция континентальных школ и более искусственное школярство, которое имело ареалом своего распространения Ирландию в течение V-VI вв. Контраст между этими двумя влияниями может быть объяснён следующим. И ирландское и континентальное школярство базировалось на литературе классической античности. Тем не менее, английские схоларии VII и VIII вв. были подвержены серьёзному влиянию искусственного латинского стиля, которым руководствовались ранние ирландцы в своей изоляции. Кроме стиля к особенностям этого периода следует отнести то, что первые английские схоларии проходили курс обучения, в большей части, по канонической литературе, пришедшей к ним из ирландских монастырей. Монастыри Ирландии являлись, в отличие от остальной Европы более значимым центром школьной жизни, чем епископства. При монастырях обязательно устраивались гостиница, больница, школа, в которой учили арифметике, латыни, греческому [3, с. 130, 132].
И уже Беде (Bede) упоминает о началах школы, которая возникла в Кенте. К середине VIII в. в Англии возникает ряд школ. И, по-прежнему, в них особое влияние имели ирландские традиции богословия. Но лишь в Нортумбрии большее развитие получила именно континентальная традиция. Особенно заметной является работа на этом поприще Уилфреда и Бенедикта. Но если Улфред больше известен собственными работами, чем своей школой и учениками, то Бенедикт знаменит, прежде всего, тем, что основал две школы в Вермоуте (Wermouth). Бенедикт был учёным аббатом монастыря Св. Петра и Св. Павла. Он собрал большую по тем временам библиотеку, чему способствовали три его путешествия в Рим. Его бурная деятельность с 674 по 689 гг. позволила ему основать новое аббатство с хорошо развитой школой и превосходной библиотекой, аналогов которой не было во всей Англии. Книги, собранные Бенедиктом сделали возможной работу Беде [1, p. 177-185].
М.Р. Ненарокова приводит стишок, который свидетельствует о порядке изучаемых в школе предметов: «Грамматика говорит; / Диалектика истинам учит; / Риторика словами правит; / Музыка воспевает; / Арифметика считает; / Геометрия определяет; / Астрономия о звездах печется» [6, с. 86].
Согласно программе образования, составленной в V в. Марцианном Капеллой, в средневековой школе должны были преподаваться семь предметов «семь свободных искусств» (septem artes liberales). Следует заметить, что большинство историков именно так переводят этот термин. Но многие средневековые учёные склонны были производить слово liberalis не от liber – свободный, а от liber – книга [9, с. 106], и для них этот термин значил «семь книжных искусств». Книжным искусствам они противопоставляли «семь механических, или прелюбодейных» (Septem artes adulter-inae), производя слово mechanicus от moechus. Сюда относились: ткачество, кузнечное искусство, мореплавание, земледелие, охота, медицина и драматическое искусство [8]. Семь свободных искусств делились на две группы – trivium и quadrivium. Строго разделения между ними не существовало; например, пением клирики занимались на протяжении всего периода обучения.
Другим названием семи свободных искусств было septemles sapientia (семь ступеней одной лестницы премудрости). Таким образом, устанавливалась своеобразная иерархия среди них. Главным здесь был вопрос о значении богословия в преподавании. Изучая этот вопрос, мы столкнулись с противоположными мнениями. Французский историк Гизо так ответил на него: «Богословие является теперь основой всех научных знаний, которые вращаются исключительно вокруг толкования книг Священного писания – толкования исторического, философского, аллегорического и нравственного» [9, с. 69]. Противоположную точку зрения высказал Н.В. Сперанский: «…богословие вовсе не было фундаментом школьного здания, оно было не более как развевающимся на его вершине флагом. …богословию приходилось тогда совсем не спасать грамматику с арифметикой, а цепляться за них для собственного спасения» [9, с. 71]. И действительно, вместо того, чтобы учить грамматику латинского языка на самом же Писании и на христианских авторах, школа заставляла учеников читать Гомера в латинском переводе, Вергилия, Горация, Овидия, Персия, Ювенала, Лукиана. Со знанием одних языческих поэтов и выходило большинство учеников из этой христианской школы.
По-видимому, истина находится где-то посередине. Действительно, богословие не являлось фундаментом для средневекового школьного образования. Однако нельзя забывать о том, что большинство этих школ были соборными и монастырскими, и главной целью обучения в них была профессиональная подготовка будущих священнослужителей. Кроме того, следует различать разные условия образованности средневековых людей. Большинство учеников покидало школу, не научившись даже читать, а лишь вызубрив по латыни Отче наш, Молитву Богородице, Символ веры и все полтораста псалмов. При этом совсем не обязательно было понимать то, что выучил наизусть. Лишь ничтожная часть наиболее усердных учеников могла одолеть чтение, латинскую грамматику и научиться понимать прочитанное. И уж совсем единицы поднимались до уровня, который позволял самостоятельно толковать различные фрагменты в Священном писании. Возвращаясь к вопросу об уровне образованности в Средние века, мы ещё раз хотим повторить то, что именно церкви, в большей части, Средние века обязаны сохранением остатков римского культурного наследства; в значительной степени для церкви готовились ученики в школах, где высшим уровнем являлась способность самостоятельно толковать христианские тексты.
Но не всегда ученики шли к заветной цели под руководством опытных квалифицированных учителей. Очень часто выдавали себя за учителей странствующие шарлатаны. Но в наиболее известных школах дело обстояло по-другому. Во главе монастырских школ становились более образованные из братии монастыря; для преподавания же в соборных школах капитулы выбирали из своей среды особое лицо, носившее различные титулы: scholasticus (схоластик), magister scholarum (начальник школ), cancellar-ius (канцлер), cantor (кантор, т.е. начальник хора), rektor и т.д. С XI века у членов соборных капитулов замечается стремление к выделению из общего имения особых бенефициев, которые соответствовали той или иной должности. Чем важнее была эта должность, тем более доходный доставался ей бенефиций, а так как схоластик или канцлер, заведовавший епископальной школой, считался вторым лицом в капитуле после декана, то и предоставляемый ему бенефиций был одним из самых богатых. Получив богатый бенефиций схоластик часто терял интерес к преподаванию и ограничивался ролью наблюдателя за ходом преподавания. Пользуясь бенефицием за свои труды в школе, он, тем не менее, ничего не давал на содержание школы и учителей, и они жили на то, что им удавалось выпросить себе у состоятельных учеников. Бедняков они учили даром и принимали в школы довольно охотно, так как те помогали им в преподавании, а часто и замещали их. Эти подручные учителя, школьные «подмастерья», «провизоры» и т.п. набирались, по большей части, или из старших учеников той же школы или из недоучившихся в высших школах и в университетов клириков. Положение этих фактических учителей было очень жалкое. Нередко попадали в учителя и «бродячие» клирики (clerici vagantes) и называли себя «голиардами», паствой неведомого епископа Голии, руководителя ордена (Ordo vagorum). Они часто нанимались помощники (socii, secundarii, Gesellen) в городские школы.
Учились дети самого разного возраста. Часто можно было встретить занимающихся семилетнего мальчика и двадцатилетнего юношу. Все они начинали обучение с зазубривания наизусть по-латыни Отче Наш, молитвы Богородице, Символа Веры и всех 150 псалмов. Одновременно ученик занимался пением. Это давало ему возможность, с одной стороны, немедленно принимать участие в богослужении, а с другой стороны, служило необходимым введением в искусство латинского чтения.
Покончив с псалмами, ученик учил азбуку. По мере успехов в чтении он постепенно переходил к письму. Овладевали этим искусством лишь наиболее одарённые и терпеливые ученики; но овладев им, они станови- лись весьма ценными специалистами. Искусный писец мог считать себя обеспеченным не только в этой жизни, но и в будущей.
Одновременно с чтением ученики занимались пением, а с переходом к письму, они начинали осваивать азы арифметики. После грамматики ни на один предмет из всего школьного курса не уходило столько времени, как на церковное пение, обучение которому продолжалось всё время, пока ученик оставался в школе.
Набор этих дисциплин Н.В. Сперанский характеризовал как scientiae primitivae [9, с. 105]. По его мнению, этого было вполне достаточно для представления к посвящению в духовный сан и возможности получения одной из церковных должностей. Он полагал, что этот курс был предварительной ступенью на пути к изучению septem liberales artes и он мог, в лучшем случае, быть закончен в течение трёх лет упорных трудов.
Матерью и основой семи свободных наук всю первую половину средних веков считалась грамматика. На изучение грамматики тратились тогда, безусловно, большая часть всего школьного времени. Занятия ею начинались чтением эзоповых басен и сборника нравственных изречений, приписывавшихся Катону Старшему, с одной стороны, и заучиванием знаменитого руководства Донатана – с другой (Элий Донат, римский грамматик середины IV в. до н.э.). Кроме Доната средневековая школа обладала ещё целым рядом самостоятельных элементарных руководств по латинскому языку – Es tu scholaris, Arcubius, Fundamentum scholarium. Покончив с баснями и элементарными учебниками, вроде описанного, ученики переходили к чтению более трудных авторов и к высшему курсу грамматики. При чтении авторов нельзя уже было обходиться диктовкой по одной книге: ученикам необходимо было изучать сам текст. Это толкование авторов носило исключительно грамматический характер и сопровождалось бесконечным заучиванием наизусть. Среди авторов, изучаемых в это время, можно было встретить Гомера (в латинском переводе), Вергилия,
Горация, Овидия, Персия, Ювенала и Лукиана. Но сначала высший курс грамматики проходился по Принципалу – римскому грамматику V в. Лишь начиная с XIII в. появляются самостоятельные средневековые руководства, знаменитейшим из которых было Doctrinale, Alexander de Vilva Die. Венцом занятий грамматикой служило dictamen metricum, т.е. искусство писать латинские стихи размером древних авторов.
Обучение риторике в смысле стилистики и теории ораторского искусства средневековая школа совсем не учила; вместо этого под названием риторики преподавалась dictamen prosaicum, т.е. искусство составлять в образцовом виде грамоты и вообще акты делового и правового характера. Под риторикой также понималось изучение сборников духовных законов и других юридических источников.
В quadrivium также входили арифметика и астрономия. В арифметику помимо действий над числами, которые были чрезвычайно трудными (особенно деление многозначных чисел; причём, специалист, умевший делить число, мог называться «доктор деления») при римской системе нумерации, входило ещё и символическое толкование чисел.
Интересными кажутся представления средневековых людей об устройстве Вселенной. Вселенная представляла собой систему концентрических сфер – такова была общая концепция; мнения расходились лишь относительно числа и природы этих сфер. Беда Достопочтенный в VII в. полагал, что Землю окружают семь небес: воздух, эфир, олимп, огненное пространство, звёздный свод, небо ангелов и небо Троицы. В космологии Беды с полной очевидностью, вплоть до терминологии, проявляется греческое наследие. Христианизация этой концепции завершилась её упрощением, о чём свидетельствовал в XII «Светильник» Гонория Августодунского, который различал только три неба: телесное небо, которое мы видим; духовное небо, где обитают ангелы и интеллектуальное небо, где блаженные созерцают лик Святой Троицы. Более научные системы воспроизводили взгляды Аристотеля, делавшего из Вселенной сложный распорядок 55 сфер, к которым схоласты прибавляли дополнительную внешнюю сферу, где Бог приводит в движение всю систему [5, с. 143-144].
Таков был цикл семи свободных искусств, преподававшийся во всех средневековых школах. Другие научные дисциплины, такие как римское право, медицина, богословие совсем не входили в курс нормальной школы. Ими занимались, да и то, в основном, лишь к концу периода раннего Средневековья люди, уже получившие какой-то образовательный уровень. Этим объяснялся подчиненный характер так называемого «артистического» факультета (факультета семи свободных искусств) в отношении к трём высшим факультетам университетов – богословскому, юридическому и медицинскому.
Из этой сложившейся и апробированной структуры «начального» средневекового образования и стали появляться, или выделяться, в XI-XII вв. первые университеты. Эти университеты, воспитав поколение учителей и возбудив интерес к наукам семи свободных искусств, медицины, римского права и богословия зародили в своей среде уникальнейшее явление средневековой культурной жизни Европы. При этом, они являлись первоначально основой университетов (как, например, Парижского, который до 30-х гг. XIII в. не имел богословского факультета), либо не входя формально в структуру университета, готовили для него слушателей (как это было, например, в Болонье, где существовал отдельно от двух юридических университетов и теологической школы университет «артистов»). Программа преподавания в средневековых «народных» школах практически ничем не отличалось от современной им программы преподавания на артистических факультетах университетов.
Список литературы Средневековые школы Западной Европы: образование и развитие
- Stenton F.M. Anglo-Saxon England. - Oxford: At the Clarendon Press, 1943.
- Абеляр П. История моих бедствий. - М.: Республика, 1992.
- Иванова Е.Ю. Роль монастырей в формировании христианской средневековой культуры Ирландии // Вестник славянских культур. - 2008. - № 3-4 (10). - 129-136 с.
- Ивановский В.И. Народное образование и университеты в средние века. // Книга для чтения по истории средних веков / Под редакцией П.Г. Виноградова. - Т.1. - М.: 1898 г.
- Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада. - М.: Прогресс, 1992.
- Ненарокова М.Н. ссылается на: Curtius E.R. European Literature and the Latin Middle Ages / tr. W. Trask. - Princeton (the USA), 1953. - Р. 658. // Ненарокова М.Н. Учебный текст в средневековой школе: единство в многообразии // Вестник Костромского государственного университета. - 2016. - Т. 22. - № 5. - С. 86-91.
- Практикум по истории средних веков. Часть I. Раннее западноевропейское средневековье / Под ред. Н.И. Девятайкиной, Н.П. Мананчиковой. - Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 1999. - 240 с.
- Роуг В. Указ. Соч. // Вестник высшей школы. - 1991 - № 8.
- Сперанский Н.В. Очерки по истории народной школы в Западной Европе. - М., 1896 г.
- Трахтенберг О.В. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии. - М.: Госполитиздат, 1957.