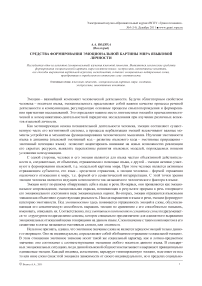Средства формирования эмоциональной картины мира языковой личности
Автор: Водяха Александра Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Аспекты изучения языковой личности в современный период
Статья в выпуске: 4 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
Исследуется один из аспектов (эмоциональный) изучения языковой личности. Выявляются лексические средства формирования эмоциональной картины мира носителя языка: экспрессивы, инвективные вокативы, все способы выражения вербальной агрессии, междометия, а также эмоционально нейтральные слова, приобретшие в определенном контексте сему эмотивности.
Языковая личность, эмоциональная картина мира, эмотивы, экспрессивы, инвективные вокативы
Короткий адрес: https://sciup.org/14821679
IDR: 14821679
Текст научной статьи Средства формирования эмоциональной картины мира языковой личности
Эмоции – важнейший компонент человеческой деятельности. Будучи облигаторным свойством человека – носителя языка, эмоциональность представляет собой важное качество процесса речевой деятельности и коммуникации, регулирующее основные процессы смыслопорождения и формирования прагматики высказываний. Это определяет важное место лингвистики эмоций в прагмалингвисти-ческой и коммуникативно-деятельностной парадигмах исследования при изучении различных аспектов языковой личности.
Как мотивирующая основа познавательной деятельности человека, эмоции составляют существенную часть его когнитивной системы, а процессы вербализации эмоций высвечивают важные моменты устройства и механизмы функционирования человеческого мышления. Изучение эмотивности языка в динамике (языковой эмотивный код – развитие языкового кода – эмотивные приращения – эмотивный потенциал языка) позволяет акцентировать внимание на новых возможностях реализации его скрытых ресурсов, выявлять перспективы развития языковых моделей, порождаемых новыми условиями коммуникации.
С одной стороны, человек и его эмоции являются для языка частью объективной действительности и, следовательно, ее объектами, отражаемыми с помощью языка, с другой – эмоции активно участвуют в формировании языковой, т.е. модельной картины мира. При этом человек является активным отражающим субъектом, его язык – средством отражения, a эмоции человека – формой отражения оценочного отношения к миру, т.е. формой его семантической интерпретации. С этой точки зрения эмоции человека являются ведущим компонентом так называемого человеческого фактора в языке.
Эмоции могут по-разному обнаруживать себя в языке и речи. Во-первых, они проявляются как эмоциональное сопровождение, эмоциональная окраска, возникающая в результате прорыва в речь говорящего его эмоционального состояния в виде эмоциональных оценок. Во-вторых, эмоции отражаются языковыми знаками как объективно существующая реальность. Находя выражение в языке и речи, эмоции формируют категорию эмотивности. Под эмотивностью здесь понимается отраженность эмоций в слове, обусловливающая его семантическую способность выражать эмоции по сравнению с его способностью называть, именовать, описывать их. Соответственно, под эмотивным компонентом семантики слова подразумевается то структурное подразделение семемы, которое специально предназначено для адекватного выражения эмоциональных отношений всеми говорящими на данном языке. Словозначение с таким компонентом в его семантике в статье называется эмотивным словом, или эмотивом.
Нельзя не признать, однако, что эмотивное значение слова не является зеркалом эмоций только данного говорящего. Оно не индивидуально, а представляет собой обобщенное отражение «социальной эмоции». В этом отношении эмотивное значение носит такой же социальный характер, как и логико-предметное значение: оно соотносимо с соответствующими эмоциями любого носителя данного языка. В стандартных эмоциональных ситуациях люди данной языковой общности испытывают и выражают принципиально одинаковые эмоции. Каждый индивид, естественно, варьирует типизированную эмоцию, подгоняет ее под то или иное слово (знак этой эмоции) в зависимости от своего индивидуального, но в пределах социально- го (обобщенного) опыта. Это и обеспечивает дифференциацию эмоций при их языковом выражении через эмотивное значение того или иного языкового средства. Человеческое мышление, фиксируя сходства между различными фрагментами действительности, как бы уподобляет один предмет, его признаки, явление в целом другому предмету. На основе такой предметно-ментальной операции человек переносит наименование одного предмета на другой. Таким образом создаются метафоры, выполняющие, в частности, экспрессивную и эмотивную функции. Метафорой нередко эксплицируются смыслы, выражение которых обычными лексическими единицами затруднено в силу их ограничительных номинативных характеристик. Так возникает механизм косвенной номинации. «Аппарат косвенной номинации – наиболее гибкий и универсальный инструмент номинативной деятельности, посредством которой человек может не только обозначать новые стороны или новые аспекты рассмотрения фрагментов действительности, но выражать тонкие и мельчайшие их подробности» [1, с. 9].
В соответствии с идеей панэмоциональности любое слово языка эмотивно. Принимая во внимание концепцию о потенциальной эмотивности любого слова, которой мы придерживаемся, необходимо все же, на наш взгляд, учитывать тот факт, что слова обладают разной степенью способности приобретать эмоциональное содержание. Наиболее ярко эмотивный компонент семантики слова представлен в лексических экспрессивах. К ним относятся лексемы, выражающие и передающие эмоции, узус данных лексем закреплен в лексикографии. Источник эмотивности лексических экспрессивов составляют все возможные коннотации, возникающие в речи вокруг основного ядра их семантической структуры. Иногда эмотивное значение подобных слов является единственным компонентом их лексического значения и может быть приравнено к денотативному (например, у междометий). Стоящие в начале речевого акта лексические экспрессивы, формирующие определенный настрой собеседника, задают тон разговора, сигнализируют адресату о предлагаемой модели речевого взаимодействия, устанавливают определенный тип отношений. Если начало речевого акта нейтрально окрашено, внимание собеседника сосредоточивается на общем содержании высказывания, но отклонение от нормы, необычная отсылка сразу же привлекают внимание и вызывают непосредственную реакцию. Адресат в этом случае применяет две тактики: оборонительную и наступательную. Он отрицает компоненты обращения из предыдущей реплики и переключает внимание на собеседника.
Поскольку одним из наиболее доступных и реально работающих средств фиксации различных кодов эмоционального общения является художественная литература, которая отражает жизнь как картину мира в субъективно-эмоциональном преломлении конкретного автора, приведем подтверждающие правоту данного тезиса примеры, взятые из литературных источников (произведений В.М. Шукшина).
В сказке «До третьих петухов» Иван-дурак пытается одержать верх над Бабой-Ягой:
– В печь его! – заорала Яга. И затопала ногами. – Мерзавец! Хам!
– От хамки слышу! – тоже заорал Иван. – Мерзавка! Ехидна! У тебя не только на носу, у тебя на языке шерсть растет!.. Дармоедка! [2, с. 405].
Этот диалог представляет собой как бы кольцевую композицию. Вербализованная агрессия, предназначенная адресату и выраженная почти в тех же экспрессивах, возвращается к адресанту.
Еще пример:
– Цыть! – зло сказал старичок. – Ведь я и есть твой тесть, дьявол ты! Ворюга! Разуй глаза-то!.. Допился?
Тимофей поднялся с колен, отряхнул штаны, спокойно и устало сказал:
– Гляди-ко! Правда – тесть. Тестюшка! Ну, давай выпьем. Со стречей (Там же, с. 55).
Адресат, занимая оборонительную позицию, успешно «сглаживает» отрицательную эмоцию, нейтрализует эмоциональный накал ситуации.
Наиболее яркой, эмоциогенной (возбуждающей эмоции) является сниженная лексика, например, инвективные вокативы, т.е. разные способы эмоционального обращения людей друг к другу, прежде всего бранные, оскорбительные. Сюда относятся все способы вербальной агрессии, в том числе направленные на самого говорящего, гневные восклицания, обращенные в пространство, различные эмо- циональные интенсификаторы, усилители выразительности речи, прежде всего сниженные, вульгарные. Все эти средства «настраивают» адресата на определенную эмоцию.
– Чего ты, Тимоха?.. Бесстыдник ты! Дешевка! Приехал к нему, как к доброму [2, с. 56].
Или:
– Черт бы меня взял, старого дурака! – Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтобы опять не взвиться. – Не буду я ругаться, вы только честно скажите, где ночевали (Там же, с. 87).
Интересно, что одно и то же эмоциогенное слово может выражать не только различные оттенки одной эмоции, но нередко и противоположные. Самой яркой иллюстрацией этого факта является употребление бранной лексики в ласкательных целях и, наоборот, ласкательной лексики – с целью осуждения. Например:
– Ах, прохиндей! – сердито выкрикнул старик и угрожающе взмахнул палкой. – Вот я тебя, попадись только (Там же, с. 87).
– Прохиндей, как устроиться сумел! Учись, Мишка! А ты? Все мамку ждешь (Там же, с. 17).
Во втором случае прохиндей не только не осуждается, но, наоборот, даже ставится в пример.
Способностью передавать различные эмоции обладают, разумеется, и междометия, как уже отмечалось выше, в этом заключается их основная функция. Междометия могут закрепляться за определенной эмоцией (например, фи подразумевает явное недовольство, а увы – сожаление) или выражать различные эмоции ( ах – радость, сожаление, тоску и т.д.). Так, в анализируемых примерах нестандар-тизированные диффузные междометия выражают эмоции с противоположными знаками. В первом случае говорящим владеет эмоция возмущения, во втором – восхищения, радости:
– Боже мой! – воскликнула миловидная женщина. И уставилась на Костю с отчаянием. – Да какой же он отец? (Там же, с. 229).
– Боже мой! День стоял славнецкий – не жаркий, и душистый, теплый. Еще не пахло пылью, еще лето только вступало в свою зрелую пору (Там же, с. 269).
До сих пор мы говорили о словах, как бы призванных отражать эмоции. Однако, как мы уже отмечали, теоретически каждая значащая единица языка в тексте может стать носителем эмоционального заряда. Неэмотивная лексика при вторичной номинации приобретает коннотативное значение, проявляющееся прежде всего через процесс эмотивной оценки. Очевидно, мы можем говорить в этом случае о категории потенциальной, возможно выраженной оценочной коннотации. Оценочные коннотации могут возникать там, где их раньше не было, или оценочные коннотации, которые уже существовали, могут изменить содержание или степень интенсивности оценки. Например, лексема ученый не имеет в своем значении семы с отрицательной (да и вообще с какой-либо) оценкой, но в устах шукшинского персонажа это слово приобретает отрицательную окраску:
– Эх ты, ученый! Какой пример подаешь молодым? Ты свою ответственность перед народом понимаешь? Задумался ты над этим? (Там же, с. 98).
Средства выражения эмоциональной оценки встречаются не только на лексическом, но и на словообразовательном, синтаксическом уровнях. Подробное их изучение будет способствовать познанию того, как эмоции становятся языковыми сущностями, обеспечивающими адекватное понимание внутреннего мира языковой личности.
Список литературы Средства формирования эмоциональной картины мира языковой личности
- Уфимцева А.А. Лингвистическая сущность и аспекты номинации//Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977.
- Шукшин В.М. Брат мой. М., 1976.