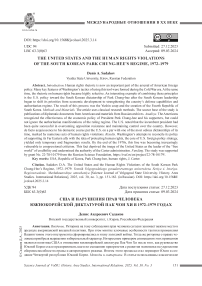США и нарушения прав человека южнокорейской диктатурой Пак Чон Хи в 1972–1979 годах
Автор: Садаков Д.А.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Международные отношения в XX веке
Статья в выпуске: 3 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Риторика на тему соблюдения прав человека сегодня занимает важное место в арсенале американской внешней политики. При этом многие ключевые особенности тактики применения Вашингтоном этого инструмента сформировались в эпоху холодной войны. Тогда же риторика о правах человека приобрела выраженно избирательный характер. Интересным примером совмещения этих принципов является политика США в отношении южнокорейской диктатуры Пак Чон Хи после того, как руководство Южной Кореи стало предпринимать шаги по смещению приоритетов с развития экономики на укрепление обороноспособности страны и авторитарного режима. Итогом этого процесса стал переворот Юсин и создание Четвертой республики Южной Кореи. Методы и материалы. В статье использованы классическиеметоды исследования. Источниковая база исследования – публикации дипломатических документов из американских и материалы из отечественных архивов. Анализ. Американцы признавали эффективность экономической политики президента Пак Чон Хи и его сторонников, но не могли игнорировать авторитарные проявления правящего режима. В США отмечали, что действующий президент вполне успешно преодолевал сопротивление оппозиции и сохранял контроль над страной. Однако фактическое попустительство его внутреннему курсу ставило США в общий ряд с одной из наиболее одиозных диктатур своего времени, отмеченной многочисленными актами нарушений прав человека. Результаты. Предпринимаемые Вашингтоном попытки совместить политику поддержки своего дальневосточного союзника со стержневой для внешнеполитической стратегией США идеей защиты прав человека приносили лишь временные и фрагментарные результаты. К концу 1970-х гг. такая линия становилась все более уязвимой для критики Конгресса. Данное обстоятельство лишало убедительности образ США как лидера «свободного мира» и подрывало авторитет администрации Дж. Картера. Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-78-10179, https://rscf.ru/project/22-78-10179/.
США, Республика Корея, Пак Чон Хи, права человека, Дж. Картер
Короткий адрес: https://sciup.org/149148817
IDR: 149148817 | УДК: 94 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.3.14
Текст научной статьи США и нарушения прав человека южнокорейской диктатурой Пак Чон Хи в 1972–1979 годах
DOI:
Abstract. Introduction. Human rights rhetoric is now an important part of the arsenal of American foreign policy. Many key features of Washington’s tactics of using this tool were formed during the Cold War era. At the same time, the rhetoric on human rights became highly selective. An interesting example of combining these principles is the U.S. policy toward the South Korean dictatorship of Park Chung-hee after the South Korean leadership began to shift its priorities from economic development to strengthening the country’s defense capabilities and authoritarian regime. The result of this process was the Yushin coup and the creation of the Fourth Republic of South Korea. Methods and Materials. The article uses classical research methods. The source base of the study is publications of diplomatic documents from American and materials from Russian archives. Analisys. The Americans recognized the effectiveness of the economic policy of President Park Chung-hee and his supporters, but could not ignore the authoritarian manifestations of the ruling regime. The U.S. noted that the incumbent president had been quite successful in overcoming opposition resistance and maintaining control over the country. However, de facto acquiescence to his domestic course put the U.S. on a par with one of the most odious dictatorships of its time, marked by numerous acts of human rights violations. Results. Washington’s attempts to reconcile its policy of supporting its Far Eastern ally with the idea of protecting human rights, the core of U.S. foreign policy strategy, yielded only temporary and fragmentary results. By the end of the 1970s, this line was becoming increasingly vulnerable to congressional criticism. This fact deprived the image of the United States as the leader of the “free world” of credibility and undermined the authority of the Carter administration. Funding. The study was supported by grant No. 22-78-10179 from the Russian Science Foundation,
Аннотация. Введение. Риторика на тему соблюдения прав человека сегодня занимает важное место в арсенале американской внешней политики. При этом многие ключевые особенности тактики применения Вашингтоном этого инструмента сформировались в эпоху холодной войны. Тогда же риторика о правах человека приобрела выраженно избирательный характер. Интересным примером совмещения этих принципов является политика США в отношении южнокорейской диктатуры Пак Чон Хи после того, как руководство Южной Кореи стало предпринимать шаги по смещению приоритетов с развития экономики на укрепление обороноспособности страны и авторитарного режима. Итогом этого процесса стал переворот Юсин и создание Четвертой республики Южной Кореи. Методы и материалы. В статье использованы классические методы исследования. Источниковая база исследования – публикации дипломатических документов из американских и материалы из отечественных архивов. Анализ. Американцы признавали эффективность экономической политики президента Пак Чон Хи и его сторонников, но не могли игнорировать авторитарные проявления правящего режима. В США отмечали, что действующий президент вполне успешно преодолевал сопротивление оппозиции и сохранял контроль над страной. Однако фактическое попустительство его внутреннему курсу ставило США в общий ряд с одной из наиболее одиозных диктатур своего времени, отмеченной многочисленными актами нарушений прав человека. Результаты. Предпринимаемые Вашингтоном попытки совместить политику поддержки своего дальневосточного союзника со стержневой для внешнеполитической стратегией США идеей защиты прав человека приносили лишь временные и фрагментарные результаты. К концу 1970-х гг. такая линия становилась все более уязвимой для критики Конгресса. Данное обстоятельство лишало убедительности образ США как лидера «свободного мира» и подрывало авторитет администрации Дж. Картера. Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-78-10179,
Цитирование. Садаков Д. А. США и нарушения прав человека южнокорейской диктатурой Пак Чон Хи в 1972–1979 годах // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Реги-оноведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 3. – С. 151–163. – DOI: jvolsu4.2025.3.14
Введение. Риторика вокруг проблем соблюдения прав человека является одним из важных и эффективных инструментов американской дипломатии. Общеизвестно, что часто политики предпочитают избирательно применять декларируемые высокие идеалы в зависимости от ситуативной целесообразности. Множество примеров подобной избирательности, особенно актуальных в современных условиях, несет в себе история холодной войны. Одним из них является политика США в отношении нарушений прав человека, допускаемых авторитарным режимом южнокорейского президента Пак Чон Хи. Цель статьи – на конкретном примере выявить специфику процесса включения принципов защиты прав человека во внешнеполитическую стратегию США и охарактеризовать особенности и последствия избирательности вашингтонской администрации в этом вопросе.
Методы и материалы. Методологической основой работы послужили основные принципы исторической науки – историзма и научной объективности. Структурно-функциональный и системный анализ ситуации вокруг Кореи позволили выявить и рассмотреть как целое комплекс факторов, влиявших на место полуострова в общем контексте холодной войны. Компаративный анализ применялся при рассмотрении стратегии Вашингтона на различных этапах существования южнокорейского государства. Значимую роль при работе сыграли политологические методы. Так, по- литико-системный подход сыграл важную роль в процессе выявления американских внутриполитических факторов, оказывавших влияние на процесс формирования внешней политики США. Политико-социологический метод был задействован при анализе реакции американского и южнокорейского обществ на нарушения прав человека в Южной Корее. История данной проблемы затрагивалась в зарубежной историографии [6; 9; 17; 22]. В работах отечественных исследователей проблематика реакции США на ситуацию с правами человека в Южной Корее рассматривалась в меньшей степени и, как правило, с южнокорейской точки зрения [4]. Источ-никовая база исследования – американские внешнеполитические документы, опубликованные в рамках серии «Foreign Relations of the United States» [23–27; 33–35], сборника «The Carter Chill: US-ROK-DPRK Trilateral Relations, 1976–1979» [36], материалы Архива внешней политики и Государственного архива Российской Федерации.
Анализ. Переворот 16 мая 1961 г., в результате которого к власти в Южной Корее пришел Верховный совет национальной перестройки во главе с Пак Чон Хи стал неприятной неожиданностью для американцев, которым не удалось поддержать законные власти. В итоге уже к середине лета того же года Вашингтон фактически смирился с установлением на Юге авторитарного режима. Вместо использования жестких мер, американцы предпочли тактику постепенного воздействия на новые власти, надеясь повлиять на дальнейшую эволюцию южнокорейской политической системы. В течение последующих месяцев лидерам Юга удалось зарекомендовать себя энергичными руководителями, способными осуществить необходимые обществу реформы, добиться стабилизации внутриполитической жизни и поступательного развития экономики.
Ситуация стала деградировать в конце 1971 – начале 1972 г., когда руководство Южной Кореи стало предпринимать шаги по смещению приоритетов с развития экономики на укрепление обороноспособности страны и авторитарного режима. Ключевым элементом этой стратегии была нейтрализация внутренней оппозиции. Данный процесс увенчался переворотом Юсин 1 1972 года.
Несмотря на откровенную антидемократичность предпринимаемых южнокорейцами шагов, в США фактически признали новую реальность и продолжили вести дела в обычном режиме. В январе 1973 г., вскоре после своего переизбрания на второй срок президент США Р. Никсон предложил организовать встречу с Паком [24, p. 2]. Учитывая, что ситуация на Юге после принятия конституции Юсин оставалась стабильной, внутриполитическая проблематика временно ушла из поля зрения американских дипломатов.
Однако на отдельные эксцессы режима Пак Чон Хи не реагировать было нельзя. 8 августа 1973 г. южнокорейское ЦРУ прямо из гостиничного номера в Токио похитило оппозиционера Ким Дэ Чжуна, имевшего к тому времени репутацию единственного серьезного политического противника Пака. Несмотря на то, что организатор похищения не был известен на тот момент времени [30], у посла США в Сеуле Ф. Хабиба практически сразу возникли подозрения относительно того, кто стоит за этим преступлением 2.
По воспоминаниям американских дипломатов, для спасения жизни Кима Хабибу пришлось действовать фактически в тайне, не дожидаясь инструкций руководства дипломатического ведомства. Получив известия о похищении, посол пришел к выводу, что южнокорейцы на всякий случай выждут 24 часа и, если не получат отпор, убьют Ким Дэ Чжуна. Хабиб срочно встретился с пре- мьер-министром Республики Корея Ким Чон Пхилем и пообещал тому, что, если оппозиционер не вернется живым, то в отношениях двух стран начнутся проблемы [21]. Поскольку Ким был похищен из Японии без ведома властей страны, крайне негативную реакцию преступление южнокорейского режима вызвало и в Японии [27, p. 14]. 13 августа Ким был отпущен на свободу.
15 августа Хабиб передавал в Госдепартамент: «Мое прежнее мнение, что похищение Кима скорее всего являлось, операцией правительства Юга, все более подтверждается». Посол охарактеризовал инцидент как «яркий пример тупого государственного бандитизма» и отметил, что старые обвинения Кима в нарушении избирательного закона в 1968 г. все еще сохраняют актуальность [35]. Тем временем Ким был помещен под домашний арест и ему было запрещено заниматься политической деятельностью.
Первое серьезное обсуждение внутриполитической ситуации в Южной Корее в Госдепартаменте состоялось в январе 1974 г. уже после того как внешнеполитическое ведомство возглавил Г. Киссинджер. Встречу открыло выступление Хабиба, который подчеркнул значение стратегического императива США в Корее – предотвращение военных действий, но призвал обратить внимание на положение дел внутри Республики. Посол отметил, что современная история Юга всегда характеризовалась наличием авторитарного режима и противостоящей ему оппозиции. Однако сейчас процесс усиления единоличной власти дошел до той степени, когда под угрозой оказались интересы США. Пак обеспечил себе возможность неограниченно долго оставаться у власти и устранил возможности выступать против его политики. В то же время, сохраняло свою протестную активность студенческое движение, и Хабиб видел в этом источник внутренней нестабильности. Наряду со студентами об изменениях в стране мечтали многие интеллектуалы, а также имевшие тесные связи с единоверцами в США южнокорейские христиане 3. Хабиб рекомендовал прекратить демонстрировать отстраненность и недвусмысленно дать понять Паку о том, что в США им не довольны [27, p. 3–14].
Киссинджер внимательно выслушал посла, но напомнил о принципе невмешательства во внутренние дела других стран (в первую очередь – союзников Соединенных Штатов), отметив бессмысленность политики инвестирования в демократизацию Турции и Кореи. По мнению Киссинджера, американцам следовало конкретизировать свои интересы и проанализировать последствия смены / сохранения правительства Пака [27, p. 16].
С точки зрения Хабиба, именно чрезмерная заинтересованность США в защите собственных интересов и привела их к вовлеченности в политические манипуляции Пака. Посол предложил серьезно, с привлечением представителей других ведомств, обсудить вопрос об уменьшении присутствия США на Корейском полуострове. Речь шла в том числе и о том, чтобы в два раза сократить численность американского военного контингента в течение двух лет. Хабиб предлагал дистанцироваться от ситуации, но не предпринимать каких-либо усилий для смены власти. Более того, он утверждал, что континуитет существующих институтов власти соответствовал интересам Вашингтона [27, p. 19, 21, 29].
Наряду с вопросами военного присутствия, на совещании также активно обсуждались проблемы взаимодействия с КНДР. Ключевым результатом совещания стало распоряжение Киссинджера о начале проработки стратегии США в Корее на ближайшие пять лет. В Госдепартаменте еще раз подчеркнули, что цель США состоит в том, чтобы определить интересы в Корее, а не продвигать собственные взгляды на демократию и ее достоинства [27, p. 1, 35].
Разрабатывать новые подходы приходилось на фоне наблюдаемого американцами растущего общественного недовольства режимом Пака, создающего поводы для политической нестабильности. В 1974 г. Хабиб советовал Паку хотя бы не казнить никого из нарушителей репрессивных законов, поскольку это стало бы «глупым» шагом [25, p. 3]. Кроме того, в распоряжении ЦРУ появились тревожные сведения о том, что Пак готовится развязать войну против Севера в случае возникновения существенной угрозы свержения своего режима [37, p. 14263].
Официальный визит президента Форда в Сеул в ноябре 1974 г. сопровождался резкой критикой в американских СМИ. Отдельные сенаторы и конгрессмены заявляли, что действия президента США в этих условиях могут быть восприняты как санкционирование проводимых в Южной Корее репрессий. Отбиваясь от критики, Киссинджер заявлял, что отказ от «церемониального» посещения Сеула нанес бы значительный урон отношениям Вашингтона с его дальневосточными союзниками и опасен для национальных интересов Соединенных Штатов.
Южнокорейская оппозиция возлагала на приезд американского президента значительные надежды. Сам Форд уклонился от встречи с ее представителями, но их принял один из сотрудников администрации президента Р. Смайсер. Среди прочего в ходе визита Форд сделал Пак Чон Хи «внушение» по поводу допускаемых корейцем дискредитирующих США крайностей во внутренней политике. Ожидалось, что по итогам разговора Пак Чон Хи несколько скорректирует внутриполитический курс [15, p. 213].
Однако на фоне падения Южного Вьетнама ситуация с правами человека в Южной Корее еще больше деградировала – высший приоритет был отдан поддержанию внутренней дисциплины и контроля. С января 1974 г. по май 1975 г. Пак утвердил девять пакетов чрезвычайных мер, призванных предотвратить критику действующего режима и организацию антиправительственных выступлений [22, p. 152; 29, p. 74; 40, p. 595]. Международные события использовались Паком в качестве обоснования для дальнейшего «закручивания гаек». При этом южнокорейцы обвиняли американцев не только в непонимании важности этой составляющей своей политики, но и в косвенной поддержке оппозиции [13; 34]. Современные исследователи указывают на высокую эффективность принятых Паком мер с точки зрения подавления протестов [17, p. 21].
На фоне поражения США во Вьетнаме геостратегическое значение Кореи в глазах многих конгрессменов возросло и критика режима Пак Чон Хи временно ушла на второй план [1, л. 2]. Однако по мере того как ситуация в Южной Корее приобретала, по выражению Дж. О, характер «перманентной чрезвычайности» [29, p. 72], выпады против Пака в Конгрессе вновь приобрели резкий характер, звучали требования вывода из Кореи американских войск, прекращения оказания экономической и военной помощи Югу [1, л. 83].
К этому времени Хабиб занял пост начальника отдела Госдепартамента по Восточной Азии и Тихому океану. На совещаниях с Киссинджером он подчеркивал, что ситуация в Южной Корее, где была фактически уничтожена свобода слова, существенно осложняет процесс выделения средств на эту страну в Конгрессе и предлагал заставить Пака умерить репрессивные действия. Избранный США подход не предполагал навязывание южнокорейскому лидеру американских представлений о демократии и законности. Вместо этого Вашингтон пытался показать, что политика Пака создает проблемы для США и самой Республики Корея, поскольку дискредитирует последнюю в мире перед лицом общественного мнения, а значит и Конгресса США. Подобные предупреждения делали не только дипломаты, но и американские военные, включая министра обороны США Дж. Шлезингера [37, p. 8–10; 23; 33, p. 1]. Сам Киссинджер заявлял, что при оказании помощи Сеулу американцы исходят из национальных интересов своей страны, и эту помощь нельзя смешивать с моральной поддержкой. Попытки давления на Пак Чон Хи в целях смягчения его режима, впрочем, не имели особого успеха [1, л. 1–2].
Особенно значимым событием внутриполитической жизни Юга для американцев стало подписание 1 марта 1976 г. «Декларации выживания нации» католическими и протестантскими оппозиционными лидерами страны. В ней оппозиционеры, среди них был и Ким Дэ Чжун, призвали к восстановлению демократических прав и отставке Пак Чон Хи [17, p. 35]. Правительство ответило на документ арестом подписантов. Религиозная составляющая протестного акта – критика Пака была озвучена во время службы в сеульском соборе, большинство подписантов были христианами – спровоцировала противников Пака из числа американских конгрессменов активизировать критику южнокорейского режима. Конгрессмен Д. Фрейзер (Миннесота, демократ) потребовал от исполнительной власти оценить ситуацию с правами человека на Юге. Звучали призывы к переоценке масштабов американской помощи стране. Все это ставило под угрозу уже разработанные Госдепартаментом планы. Правительство США крайне нуждалось в примерах, демонстрирующих улучшение ситуации с правами человека на Юге. При этом, Киссинджер настаивал на неэффективности любых форм давления на Пака. Более того, снижение уровня американской поддержки могло привести к росту активности КНДР и еще большему «закручиванию гаек» со стороны сеульского режима [15; 19].
В 1976 г. ЦРУ резюмировало, что Пак построил режим, в рамках которого он обладал огромной властью и опирался на мнение лишь небольшой группы приближенных советников. Военные не играли ключевой роли в принятии решений, но именно на их лояльности зиждилась внутриполитическая стабильность. Разведка отмечала высокий уровень профессионализма в правительстве и среди сотрудников министерств. Роль южнокорейского ЦРУ характеризовалась как «всеобъемлющая». Политическая оппозиция была слаба, а ее наиболее принципиальные представители были христианами. Даже суд над подписантами декларации 1 марта 1976 г. оказался не способен зажечь в Сеуле искру открытого народного возмущения [36, p. 4–7].
В итоге в публичной сфере американские официальные лица крайне осторожно выбирали слова, выражая свое отношение к проблеме соблюдения прав человека в Республике Корея. К примеру, в марте 1976 г. министр торговли США Э. Ричардсон, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что, с его точки зрения, ситуация в Корее принципиально иная, чем в других демократических странах, поскольку Юг находился перед лицом постоянной угрозы. Кроме того, Ричардсон воздержался от комментария, согласен ли он с позицией Пака, что законы в Корее отличаются от американских, поскольку призваны свести к минимуму социальные волнения [36, p. 3].
Эффективность репрессий режима Пак Чон Хи отмечали и в Москве, где не ожидали подъема демократического движения на Юге в ближайшем будущем [1, л. 77]. Слабость южнокорейских демократических сил признавал Ким Ир Сен [1, л. 163]. Фактически даже после шумихи вокруг подписания «Декларации выживания нации» на Юге наблюдался спад антиправительственной активности оппози- ционных сил. По оценкам Москвы это было связано с благоприятно складывающейся экономической конъюнктурой и эффективностью осуществляемых режимом Пак Чон Хи репрессий. У диктатора не было соперников, способных реально угрожать ему на президентских выборах. Значимым фактором оставался предлог «угрозы с Севера». После инцидента с убийством топором в 1976 г. 4 оппозиционные общественные организации Юга и вовсе выступили единым фронтом с правительством, по стране прокатились митинги в поддержку Пак Чон Хи [1, л. 158–164].
Проблема соблюдения прав человека в Республике Корея неоднократно звучала в ходе предвыборной кампании победившего на президентских выборах 1976 г. кандидата Дж. Картера. Он не стеснялся открыто критиковать автократический южнокорейский режим, сравнивал его с диктатурой А. Пиночета в Чили и указывал на целесообразность полного вывода американских войск с территории полуострова. В Сеуле внимательно наблюдали за ситуацией, и всерьез опасались, что двусторонним отношениям будет нанесен непоправимый ущерб [14; 28; 36, p. 1, 20–22].
Риторика вокруг проблемы соблюдения прав человека на Юге не прекратилась и после победы Картера на выборах [36, p. 25]. Госсекретарь С. Вэнс поддерживал позицию президента, но призывал не увязывать гуманитарные вопросы с военными и экономическими [39, p. 32]. В то же время в министерстве иностранных дел Республики Корея видели и другую сторону американской политики. Посольство в Вашингтоне располагало сведениями о том, что в ответ на запросы конгрессменов Госдепартамент призывал не судить о происходящем в этой стране по историям журналистов и подчеркивал различия между ситуацией с правами человека на Юге и в коммунистических государствах. Южная Корея без тени сомнения причислялась к свободным странам [36, p. 29].
К началу 1977 г., после вступления нового президента в должность американцы стали наблюдать признаки небольшого улучшения ситуации. Помощник президента по национальной безопасности Зб. Бжезинский сообщал президенту, что Пак немного ослабил внутренние ограничения против инакомысля- щих. Бжезинский тем не менее подчеркивал, что не следует надеяться на реальную смену политических ориентиров диктатора [36, p. 47]. В феврале 1977 г. в Конгрессе велось обсуждение представленной Советом национальной безопасности идеи сокращения американской военной помощи странам, чьи режимы систематически нарушали права человека. Однако, руководствуясь стратегическими соображениями, сам же Бжезинский настоял на том, чтобы для Сеула было сделано исключение [7, p. 126–127].
Прагматизм возобладал над идеологической составляющей корейской политики Картера, однако идеология все равно служила источником постоянных разногласий в американо-южнокорейских двусторонних отношениях. Обращаясь к Паку в феврале 1977 г., президент США акцентировал внимание на своих планах вывода американских войск с территории полуострова, а также на проблемах оказания помощи Корее. Что касается внутренней ситуации, то Картер подчеркивал нежелание своей администрации вмешиваться в дела других стран и выражал надежду на то, что друзья США продемонстрируют свою чуткость к вопросам соблюдения прав человека, дабы Вашингтон имел возможность оправдывать близкие отношения с Республикой перед лицом Конгресса и общественного мнения. Картер предлагал Паку самому обдумать, что можно сделать для улучшения ситуации в этой области [36, p. 53]. Однако в ответ южнокорейский диктатор давал лишь развернутые обоснования законности принимаемых им мер и демократичности их характера. Подчеркивая перманентную угрозу с Севера, Пак одновременно заявлял, что индивидуальные свободы и права человека защищены в его стране в полной мере [36, p. 62].
В том же духе и столь же пространно высказывались на эту тему и контактировавшие с американскими дипломатами члены администрации президента Республики Корея [36, p. 64–66]. Не будучи скованным рамками официальной переписки, посол Р. Снайдер 5 в таких случаях отвечал, что в глазах «некоторых» американцев внешняя угроза не извиняет нарушения прав человека и делал акцент не на ценностной проблеме как таковой, а на потенциальном поводе для разногласий между исполнительной и законодательной ветвями власти США. По его словам, укрепляя единство страны репрессивными мерами, корейцы одновременно подрывали безопасность Республики с точки зрения союзнической поддержки. Снайдер отмечал, что даже самые «близкие и понимающие» друзья Юга в Конгрессе не всегда готовы во всем согласиться с подходами Пака к ситуации с правами человека [36, p. 67–68].
Однако в Вашингтоне не были готовы пойти далее этих осторожных слов. В ЦРУ предлагали попытаться повлиять на ситуацию с правами человека в Южной Корее уже после начала процесса вывода войск, причем сделать это так, чтобы избежать «чрезмерных» двусторонних трений и политических волнений [36, p. 108].
Прагматичность политики Картера, естественно, не ускользнула и от такого последовательного противника диктатуры Пака как конгрессмен Фрейзер. В начале марта 1977 г. он обратил внимание президента, что намерение его администрации вывести войска из Кореи и при этом сохранять и даже увеличивать объемы предоставляемой Югу военной помощи опасно сближает ее с позициями команды Никсона – Форда – Киссинджера. Последняя, по мнению конгрессмена, дала Паку зеленый свет на ликвидацию политических прав корейцев. Фрейзер считал, что людям, обеспокоенным ситуацией с правами человека в Корее, сегодня при всем желании невозможно соглашаться с официальной позицией США и требовал использовать военную помощь в качестве рычага давления на Пака [36, p. 75–76]. Именно на возглавляемый Фрейзером подкомитет Палаты представителей США была возложена задача расследования обстоятельств «Кореягейта»6, а 1978 г. тот же орган выпустил объемный отчет, посвященный нарушениям прав человека на Юге [10].
Поддержка со стороны Конгресса являлась одним из ключевых элементов стратегии администрации Картера по выводу американских войск из Кореи. Исполнительная власть нуждалась в одобрении многочисленных компенсационных мер, включая дополнительную военную помощь Югу. Однако недовольство части конгрессменов авторитаризмом Пака на фоне продолжа- ющегося скандала с подкупом корейцами американских официальных лиц являлись существенными помехами для планов президента [36, p. 123–125, 127, 178].
В конце марта Картер еще раз подтвердил необходимость улучшения ситуации с правами человека в Республике Корея [36, p. 88]. Эта же тема стала одним из направлений работы, направленной в Корею в мае 1977 г. специальной миссии, состоящей из Ф. Хабиба и председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерала Дж. Брауна [36, p. 131]. Дискуссия по проблеме соблюдения прав человека получилась краткой. Хабиб подчеркнул, что Картер исключительно дружественно относится к Паку, и США не связывают проблему вывода войск с вопросами нарушения прав человека. Основной акцент был сделан на имеющихся у Картера по этому поводу проблемах с Конгрессом. При этом Хабиб гарантировал Паку, что американцы не будут делать заявление для прессы об этом аспекте итогов его поездки. Южнокорейский диктатор ответил на это обычными заявлениями о том, что преследования его политических противников осуществляются в рамках государственных законов и подчеркнул важность публичного молчания правительства США по этому вопросу. Благодаря этому он получал возможность проявлять снисхождение к отдельным диссидентам, не производя впечатление «прогиба» под давлением Вашингтона [36, p. 121, 149–151].
Такая позиция Пака ставила Картера в затруднительное положение при общении с обеспокоенными ситуацией с правами человека конгрессменов. Эта проблема приобрела хронический характер уже ко второй половине 1977 года. Обыденностью для Конгресса стали рассказы о пытках, которым подвергаются южнокорейские диссиденты [11; 16, p. 20597; 36, p. 193].
Тем не менее Госдепартамент предпринимал усилия, чтобы заручиться поддержкой парламентариев. В декабре 1977 г. Вэнс в одном из интервью подчеркнул, что «отсутствие гибкости» Сеула в вопросах соблюдения прав человека и набиравшего обороты «Кореягей-та» может иметь негативные последствия для американской помощи Корее [36, p. X]. Давление сработало. На свободу были отпущены некоторые диссиденты, включая отдельных подписантов «Декларации выживания нации» 1976 года. Однако Вашингтон не собирался загонять Пак Чон Хи в угол. В январе 1978 г. Картер в отдельном письме выразил удовлетворение предпринятыми южнокорейским руководством шагами [36, p. 266–267]. Проблему «Кореягейта» также удалось сгладить после того, как в течение 1978 г. являвшиеся фигурантами скандала высокопоставленные корейцы дали показания перед Конгрессом 7 [20, p. 421–425].
В июле 1978 г. в Южной Корее прошли очередные выборы президента. Единственным кандидатом на них был Пак Чон Хи. Лидеры оппозиции пытались призывать соотечественников к бойкоту выборов и организации митингов. Однако волнения не состоялись. Ключевые оппозиционеры, включая жену Ким Дэ Чжуна, были задержаны службой безопасности у себя дома, а пришедшие на митинги разогнаны полицией [2, л. 7, 13]. При этом еще одна амнистия, проведенная Пак Чон Хи в день очередного вступления на должность президента, дала американцам повод уверенно говорить об улучшении ситуации. Среди прочих, свободу получил и Ким Дэ Чжун. Однако за оппозиционером велась слежка и его периодически подвергали домашним арестам [36, p. 522, 536]. Судя по закрытым документам, в Вашингтоне видели нервную реакцию Пак Чон Хи на попытки оказать на него давление и постепенно убеждались, что в сложившихся обстоятельствах возможны лишь ограниченные подвижки в этой сфере [32; 36, p. 521–523].
По наблюдениям ЦРУ, после восемнадцати лет правления Пак полностью сохранял контроль над страной. Однако президент не был неуязвим, и серьезный политический или экономический просчет мог быстро опустошить запасы имевшегося у него политического капитала [36, p. 537].
В целом двусторонние отношения США и Республики Корея развивались на конструктивной основе. В 1979 г. для оказания политической поддержки режиму Пак Чон Хи был создан Политический консультативный комитет США и Южной Кореи, первая сессия которого была намечена на апрель. Целью этого органа объявлялось рассмотрение ключевых вопросов двусторонних отношений и международных проблем. В том же году была достигнута договоренность об официальном визите Картера в Сеул в конце июня – начале июля 1979 г. [36, p. 587].
Еще весной 1979 г. ряд корейских оппозиционеров, включая Ким Дэ Чжуна написали президенту США письмо, содержащее просьбу увязать возможность организации визита Картера в Сеул с улучшениями ситуации в сфере прав человека [36, p. XIII]. Однако эта встреча состоялась без предварительных условий. Несмотря на острый характер многих поднимавшихся на ней вопросов, обсуждение проблемы соблюдения прав человека прошло довольно спокойно. Американцы заранее предупредили южнокорейских коллег, что данная тема не является предметом для торга. Это обеспечило сдержанность обеих сторон. Картер передал Паку список из 100 остающихся в заключении диссидентов (в СССР считали, что этот жест был направлен на внутреннюю аудиторию), но отказался от встречи с лидерами южнокорейской оппозиции. Пак привычно продолжил настаивать на том, что в условиях военной угрозы с Севера его страна нуждается в определенном ограничении прав и свобод. В качестве жеста доброй воли Пак выразил готовность отпустить часть политзаключенных и пообещал через некоторое время смягчить законодательство [3, с. 116–117; 12, p. 785; 18; 36, p. 586–588, 630, 636–637, 660]. К началу осени он частично исполнил свои обещания. Президент распорядился отпустить значительное число политзаключенных, но, как и прежде, не собирался решать фундаментальные проблемы со свободой слова и соблюдением других прав.
В сложившихся в Республике Корея условиях любой социальный или трудовой конфликт имел шансы на быструю эскалацию с выдвижением политических требований. 9 августа работницы одного из закрывающихся корейских предприятий организовали сидячую забастовку в штаб-квартире оппозиционной Новой демократической партии. Протестная акция была разогнана полицией, одна из активисток погибла. Спустя месяц Ким Ён Сам, лидер парламентской оппозиции через статью в The New York Times призвал США сделать выбор между диктаторским режимом и стремящимся к демократии народным большинством и вмешаться в события. В Госдепартаменте посчитали, что в этой ситуации и в самом деле нельзя оставаться в стороне. Паку было передано обращение с призывом к налаживанию диалога между конфликтующими сторонами [31, p. 1199–1200; 36, p. 673–676]. 13 октября Картер направил южнокорейскому коллеге письмо, в котором «конфиденциально и не с целью угрозы» отмечал, что текущий тренд на силовое подавление протестов и политические аресты ставит под угрозу весь ранее достигнутый в сфере прав человека прогресс [36, p. 679]. Однако на консультациях с американскими представителями Пак лишь выражал готовность принять «неофициальные советы», но предостерегал Вашингтон от попыток «диктата». Тем не менее он признавал, что некоторые предпринимаемые правительством меры были слишком жесткими [8].
Ситуация же продолжала деградировать. Ким был лишен мандата в Национальном собрании. В Пусане начались студенческие протесты, которые вскоре перекинулись на соседний Масан. В городах было введено военное положение, и к 26 октября протесты стали стихать [38; 40; 41]. Американцы начали высказывать осторожный оптимизм в прогнозах развития ситуации. Однако в тот же день в Сеуле Пак Чон Хи был убит директором ЦРУ Южной Кореи Ким Джэ Гю.
26 октября 1979 г., вскоре после убийства Пак Чон Хи почти на всей территории страны было введено военное положение. Начались аресты потенциально связанных с северокорейской агентурой людей [36, p. 708]. В день убийства Пака американские войска на полуострове были приведены в боевую готовность [5, л. 85, 93–94]. Американцы не знали, что именно произошло в Корее роковой ночью. В сеульском посольстве считали опасным при таких обстоятельствах делать далеко идущие выводы и ожидали, что некоторые политические силы Юга попытаются привлечь США на свою сторону [36, p. 683–684].
После убийства Пака исполняющим обязанности президента страны стал премьер-министр Чхве Гю Ха. Реакция Вашингтона на транзит власти была осторожной. Вскоре после убийства в посольстве США в Сеуле отмечали, что умеренная либерализация политической системы Четвертой республики приветствовалась бы большинством корейцев, однако дипломаты сомневались в осуществимости этого проекта в обозримом будущем [36, p. 683–684, 687].
Результаты. Для американской политики в отношении Южной Кореи 1972–1979 гг. стали противоречивым временем. Американцы признавали эффективность экономической политики президента Пак Чон Хи и его сторонников, но не могли игнорировать авторитарные проявления правящего режима. В США отмечали, что действующий президент вполне успешно преодолевал сопротивление оппозиции и сохранял контроль над страной. Однако фактическое попустительство его внутреннему курсу ставило США в общий ряд с одной из наиболее одиозных диктатур своего времени, отмеченной многочисленными актами нарушений прав человека. Предпринимаемые Вашингтоном попытки совместить политику поддержки своего дальневосточного союзника со стержневой для внешнеполитической стратегии США идеей защиты прав человека приносили лишь временные и фрагментарные результаты. Приводимые американскими дипломатами и высшими должностными лицами аргументы на этот счет оказались недостаточно убедительными для южнокорейских властей. К концу 1970-х гг. такая линия становилась все более уязвимой для критики Конгресса. Данное обстоятельство лишало убедительности образ США как лидера «свободного мира» и подрывало авторитет администрации Дж. Картера. Непоследовательная и двусмысленная политика США не способствовала преодолению внутриполитического кризиса в Республике Корея, в конечном счете вылившегося в физическое устранение действующего президента.