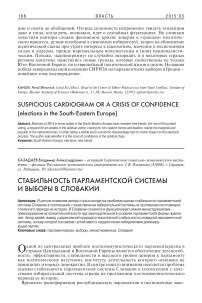Стабильность парламентской системы и выборы в Словакии
Автор: Казадаев Владимир Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политика в фокусе
Статья в выпуске: 3, 2015 года.
Бесплатный доступ
В центре внимания автора статьи находится проблема оценки стабильности парламентской системы Словакии в соотнесении с качествами избирательной системы страны на протяжении посткоммунистического периода ее истории. В Словакии сложился и функционирует режим министериализма - превалирования исполнительной власти над законодательной в условиях парламентской формы правления. Автор делает вывод о директивной природе относительной стабильности словацкой парламентской системы, основу которой составляют устойчивость предпочтения избирателями доминирующей партии.
Парламентаризм, выборы, министериализм, словакия
Короткий адрес: https://sciup.org/170167848
IDR: 170167848
Текст научной статьи Стабильность парламентской системы и выборы в Словакии
О дной из центральных проблем посткоммунистического парламентаризма в странах Центральной и Восточной Европы является обеспечение дееспособности, эффективности, стабильности и высокого уровня доверия к парламенту как политическому властному институту, деятельность которого основана на принципах и нормах демократии. В центре нашего внимания находится проблема оценки стабильности парламентской системы Словакии в соотнесении с качествами избирательной системы страны на протяжении посткоммунистического периода ее истории.
Временем трансформации республиканских парламентов в полномочные зако- нодательные органы явился период распада Чехословацкой федерации. Реализация правительством В. Мечьяра программы «Шанс для Словакии» предопределила центральную роль парламента не только в демонтаже коммунистической системы, но и в дезинтеграции ЧСФР [Žvach 2000: 21]. В таких политических условиях национальные советы предприняли ряд шагов, направленных на закрепление за собой центральной роли в структуре республиканских властных институтов.
Выборы 31 сентября – 1 октября 1994 г. открыли новую страницу в истории словацкого государства. Первая официальная каденция Национального совета стала временем установления авторитарного режима В. Мечьяра. Основой «мечьяризма» стали широкие полномочия парламента при его конституционной неспособности отменять решения правительства (ст. 86 Конституции Словакии). Конституционная норма основывается на утверждении принципа разделения властей и исчерпывающе очерчивает круг полномочий парламента. Напротив, правительство, образованное на основе парламентского большинства, получило достаточно широкие возможности влияния на легислативный процесс. При определенных обстоятельствах правящая коалиция могла добиться конституционного большинства в 90 голосов. Можно с уверенностью утверждать, что в Словакии сложился и функционирует режим министериализма – превалирования исполнительной власти над законодательной в условиях парламентской формы правления. При этом уровень квалификации депутатов ненамного отличался от показателей 1992 г. Состав был обновлен на 41% [Krno, Lysy, Krno 2008: 275]. В Словакии режим личной власти стал возможным вследствие подчинения парламента авторитету премьер-министра, не гнушавшегося полукриминальными способами достижения необходимых ему результатов. «Мечьяризм» в сфере парламентской деятельности ограничивал влияние оппозиции путем недопущения ее представителей в основные комитеты. Grémium (комитет уполномоченных представителей всех парламентских фракций для предварительного согласования позиций) фактически перестал выполнять свои стабилизационные функции. Кроме того, усилия режима были направлены на раскол оппозиционных парламентских клубов при одновременном запрете депутатам правящей коалиции путем переходов изменять партийную структуру парламента.
Вместе с тем мечьяризм оказался не в состоянии разрушить институциональную систему демократии, поскольку находится в зависимости от нее, но обладал возможностью манипулировать институтами власти. Выборы 25–26 сентября 1998 г. завершились формальной победой ДЗДС (42 места), однако сформированная широкая «антимечьяровская» коалиция 11 политических субъектов получила 91 место, что достаточно для принятия конституционных законов. Несмотря на падение авторитета парламента, в выборах приняли участие более 84% избирателей [Фиш 1999: 3]. Этот факт связан с тем, что единственно возможным инструментом смены режима оказались выборы, что активно пропагандировала «антимечьяров-ская» коалиция.
Участие широкого спектра партий в правительственной коалиции наделило работу Коалиционного совета и Grémium новым политическим смыслом, были возрождены демократические процедуры законодательного процесса. Однако во время правления «антимечьяровской» коалиции не были устранены возможности возрождения мечьяризма без Мечьяра, поскольку те же конституционные и институциональные условия были сохранены. К. Хендерсон не называет мечьяризм разновидностью политического режима, поскольку он исчез вместе с уходом политика с публичной сцены. Она полагает, что после выборов 1998 г. парламентская демократия по-прежнему уязвима, поскольку сохраняются такие атрибуты гибридного режима, как клиентелистские практики, проблемы эффективности государственного управления и национального строительства, а также деградация элит [Henderson 2004: 143].
С этой точки зрения результаты выборов 2006 г., 2010 г. и 2012 г., приведшие в конечном итоге к формированию однопартийного правительства партией – идеологической наследницей мечьяровского ДЗДС, не выглядят чем-то противоестественным для словацкой политической системы.
Вместе с тем за это время произошли определенные институциональные изменения, что заставило исследователей обратить внимание на новые характеристики словацкой политии. Если до 1999 г. Словакия, по типологии О.И. Зазнаева [Зазнаев 2007: 152], однозначно попадала в кластер «парламентские системы», то после 1999 г. – в кластер «полупрезидентские системы». Однако в действительности прямые выборы словацкого президента стали выходом из институциональной ловушки, ранее позволявшей мечьяровскому режиму манипулировать предписаниями о порядке замещения поста президента до вступления в должность избранного легислатурой главы государства, и не повлекли за собой значимых изменений в распределении полномочий между важнейшими институтами государственной власти [Тарасов 2010: 90].
Б.И. Макаренко по-иному ранжирует посткоммунистические страны. Венгрия и Чехия отнесены им к числу сугубо парламентских государств, Польша заняла место в списке сбалансированных полупрезидентских систем, а Словакию можно обнаружить в кластере «парламентизированные полупрезидентские системы» [Макаренко 2008: 115]. В отношении Словакии неясно, какое определение по существу является первичным – «полупрезидентская» или «парламентаризированная». Формальная логика подсказывает, что словацкая полития изначально являлась полупрезидентской, а затем в ходе институционального развития была парламен-таризирована. Однако такой вывод эмпирическими данными не подтверждается, скорее, Словакия, будучи парламентской республикой, была президенциализиро-вана [Тарасов 2014: 99].
П.А. Королев в своей диссертационной работе классифицирует посткоммунистические политические системы по соотношению внешних и внутренних факторов демократического транзита, отнеся Словакию к классу «демократических включенных», т.е. политических демократий, находящихся в сфере иностранного влияния [Королев 2013: 13]. При всей спорности предложенной классификации, вероятно, следует обоснованно считать Словакию после выборов 1998 г. демократической политией, а «включенной» – после вступления страны в ЕС и НАТО в 2004 г.
М.А. Завадская провела оценку институционализации выборов в Центральной и Восточной Европе [Завадская 2010]. Ею были использованы 3 компаративных параметра: 1) степень институционализации выборов; 2) формы конвенционального политического участия; 3) стабильность политического порядка. В зависимости от значений по 3 переменным все случаи были разделены на 4 группы (от большей к меньшей степени институционализации выборов). Словакия вошла в 3-ю группу – «новых» и «сравнительно новых» демократий (таких как Португалия и Греция), для которых характерны невысокий уровень институционализации выборов (укорененности и легитимности) и невысокий уровень гражданского участия.
Т. Костелецкий указывает на ряд особенностей электоральной карты посткоммунистической Словакии. Во-первых, влияние социокультурной среды выступает стабилизирующим фактором предпочтений избирателей. Во-вторых, региональные различия объясняются скорее этническими, религиозными или историческими параметрами, чем экономическими факторами. В-третьих, если в Чехии партизация политики ведет к сглаживанию региональных различий, то в Словакии, наоборот, усиливает их [Pink a kol. 2012: 7]. Электоральный ландшафт позволяет вполне определенно идентифицировать словацкие регионы по степени поддержки правых и левых сил. Малые города и значительная часть сел в центральной и западной Словакии отдают предпочтения партии «Путь – социальная демократия» (Путь-СД), высокоурбанизированные области Братиславы и Кошице – либеральным партиям [Pink a kol. 2012: 87].
В. Кривы отмечает, что отличительной чертой парламентских выборов 2012 г. была скоротечность избирательной кампании, вполне определенная консолидация электората партии «Путь-СД» и фрустрация избирателей партий распавшейся правящей коалиции [Slovak elections… 2012: 8]. Из 26 политических субъектов, которые участвовали в выборах 2012 г., 11 были в бюллетенях 2010 г. Наибольшего успеха из числа вновь образованных партий добилась партия «Обычные люди и независимые личности» (Олано). Аналогично ситуации 2010 г., выборы привели к победе социал-демократов. В 2012 г. «Путь-СД», получив 44,4% голосов и 83 места в парламенте, впервые с 1990 г. стала единственной правящей партией в Словакии. На этот раз, однако, результаты были настолько очевидными, что партии не надо было искать партнеров по коалиции, чтобы взять на себя исполнительную власть. П. Спач полагает, что успех партии «Путь-СД» обусловлен в большей мере протестным голосованием [Spáč 2014: 344]. Самым неутешительным стал результат ДЗДС, которая получила менее 1% голосов.
М. Беблавы и М. Веселкова, исследуя специфику избирательной системы Словакии, опровергают вывод М. Педерсена [Pedersen 1966] о том, что преференциальное голосование непосредственным образом влияет на персональный состав легислатуры, а вернее, на его обновление [Beblavy, Veselkova 2014: 528]. По мысли словацких исследователей, избиратель имеет слишком мало информации о различиях в политических позициях кандидатов и в этом случае чаще склонен голосовать случайным образом или за действующего депутата. Ранее нами была предпринята попытка анализа электоральной волатильности в Словакии, которая неуклонно уменьшалась, начиная с выборов 1998 г. [Казадаев 2013]. П. Бабош и Д. Малова приводят собственные аргументы, объясняющие стабилизацию предпочтений словацких граждан на примере выборов 2010 г. и 2012 г. [Baboš, Malová 2013]. По их мнению, словацкие политические партии в течение нескольких лет сформировали два устойчивых блока, поэтому волатильность следует рассматривать двояко: межу блоками (глубокая волатильность) и внутри блоков (мелкая волатильность) [Kitschelt et al. 1999: 264]. На основе анализа социально-экономических и демографических характеристик, используя не только официальные данные, но и сведения экзит-полов согласно модели логистической регрессии, ученые установили, что, например, венгерское меньшинство более чем в 4 раза более стабильно в своих электоральных предпочтениях, чем другие граждане Словакии. Внутриблоковая волатильность возрастает при повышении таких индивидуальных характеристик, как возраст, образование и материальный достаток. Для словацких партий максимальным электоральным успехом является показатель в 40%, за которым следует спад популярности внутри блока (например, ДЗДС). Достаточно низкая волатильность внутри блока компенсируется волатильностью между блоками, что делает парламентскую систему неустойчивой, характеризующейся перманентными сдвигами электоральных предпочтений и, как следствие, крайней поляризацией политических сил в парламенте.
Если следовать оценкам различных исследователей и экспертов, напрашивается вывод о директивной природе относительной стабильности словацкой парламентской системы, основу которой составляют устойчивость предпочтения избирателями доминирующей партии, что характерно для министериализма. Межпартийные коалиции в Словакии оказываются в большей степени зависимыми от электоральной волатильности, чем доминирующая партия, и потенциально могут дестабилизировать положение парламента в системе политических институтов.
Список литературы Стабильность парламентской системы и выборы в Словакии
- Завадская М.А. 2010. Выборы в Центральной и Восточной Европе: фактор дестабилизации? -Политическая экспертиза. № 3. С. 215-231
- Зазнаев О.И. 2007. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и постсоветского пространства. -Полис. Политические исследования. № 2. C. 146-164
- Казадаев В.А. 2013. Тенденции развития многопартийности и политического плюрализма в Словакии. -Власть. № 9. С. 69-73
- Королев П.А. 2013. Демократические транзиты на посткоммунистическом пространстве: взаимообусловленность внутренних и внешних факторов: автореф. дис. … к.полит.н. Орел: РАНХиГС. 28 c
- Макаренко Б.И. 2008. Посткоммунистические страны: некоторые итоги трансформации. -Полития. № 3. С. 105-125
- Тарасов И.Н. 2010. Выбор формы правления как институциональная проблема посткоммунизма: опыт стран Центрально-Восточной Европы. -Политическая экспертиза. № 1. С. 83-95
- Тарасов И.Н. 2014. Диалектика парламентаризма и президенциализма в Центрально-Восточной Европе. -Политическая наука. № 1. С. 94-115
- Фиш М.С. 1999. Конец «мечьяризма»? -Конституционное право: восточноевропейское обозрение. № 3. С. 3-9
- Baboš P., Malová D. 2013. Prelietaví voliči: Volebná volatilita v parlamentných voľbách medzi 2010 a 2012. -Evropská volební studia. № 2. P. 133-145
- Beblavy M., Veselkova M. 2014. Preferential Voting and the Party-electorate Relationship in Slovakia. -Party Politics. № 20. P. 521-532
- Henderson K. 2004. The Slovak Republic: Explaining Defects in Democracy. -Democratization. Vol. 11. Is. 5. P. 133-155
- Kitschelt H., Mansfeldova Z., Toka G., Markowski R. 1999. Post-communist Party Systems: Competition, Representation, and Inter-party Cooperation. Cambridge: Cambridge University Press. 457 p
- Krno S., Lysy J., Krno M. 2008. Narodna rada od zaniku Cesko-Slovenska a vzniku Slovenskej republiky po sucasnost’-Slovenské národné rady a cesta k parlamentarizmu/Red. Miroslav Peknik. Bratislava: VEDA. 275 s
- Pedersen M. 1966. Preferential Voting in Denmark. -Scandinavian Political Studies. № 1. P. 167-187
- Pink M. a kol. 2012. Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy, proměny. -Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 264 s
- Slovak Elections in 2012. (ed. by V. Krivý). 2012. Bratislava: Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences. 238 p
- Spáč P. 2014. The 2012 Parliamentary Elections in Slovakia. -Electoral Studies. Vol. 33. P. 343-346
- Žvach I. 2000. Historia HZDS. Bratislava. 95 s