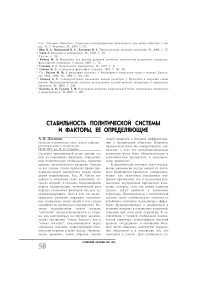Стабильность политической системы и факторы, ее определяющие
Автор: Логинов А.В.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Иллюзии и реальность общественного развития
Статья в выпуске: 1 (7), 2008 года.
Бесплатный доступ
Политическая стабильность, нестабильность, уровень экономического развития, политические элиты, федеральный центр, регионы рф
Короткий адрес: https://sciup.org/14720483
IDR: 14720483
Текст статьи Стабильность политической системы и факторы, ее определяющие
Согласно традиционной точке зрения, одним из важнейших факторов, определяющих политическую стабильность, является уровень экономического развития. Однако не все ученые готовы признать прямо пропорциональную зависимость между этими двумя параметрами. Так, М. Олсон выдвинул и обосновал свою концепцию, согласно которой «в странах, переживающих период модернизации, экономический рост нередко становится фактором как раз дестабилизирующим. Дело в том, что индустриальное развитие нарушает естественные социальные связи людей и тем самым ослабляет их групповую солидарность. Поэтому модернизация может вызвать ”всплески“ неудовлетворенности со стороны как вытесняемых на обочину экономических отношений ’’новых бедных“, так и ’’новых богатых“, оказывающихся перед соблазном изменить существующий политический порядок в свою пользу. Экономическое развитие, таким образом, вполне может привести к большей дифференциации к поляризации общества. Вероятно, правильным было бы компромиссное заключение о том, что дестабилизационные тенденции могут быть обусловленными и экономическим прогрессом, и экономическим кризисом»1.
В динамических системах такое поддержание равновесия всегда зависит от постоянно меняющихся процессов, «нейтрализующих» как экзогенные (вызванные внешними причинами), так и эндогенные (вызываемые внутренними причинами) изменения, которые, если они зашли слишком далеко, могут привести к изменению структуры. Применительно к политической системе слово «стабильность» означает се устойчивое состояние, позволяющее эффективно функционировать и развиваться в условиях внешних и внутренних изменений, сохраняя при этом свою структуру. В соответствии с теорией стабильная политическая структура демонстрирует высокий уровень «поддержки» в отношении большей части общества, институтов управления обществом и в отношении тех, кто находится у власти. Для стабильного го- сударства характерны: а) разделяемое чувство принадлежности к нации; б) преемственность форм управления; в) постепенная и упорядоченная смена правящих элит; г) наличие системы сдержек и противовесов для баланса властных структур; д) функционирование многопартийности, в рамках которой эффективно действует оппозиция; е) наличие многочисленного среднего класса. Все факторы политической стабильности аналитически разделимы. В то же время они взаимосвязаны в том смысле, что нестабильность одного фактора может привести к нестабильности других. Например, действия и борьба регионального меньшинства за отделение могут привести к падению поддержки режима или, наоборот, могут быть вызваны падением поддержки в пользу конституционной системы. Однако при этом также можно утверждать, что и дестабилизация одного или нескольких элементов политической институциональной системы может не иметь следствием дестабилизационнодеструктивные процессы, т. е. система будет вполне функциональна. Большинство ученых-политологов исходят из посылки, что стабильность более всего вероятна, если политические институты режима способны отзываться на ожидания его граждан2. Как правило, из всех требований граждан на первом месте стоят те, которые касаются их экономического благополучия. Волнения происходят тогда, когда народ считает, что его экономическое положение хуже, чем ему следует быть.
Практика показывает, что растущие надежды часто сопровождаются высоким уровнем политического участия населения. Ряд политологов считает, что широкое участие населения часто приводило к нестабильности из-за обострения группового конфликта и роста требований, завершавшихся крушением надежд, когда эти требования не удовлетворялись3.
Кроме того, нестабильность может и дальше углубляться из-за отсутствия развитой политической культуры, способствующей цивилизованному участию в делах страны. Для поддержания стабильности рекомендуется ограничить политическое участие до тех пор, пока политические институты не станут достаточно сильными, чтобы самостоятельно поддерживать высокие уровни участия.
Однако в условиях быстрого перехода общества от одного состояния и другое, когда разрушаются кодексы поведения и возникает обстановка неповиновения закону, люди становятся более восприимчивыми к призывам харизматических лидеров присоединиться к массовым движениям, следствием чего и является нестабильность.
Следует отметить, что вообще все стремительные перемены в экономической, социальной, культурной областях и резкая смена правящей элиты негативно воздействуют на политическую стабильность.
Многие авторы определяют нестабильность как неспособность политической системы управлять изменениями или, точнее, справляться с ними. На наш взгляд, это верно, поскольку в ситуации стабилизации политической системы, как правило, возрастает эффективность управления, поэтому нестабильность ведет к полной или частичной потере управляемости элементами системы. Большое значение здесь имеет наличие или отсутствие глубоких «расколов» в обществе, т. е. культурных, идеологических и социально-экономических конфликтов. Так, авторы коллективной работы «Регионоведение: социально-политический аспект» справедливо отмечают, что «политические системы становятся нестабильными из-за глубокого раскола общества — экономического, этнического, регионального и идеологического, преодолеть которое политические институты своими силами не в состоянии. В данном случае конституционный порядок распределения власти не определяет, а отражает такой раскол в обществе. Хотя какие-то институты могут смягчить, а другие усилить нестабильность, в целом институты государства неспособны придать стабильность обществу нестабильному в своей основе»4.
В России наиболее значимым актором, оказывающим влияние на стабильность политической системы, выступают политические элиты. По мнению С. Белковского, «современной Россией управляют не менее 15 разных групп, интересы которых с трудом уравновешивают друг друга. На поверхность выходят лишь ”пузыри“ их подвод- ных схваток — в виде арестов крупных чиновников и затяжных судебных баталий. Приблизительное равенство борющихся сил удерживает анархическую систему от коллапса»5.
Можно констатировать, что стабильность основана на некоем «единстве» в широком смысле и различных его вариациях (всеобщее осознание статуса самостоятельного государства, преемственность, неизменность формы правления и постепенная, управляемая, организованная, планомерная циркуляция элит, высокий уровень «поддержки» системы правления и тех, кто в данный момент находится у власти, и пр.) В данном синонимическом ряде главенствующее место, на наш взгляд, занимает идея «преемственности». Не случайно российские властные структуры с недавнего времени популяризируют идею преемственности власти. Это связано с тем, что на стадии стабилизации системы чрезвычайно важны так называемые «тылы», которые обеспечивают фиксацию уже достигнутого системой результата. Такие политические «тылы» могут идеологически обеспечиваться моделью преемственности государственного курса. Однако в России сама идея преемственности напрямую связана с проблемой координации интересов соперничающих элитарных групп. Так, французская газета «Le Figaro» отмечает, что в России «преемственность является следствием шаткого соотношения сил между различными кланами российской власти, в стане силовиков, которые ведут борьбу за доходные места и демонстрируют единство, только когда нужно дать отпор либералам»6. Очень многое в российской политической системе зависит от умелого дирижирования интересами соперничающих элитарных групп, от индивидуальных способностей главного дирижера (будь то президент или премьер-министр). Баланс политической системы в условиях многообразия интересов элитарных групп обеспечивается неформальной системой сдержек и противовесов элитарных устремлений, путем усиления либо ослабления ресурсных возможностей той или иной элитарной группы в бюрократической системе.
Следует признать такое равновесие действительно шатким, поскольку логика политического процесса в современной России во многом зависит не от общественного договора или социологических закономерностей, а от индивидуальной психологии лидера государства, которая подменяет и электоральные циклы, и конфликты социальных групп, и даже идеологию. Этим и обусловливается крайняя непредсказуемость и неустойчивость современной российской политики.
Е. Кузнецова отмечает, что «после 7 мая 2008 г. нас ожидает нечто такое, что, без сомнения, обогатит если не мировую, то российскую историю, — бицефальная система власти, в которой центр принятия решений расщеплен и нестабилен... Если случится конфликт, последствия окажутся тяжелейшими. Эта ситуация опасна потому, что вертикаль власти не имеет надежного фундамента, кроме ’’доверия"... Спасти Россию от раскола элит сможет лишь нынешняя ’’вертикаль", воплощающая систему всеобщего исключения, когда полстраны с согласия начальства ’’кормится", ’’обналичивает", ’’осваивает" и ’обеспечивает порядок" вместо того, чтобы производить, модернизировать, проверять или банально обслуживать население»7.
В условиях стабилизации системы возрастает спрос на эффективных исполнителей, которые могут обеспечить реализацию ранее начатого курса, т. е. его преемственность. Такими исполнителями могут быть, например, губернаторы-хозяйственники, деятельность которых свободна от идеологических пристрастий и зависимости от региональных элитарных кланов.
В рамках описанной логики федеральный центр продолжает традицию последних лет — назначение главами субъектов Федерации так называемых «варягов», т. е. людей, не связанных с региональными элитами и, значит, по мнению федерального центра, свободных от коррупционной составляющей. Так, в 2007 г. пост новгородского губернатора М. Прусака, возглавлявшего регион почти 16 лет, занял заместитель министра сельского хозяйства РФ нижегородец С. Митин. В том же году к власти в Бурятии и Амурской области пришли уроженец Удмуртии, первый вице-губернатор Томской области В. Наговицын и казанский предприниматель Н. Колесов, а Костромскую область возглавил уроженец Омской области И. Слюняев. В итоге все чаще в регионы приходят люди, никак с этими территориями не связанные.
Еще одна тенденция, достаточно ярко проявившая себя в последние годы: времена генералов-губернаторов уходят в прошлое. Бывший глава Рязанской области Г. Шпак — генерал-полковник, до избрания главой региона был главкомом ВДВ ВС РФ. В декабре добровольно расстался со своим креслом смоленский губернатор генерал В. Маслов. Один из соратников Г. Шпака — генерал-лейтенант В. Шаманов («усмиритель Чечни», как его называли в годы второй чеченской) в свое время вынужден был покинуть пост губернатора Ульяновской области. Пару лет назад вынужден был уйти в отставку глава Калининградской области адмирал В. Егоров (бывший командующий Балтийским флотом). На сегодня свои посты из генерал-губернаторов сохранили только президент Ингушетии М. Зязиков, воронежский губернатор В. Кулаков и глава Московской области Б. Громов, а также «полковник-губернатор» Алексей Лебедь, возглавляющий Хакасию. Все остальные главы регионов — «кадровые» штатские8.
Таким образом, по всей видимости, мобилизационный период (когда были востребованы политики «жесткой руки») в установлении вертикали власти в России завершается окончательно. На смену нынешним главам регионов приходят не генералы, не политики, а управленцы-менеджеры. В условиях политической стабильности, достигнутой в стране, это вполне логично. Генералы-губернаторы были необходимы в предвыборный период, так как за людей с большими звездами электорат голосует с удовольствием, но и руководить регионом, и, главное, находить консенсус с элитами им удается с трудом.
Спрос на управленцев-менеджеров в условиях стабилизации наблюдается как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Можно сказать, что это один из качественных признаков данного этапа развития государства. Управленцы-менеджеры обычно не создают своей идеологии, они функционируют в рамках заданной сверху стратегии развития. Их деятельность оценивается не с позиций авторитета или доверия к ним населения региона или города, а с позиции достигнутого результата либо выполнения каких-либо плановых показателей, спускаемых сверху. Причем для них значимо, что эффективность их деятельности оценивается с этих позиций не населением региона, а в первую очередь федеральными структурами власти. Порядок назначения губернаторов президентом, на наш взгляд, дополняет и конституирует эту особенность.
От управленцев-менеджеров, как правило, не ждут генерации «свежих» идей, которые нередко на стадии стабилизации тормозят реформы. Разработка и реализация чего-либо принципиально нового, не следующего идеологии преемственности, нарушает сложившийся баланс внутри системы. Такие новации властью оцениваются как антисистемные, неразумные, тем более если они требуют дополнительных ресурсов.
Набирающее небывалую силу государство в лице бюрократической системы (одной из самых консервативных сил социума) очень активно на этой стадии сопротивляется и эффективно противостоит «свежим» идеям, приходящим из регионов, гражданского общества, оппозиции или других политических акторов. Поэтому на стадии стабилизации политической системы в условиях усиления аппарата государства все акции со стороны оппозиции, как это ни парадоксально, неизбежно будут перенаправлены против самой же оппозиции. Можно сказать точнее: чем сильнее оппозиция противостоит системе и критикует ее, тем сильнее эффект от столкновения с ней. Эту ситуацию можно образно сравнить с ситуацией, когда на море огромный военный крейсер сталкивается с небольшим катером. В этом случае чем сильнее их скорости, тем более трагичны последствия для катера, который обычно раскалывается надвое и идет ко дну, крейсеру же при этом не причиняется значи- тельного ущерба, он следует дальше тем же курсом.
Положение российской несистемной оппозиции очень схоже, на наш взгляд, с подобной ситуацией. Она не консолидирована ни в структурном, ни в идеологическом плане, не имеет авторитета в российском обществе (у нее для этого слишком мало ресурсов). Бюрократическая система умело блокирует все антисистемные действия оппозиции, используя в этих целях «антиэкстремистское» законодательство, заградительные барьеры и другие многообразные политические средства. В то же время, умело пользуясь широким набором ресурсов и политическими технологиями, бюрократическая система умело управляет политическими настроениями общества.
Следует учитывать, что стабильность содержит в себе скрытую опасность и для самой политической системы. Состояние стабильности при определенных условиях может перерасти в застой, стагнацию, когда динамика политической жизни общества резко замедляется, развитие практически приостанавливается, что порождает острейшие экономические проблемы в управлении страной. В этих условиях власть и общество просто довольствуются своим положением, благоприятной экономической конъюнктурой, которая всегда носит ситуативный и временный характер. Происходит элементарное «проедание» накопленных экономикой ресурсов без принятия стратегических решений в области дальнейшего экономического и политического развития.
Сегодня в России стоит непростая дилемма: сохранять накопленные резервы или профинансировать рывок к современной экономике. Это объективная проблема, которая выходит за рамки ведомственных трений. Тем не менее Минфин РФ и МЭРТ спорят в лице своих руководителей о выборе дальнейшего вектора экономического развития страны.
Так, Минфин ставит вопрос — сначала деньги (финансовый план), а потом проекты (Концепция-2020). Долгосрочный финансовый план, по замыслу А. Кудрина, даст точный ответ на финансовые способности России реагировать на будущие вы зовы: кризис пенсионной системы, падение нефтяных цен, рост инфраструктурных инвестиций и предстоящее сокращение темпов роста госрасходов с нынешних 16 % ВВП до 9—10 или даже до 4—5 % ВВП. При этом, по мнению главы Минфина, правительство должно быть готово к циклическому спаду экономики и замедлению темпов роста ВВП.
По мнению А. Кудрина, «в 2009— 2011 годах Российская Федерация впервые ограничит себя в расходах. В 2005 году расходы выросли на 30 %, в 2006-м — на 21 %, в 2007-м (с учетом наполнения капиталов институтов развития) — на 39 %. Больше так не будет. Мы вынуждены перейти к приросту расходов бюджета в реальном выражении на 9—10 % в год, в дальнейшем — на 4—5 %. Все проекты, какими бы нужными они ни были, будут проходить более жесткий отбор с точки зрения приоритетов»9.
Глава МЭРТа Э. Набиуллина придерживается иной точки зрения. По ее словам, «МЭРТ солидарен с Минфином в необходимости поддержания макроэкономической стабильности, однако нынешняя траектория ведет страну в тупик. Модель роста прошлых восьми лет уже исчерпала себя, Россия не наращивает глобальную конкурентоспособность, структура экспорта заморожена, а очаги экономического роста носят локальный характер. Россия нуждается в изменении структуры экономики и увеличении инвестиций в образование, здравоохранение, инфраструктуру и инновационную систему. И хотя Минфин публично не отрицает этих приоритетов, бюджетные расходы по данным направлениям фактически сокращаются. Доля расходов федерального бюджета на образование падает с 1 % ВВП в 2008-м до 0,7 % в 2010 году, а доля расходов на здравоохранение падает за это же время с 0,7 до 0,6 % ВВП. Бюджетная трехлетка воспроизводит сложившуюся структуру расходов, и такое положение неприемлемо для развития. Бюджетный механизм нужно срочно изменить. Бюджетная трехлетка фактически откладывает все изменения на период после 2011—2012 годов и поэтому нуждается в большей гибкости. Бюджет и финансовый план — это инструменты для реализации политики. Первичны приоритеты политики, а не сводный финансовый план»10.
Научный руководитель Высшей школы экономики Е. Ясин видит разумное зерно в позициях Минфина и МЭРТа. Впрочем, судя по всему, ему ближе позиция Кудрина. «Структурная политика необходима России, и без участия государства она невозможна, однако финансовая стабильность является условием этой политики, а не ее альтернативой. Период реализации временных преимуществ проходит, и Россия сегодня находится в опасной зоне, где попытка стимулирования высоких темпов роста в 8—9% ВВП может обернуться инфляцией в 25% уже в следующем году. Главным же резервом российской экономики следует считать улучшение инвестиционного климата и повышение деловой активности. Несмотря на все клятвы в верности властям, российский бизнес предпочитает потреблять, а не инвестировать, что одновременно повышает инфляцию и снижает рост ВВП»11.
Таким образом, сегодняшнее положение показывает, что политическая элита России находится в сложной ситуации выбора. На наш взгляд, учитывая характер современного этапа развития государства, важен не новый идейный задел в экономике и социальной сфере, а продолжение и коррекция уже начатых в 2000—2007 гг. реформ с опорой на имеющиеся у государства ресурсы с учетом будущих вызовов в экономике и социальной сфере. Наиболее приемлемой стратегией на ближайшие годы должна стать коррекция или точная настройка уже существующих экономических и социальных механизмов, в том числе национальных проектов. Эти приоритеты не должны выходить за рамки экономических возможностей системы. Финансовая стабильность действительно должна являться условием этой политики, а не ее альтернативой.
Список литературы Стабильность политической системы и факторы, ее определяющие
- Макарычев А. С. Стабильность и нестабильность при демократии: методологические подходы и оценки//Полит. исслед. 1998. № 1.
- Разделенная демократия: пер. с англ. М., 1994. С. 31; Постникова Л. Политическая стабильность: взгляд на современность. М., 1996.
- Анохин М. Г. Политические системы. М., 1996.
- Регионоведение: социально-политический аспект: учеб. пособие. Нижний Новгород, 2000.
- Кузнецова Е. Двуглавая Россия//НГ. 2008. 8 апр.
- Рискин А. Варяги-заднескамеечники//НГ-РЕГИОНЫ. 2008. 24 марта.
- Вислогузов В. Алексей Кудрин готовит «концепцию-2023»//Коммерсант. 2008. 9 апр.
- Сергеев М. Минфин ставит крест на светлом будущем//НГ. 2008. 9 апр.