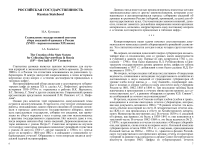Становление государственной системы сбора сведений об урожаях в России (XVIII - первая половина XIX веков)
Автор: Кузнецов Игорь Анатольевич
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 1 (75), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается история возникновения статистики урожаев в России в XVIII - первой половине XIX вв. Проанализированы законодательные акты, которыми регламентировались методы сбора данных об урожаях на местах и сроки их пересылки в правительственный аппарат. На материалах центральных и региональных архивов исследована практическая реализация законов. Установлено, что систематический сбор урожайных сведений складывался постепенно, начиная с 1723 г. Указом от 3 декабря 1760 г. была введена обязанность сельских (общинных) и вотчинных администраций ежегодно в октябре, одновременно со взносом подушного налога, подавать сведения об урожае своих селений в письменной форме. Эта обязанность сохранялась и в XIX в. Первоначально предполагался принцип поголовного опроса земледельцев. Реформа 1822 г. узаконила принцип выборочного вычисления урожайности по нескольким селениям каждого уезда. Главную роль в собирании первичных данных и подведении итогов урожая в границах уезда играли полицейские учреждения. Итоговые сведения по губернии направлялись в конце осени срочным донесением в правительство (в разные периоды - в Камер-коллегию, Сенат, Министерство внутренних дел, Министерство полиции, Министерство государственных имуществ). Годовые губернаторские отчеты XIX в. не имели отношения к урожайной статистике и лишь дублировали ранее посланные в Санкт-Петербург сведения. Основной целью этой деятельности был мониторинг продовольственного положения для предотвращения голода. Сведения о посевах и урожаях XVIII - первой половины XIX вв. автор предлагает квалифицировать как протостатистику, которая позволяет изучать лишь динамику урожайности и приблизительное соотношение регионов по величине урожая.
Российская империя, министерство, губерния, уезд, губернаторский отчет, урожайная статистика, урожай, продовольствие, голод, источниковедение
Короткий адрес: https://sciup.org/149142755
IDR: 149142755 | DOI: 10.54770/20729286_2023_1_6
Текст научной статьи Становление государственной системы сбора сведений об урожаях в России (XVIII - первая половина XIX веков)
Становление государственной системы сбора сведений об урожаях в России (XVIII - первая половина XIX веков)
LA. Kuznetsov
The Creation of the State System for Collecting Harvests-Data in Russia (18th - first half of 19th Centuries)
Статистика урожаев является ценным источником для изучения аграрной и экономической истории любого времени. До начала 1880-х гг. в России эта статистика основывалась на донесениях губернаторов. В центре дискуссий современников, а затем историков неизменно стоял вопрос о «степени достоверности приводимых в таблицах цифр»1.
Историографический обзор дискуссии о достоверности губернаторских цифр до начала XX в. сделал А.С. Нифонтов2, аргументы историков 1950-1970-х гг. отразились в работах В.К. Яцунского, Б.Г. Литвака, С. Хока3 и других специалистов. Современный уровень аргументации представлен полемикой Л.М. Рянского и С.А. Нефедова4.
Однако ряд аспектов этой перманентно дискуссионной темы остаются малоизученными. В частности, отсутствуют специальные работы, описывающие, каким образом сведения об урожаях возникали в процессе деятельности государственного аппарата, какую цель преследовало государство, собирая эти сведения, как происходил их сбор и передача с мест в центр, как они использовались в практике государственного управления. Нет ясности даже в том, когда впервые начался сбор таких сведений. Дореволюционные авторы начинали с указов Петра I5. Советские историки не изучали этот вопрос; некоторые связывали появление урожайной статистики с указом 24 августа 1760 г.6, другие говорили о 1780-х гг.7, третьи ведут ее историю с 1800 или 1802 г. и связывают с появлением губернаторских отчетов8. Обращение к этим вопросам видится актуальной задачей историографии.
Данная статья имеет целью проанализировать известные сегодня законодательные акты и другие законоположения, которыми устанавливался и регламентировался процесс собирания сведений об урожаях из регионов России (губерний, провинций, уездов) для общегосударственных нужд. Систематизация законоположений, думается, позволит наметить дальнейшие направления поиска архивных материалов и, возможно, скорректировать саму постановку вопроса о «степени достоверности приводимых в таблицах цифр».
* * *
Конкретизировать наши задачи поможет систематизация документального комплекса самой губернаторской урожайной статистики. Эта статистика известна сегодня в виде четырех групп источников.
Во-первых, коллекция донесений генерал-губернаторов на высочайшее имя «о плодоносии» или «о урожае» своих наместничеств и губерний в данном году. Первые из них датируются 1782 г, последнее - 1798 г. Они были выявлены Н.Л. Рубинштейном в Центральном государственном архиве древних актов, цифры из таблиц опубликованы в 1957 г.9, добавления к ним были сделаны И.Д. Ковальченко в 1959 г.10
Во-вторых, четыре сводные таблицы под заглавием «Генеральная ведомость, сочиненная в экспедиции государственного хозяйства из доставленных в оную сведений от гражданских губернаторов об урожае хлеба после жатвы, в ... году бывшей», содержащие данные о посевах и сборах хлебов по всем или почти всем губерниям России за 1801, 1802, 1803 и 1804 гг. Три последние таблицы были напечатаны в приложениях к отчетам министра внутренних дел соответствующих лет11, а раннюю обнаружил в архиве К.В. Сивков12, не сообщивший ее точного местонахождения13.
В-третьих, ведомости «О посеве и сборе хлебов (хлебов и трав)», находящиеся в составе ежегодных отчетов губернаторов, которые, как вид документа, возникли в 1804 г.14 В ранних отчетах эта ведомость обычно шла первой по счету. В четырехчастных отчетах конца 1820-х гг. она прилагалась к отчету по Хозяйственному департаменту Министерства внутренних дел. В отчетах 1830-х гг. сведений об урожае, как правило, не было; в 1838-1841 гг. они появляются в текстовой части. В отчетах 1842-1869 гг. это была ведомость №21. С 1870 г. в приложениях к отчетам и в печатных «Обзорах губерний» она, как правило, снова стояла на первом месте. Основной комплекс губернаторских отчетов 1804-1914 гг, с лакунами, приходящимися большей частью на 1820-е - 1830-е гг, хранится в фондах Российского государственного исторического архива; отчеты из некоторых губерний за ранние годы находятся в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН. Цифры из губернаторских отчетов
(до 1870 г.) фрагментарно публиковались, обзор этих публикаций требует специальной работы и выходит за рамки настоящей статьи.
Четвертой группой можно считать «Отчеты Министерства внутренних дел по продовольствию», сохранившиеся за 1827, 1829 и 1830 гг, в которых содержатся сведения о посевах и урожайности в «самах» (отношение собранного урожая к посеянным семенам) по каждой губернии15. Эти данные дублируют губернаторские отчеты соответствующих лет, позволяя восполнять имеющиеся в них лакуны. Сюда же примыкает доклад к аналогичному отчету МВД за 1828 г. без погубернских данных16.
В историографии за всеми этими источниками закрепилось общее название «статистика губернаторских отчетов», которое в строгом смысле относится только к третьей группе. Вопрос, как соотносятся между собой эти группы документов, в историографии не обсуждался, их рассматривали раздельно. Между тем, он представляется важным и ответить на него мы попытаемся в ходе дальнейшего анализа. Нас, в частности, интересует, существовала ли преемственность в собирании урожайных сведений между XVIII и XIX вв., осуществлялся ли сбор данных систематически или возникал спорадически, означает ли отсутствие данных за некоторые годы, что в эти периоды сбор данных прекращался.
* * *
Первые законодательные акты, устанавливающие обязанность правительства собирать сведения об урожае, относятся к 1723 г, когда зимой вскрылись последствия неурожая 1722 г. В указе от 16 февраля Петр I писал: «.. .Ведомо Нам учинилось, что от хлебного недороду во многих местах является в народе голод, от чего некоторые и помирают»17. Затем указом от 27 февраля было предписано создать в Камер-коллегии контору с особым человеком, который бы «мыслил и доносил» о состоянии государственных хлебных магазинов (складов) и о том, «каким образом, во время недорода, народ довольствовать». Здесь же содержалось требование присылать с мест сведения об урожаях: «...И когда хлеб с поль снимут и перемолотят, тогда б всякой провинции учиня ведомости, сколько в которой снято копен, и каков умолотом, рапорты присылать в определенную Контору»18. Учрежденная контора была шестой, так как по регламенту 1719 г. Камер-коллегия состояла из пяти контор, которые контролировали сбор налогов (в том числе правеж недоимок) и расходование казенных средств. В регламенте была прописана задача равномерной раскладки податей, для чего «надлежит Камер-коллегии о состоянии, натуре и плодородии каждой провинции... накрепко уведомляться» путем корреспонденции с губернаторами и воеводами19. Задача, поставленная перед новой конторой, была более конкретной: следовало выяснять не относительное плодородие регионов, а величину 8
урожая каждого данного года.
Летом 1723 г. Сенат получил донесения из ряда провинций, что неурожай повторился, не прекращается смертность от голода20. Среди мер, принятых для борьбы с голодом, были изданы указы от 23 июля и 3 сентября о еженедельной присылке рапортов о ценах на хлеб в связи с собиравшимся урожаем: «Впредь из губерний и провинций о хлебе, где какой родился, и какими ценами покупают, в Камер-коллегию рапорты посылать»21. Некоторые авторы трактовали эту формулу как требование присылать сведения и о ценах, и о величине урожая еженедельно22, но нам представляется, что здесь речь идет лишь о недельных ценах на те виды зерна, которые выращивались в данной местности, а не об объемах урожая.
Как и в какой мере исполнялись указы 1723 г, неизвестно. Думается, важно зафиксировать, что сбор сведений об урожаях изначально возник в российском законодательстве в контексте проблемы обеспечения страны продовольствием, и эти сведения стояли в связке с хлебными ценами как два индикатора продовольственного положения. Характерно, что в предметном указателе Полного собрания законов все законы, касающиеся урожайной статистики, отнесены к категории «продовольствие». Поручение этого вопроса налоговому ведомству, с одной стороны, создавало на местах очевидные стимулы к сокрытиям, преуменьшению урожаев, с другой, имело свое рациональное бюрократическое основание: в случае неурожая сигналы о нем шли именно в то учреждение, которое могло инициировать решения о приостановке сбора налогов или взыскания недоимок в неурожайной местности.
Следующее упоминание о ежегодной присылке урожайных сведений содержится в указе от 8 января 1736 г, посвященном вопросу винных поставок. Об урожаях говорилось в пункте 5: губернаторам и воеводам предписывалось смотреть, чтобы из-за винокурения «в хлебе оскудения не произошло», и с этой целью приказано «впредь губернаторам и воеводам, в которых городах и уездах каковы будут хлебы урожаем: по все годы рапортовать в Сенат заблаговременно»23. Таким образом, в царствование Анны Иоанновны сведения об урожае адресовались уже в Сенат. Сами сведения этого периода не сохранились, и до 1760 г. мы не находим в законодательстве новых упоминаний о них.
1760 г. ознаменовался сразу двумя важнейшими указами. В указе от 24 августа констатировалось, что в данный момент в Сенат присылаются третные (три раза в год) ведомости о ценах хлеба, «а об урожае хлеба и трав из некоторых городов, а не изо всех»24. Такое положение признавалось неудовлетворительным, поскольку «справедливая государственная экономия и порядок необходимо требует, чтоб всегда иметь подлинное знание о урожае как хлеба, так и других продуктов во всех провинциях и уездах». Тут же приказывалось «во все губернии послать из Сената указы с нарочными курьерами», чтобы выяснить «подлинно, в нынешнем 1760 году, каковы хлебы озимые и яровые... родились ужином и умолотом, и с каким против севу и прошлогоднего приплодом; и учиня... ведомости, прислать при доношениях в Правительствующий Сенат с теми же нарочно посланными курьерами, немедленно»25. Далее такие ведомости должны быть ежегодными: «Також и впредь всем губерниям, каждой своего ведомства с провинциями и городами, в каждом году не позжее октября или конечно ноября месяцев, равные сему присылать непременно»26.
Из текста указа следует, что до 1760 г. обязанность губернаторов и воевод ежегодно присылать сведения об урожае не отменялась, но исполнялась плохо, эпизодически и не повсеместно. Причиной активизации усилий правительства именно в этом году вряд ли был неурожай (1760 г. не упоминался историками в ряду голодных27), здесь закон впервые апеллирует к общим принципам «справедливой государственной экономии и порядка».
Здесь же впервые разъяснялось, каким образом следует собирать сведения: «присутствующие», то есть чиновники губернских, воеводских и уездных канцелярий должны лично и «приватно» «осведомляться» об урожае у «тамошних жителей, не ездя ж в уезды и не требуя о том никаких письменных известий»28. Очевидно, что таким методом - устным, выборочным нерепрезентативным опросом, причем в спешке, можно было собрать лишь отрывочные оценки урожайности в «самах», но никак не данные о величине урожая «ужином и умолотом», которые требовались по указу.
Это противоречие было разрешено новым указом, от 3 декабря 1760 г, которым устанавливался иной порядок сбора сведений об урожае: их должны были подавать должностные лица сельских администраций или сами земледельцы - «прикащики, выборные, старосты или крестьяне» - в письменном виде в момент сдачи второй части подушной подати: «.. .Во всех губерниях, провинциях и городах всякого звания обывателям, при платеже на вторую половину года подушных денег подавать ведомости, сколько десятин в посеве бывает какого хлеба и другого земляного продукта,... где какого звания есть, и каков чему урожай был»29. Ведомости составлялись на общину, поселение или волость. «Счислять» свои урожаи поселяне должны были самостоятельно и «заблаговременно», а чиновники должны были принимать сведения в том виде, в каком им их сдавали: «И каковы от прикащиков, выборных, старост или крестьян при платеже подушных денег о том ведомости или записки поданы будут, таковы от них и принимать, не чиня никакого затруднения и ни малейшего задержания». Затем в воеводских и губернских канцеляриях составлялись «краткие ведомости», которые следовало посылать в Сенат и Камер-коллегию «конечно в генваре месяце» следующего года. Указ «объявлялся во всенародное известие»: «Сей указ во всех уездных церквах ежегодно в октябре и ноябре месяцах, ю по все воскресные и праздничные дни всенародно читать»30. Обращает внимание слово «ежегодно», то есть этот порядок мыслился постоянным.
Он был подтвержден и расширен указом от 16 января 1766 г.31 В нем почти целиком цитировался декабрьский указ 1760 г, и отмечалось, что по нему «действительного исполнения не чинится», а те ведомости, которые все же были получены за 1764 и 1765 гг, не имеют единой формы, поэтому невозможно составить «генеральной ведомости». Власть настаивала: прислать ведомости за истекший год, и впредь «подтвердить указами, и велеть о посевах и урожаях хлеба и других продуктов..., принимая при платеже на вторую половину года подушных денег от управителей, прикащиков, выборных, старост и крестьян ведомости или записки, а о состоящих под особыми, как то: дворцовыми и экономическими управлениями, получая от тех управлений таковые ж ведомости,... сочинять из них каждой провинциальной и воеводской канцелярии о своих уездах особые перечневые ведомости, и отсылать оные в свои губернии каждогодно в октябре...; а в губерниях..., как о своем уезде, так и из полученных из провинций и городов, сочиняя генеральные, присылать в Сенат и в Камер-коллегию в ноябре и декабре месяцах непременно»32.
К указу прилагалась единая форма ведомости. В ней требовалось указывать для каждой из высеваемых культур посевную площадь в десятинах, объемы семян, валового и чистого урожая - в четвертях33. Следовательно, правительство ставило перед собой задачу ежегодно составлять общероссийскую таблицу посевов и урожаев с разбивкой по губерниям. Была ли реалистична такая задача в условиях той эпохи, и насколько адекватен предложенный метод ее решения? Ежегодный сплошной учет посевных площадей и урожаев методом поголовного опроса всех земледельцев в масштабах огромной страны представляется типичной бюрократической утопией, впрочем, характерной для эпохи абсолютизма с ее идеями полицейского государства, заботящегося о всеобщем «благоустройстве» в духе камерализма34.
Резонные сомнения и вопросы к правительству пришли из Лиф-ляндии, на которую, по-видимому, до этого не распространялась обязанность сообщать данные об урожае. В марте 1766 г. Рижский генерал-губернатор Ю.Ю. Броун от лица дворянства прислал в Сенат вместо ведомости мотивированные возражения. В «мемориале лифляндского рыцарства» отмечалось, что в имениях ведутся лишь «краткие о приходе хлеба по умолоте записи», а составление подробных ведомостей потребует больших затрат, ибо «к тому особливых людей с немалыми убытками нанять должно»35. Крестьяне же «сеют и жнут исстари без меры, таким же образом собирают свой избыток, сверх же того крестьяне хлеб свой собирают нечистый, а оставляют, верно, половину мякины и охвостья, чего для настоящего количе- ства о хлебной жатве обстоятельно назначить невозможно»36. Далее ставился более общий вопрос, который оставался из указа не ясным: «Для чего оные ведомости требуются»? Предполагалось два варианта: 1) «по запросу о недородных летах», либо 2) «сведать свойство пашен и оных плодоносие». В первом случае рыцари возражали, что в Лифляндии ввиду активной внешней торговли недостатка хлеба не бывает, а во втором, что «на собираемые от обывателей известия надежно полагаться не можно»37. Они просили освободить их от этой обязанности. Однако Сенат, не ответив на аргументы по существу, подтвердил необходимость присылать «ежегодные о хлебном урожае ведомости, без которых никакое благоучрежденное государство обойтится не может»38. (Действительной причиной беспокойства властей в 1766 г. был очередной неурожай39 и значительный рост хлебных цен40.)
Очевидно, что вопросы, поднятые «лифляндским рыцарством», касались всех губерний России, но бюрократия на местах привычно брала под козырек. Так, материалы Тюменского областного архива иллюстрируют деятельность местной администрации по исполнению указа 1766 г, спущенного из губернской канцелярии в уезд. В том числе сохранились некоторые рапорты старост и ведомости, присланные в Тюменскую воеводскую канцелярию из станов, с указанием площадей, посевов и урожаев в соответствии с установленной формой41.
В 1770-е гг. сбор урожайных сведений продолжался. Так, в указе от 5 июня 1775 г, касавшемся присылки разных сведений в Сенат, среди прочего говорилось, что Камер-коллегия «получает еще годовые же ведомости о посеве и урожае хлеба и других продуктов; по чему из оных иметь может генеральное сведение, который год изобилен или не изобилен был, и сколько например хлеба за продовольствием остаться бы могло»42.
* * *
Самые ранние известные сегодня сведения об урожаях, агрегированные на губернском уровне, относятся к 1779 г, они содержатся в донесениях генерал-губернаторов, датированных октябрем - ноябрем 1782 г. Указа, в ответ на который составлялись эти донесения, в Полном собрании законов нет, но его смысл реконструируется по ответным рапортам. «Указ от 26 августа о собрании от всех нижних земских судов вверенных мне губерний и вашему императорскому величеству о представлении уведомления о плодоносии нынешнего года в хлебе, сене и прочем необходимо нужном, сравнивая оное с прошедшими годами и присовокупя при том мои примечании, достаточно ли всего того для жителей тех губерний, или же в чем-либо оказывается недостаток, получен...», - рапортовал генерал-губернатор Ярославский и Вологодский43. Из этого и аналогичных рапор- 12
тов следует, что указом от 26 августа 1782 г. было предписано прислать сведения об урожае года в сравнении с тремя предыдущими (1779-1781 гг), их следовало собрать через нижние земские суды и адресовать императрице.
Последнее важно, так как по прежним указам такие сведения направлялись в Сенат и Камер-коллегию. Поскольку все сохранившиеся в Архиве древних актов ведомости адресованы на высочайшее имя, можно предположить, что именно поэтому они и сохранились (и то лишь частично), тогда как присылавшиеся в другие ведомства не подлежали длительному хранению. Требование присылать урожайные сведения императрице повышало статус этих документов. Возможно, Екатерина II стремилась таким образом дисциплинировать начальников губерний, и это косвенно свидетельствует о том, что до этого ведомости об урожае приходили нерегулярно.
Следующий указ, от 11 мая 1788 г, подтверждает, что проблемы с присылкой сведений сохранялись. В этом указе Екатерина II выговаривала генерал-губернаторам за то, что из некоторых губерний ведомости об урожае прошлого года дошли с опозданием, тогда как год был неурожайным, и правительство упустило возможность своевременно принять меры. Поэтому сроком присылки ведомостей устанавливался ноябрь, и в донесениях требовалось оценивать достаточность или недостаточность имеющегося в губернии хлеба: «Отныне впредь не позже ноября месяца каждого года присылать к Нам и в Сенат Наш обстоятельные доношения о урожае в губернии озимого и ярового хлеба, с точным показанием, могут ли жители тамошние продовольствоваться своим хлебом, остается ли довольно оного на семена и в избытке на продажу? В случае же недостатка, откуда способнее наполнить оный полагается? Дабы... можно было благовременно подать средства к отвращению скудости в пропитании народном»44. Как известно, неурожай 1787 г. вызвал скачок цен, и правительство даже создало «Комиссию о хлебе»45. Указ от 11 мая 1788 г. ясно свидетельствует, что главным предназначением ежегодных сведений об урожае мыслился контроль над продовольственным положением регионов. При этом донесения составлялись в двух экземплярах - один императрице, второй в Сенат.
Вторая новелла указа от 26 августа 1782 г. касалась нижних земских судов. В своих рапортах генерал-губернаторы прямо ссылались на нижние земские суды как на источник сведений. Более того, донесение генерал-губернатора Казанского и Пензенского содержало полный комплект уездных ведомостей по обоим наместничествам, каждая из которых заверена тремя-пятью подписями исправника и заседателей нижнего земского суда с печатью46. Указания на информацию от нижних земских судов встречаются и в аналогичных донесениях 1790-х гг. Так, в 1793 г. в столице возникло сомнение в достоверности данных об урожае из Калужской губернии, показавшей большой недостаток хлеба. Генерал-губернатор Тульский и
Калужский прислал объяснение, что ведомость была «сочинена в Калужском наместническом правлении по присланным таковым же [ведомостям] от нижних земских судов, которые, отбирая от управителей, прикащиков, старост и прочих сельских начальников без надлежащей поверки и соображения в справедливом или несправедливом показании, доставляли так, как сами получили»47. Таким образом, нижние земские суды принимали от сельской администрации те самые «ведомости и записки», которые предписывалось подавать при платеже подушных денег указами 1760 и 1766 гг. Следовательно, порядок сплошного опроса не отменялся.
Нижний земский суд (с 1837 г. - земский суд) являлся аппаратом власти в уезде, возглавлялся земским исправником и подчинялся губернатору. Созданные в ходе губернской реформы 1775 г, они в 1862 г. были преобразованы в уездные полицейские управления, но в официальном языке и раньше именовались полицией. В «Учреждениях для управления губерний» 1775 г. среди функций нижних земских судов сбор урожайных данных не значился, но поскольку там говорилось, что «Нижний земский суд один в уезде право имеет приводить в действие повеления Правления, решения Палат, Верхних и Уездных судов, и чинить отказы» (ст. 224, пункт З)48, то наделение их и такой обязанностью было логичным.
Характерно, что сохранившиеся генерал-губернаторские урожайные ведомости не соответствуют той форме, которая была установлена указом 1766 г: в них нет данных о посевных площадях. По-видимому, указ 1782 г. предлагал и новую форму ведомости.
Самое позднее сохранившееся в архиве генерал-губернаторское донесение об урожае относится к 1798 г. (Вологодская губерния)49. Почему затем они исчезли, и не означало ли это прекращение сбора данных?
От эпохи Павла сохранилось два указа 1800 г, обращенных уже к гражданским губернаторам. Указ 9 января «О донесении его императорскому величеству ежегодно о всходах озими и состоянии хлебов» напоминал им об ответственности за продовольственное положение губернии и за наличие в ней хлебных запасов. Причиной беспокойства, как объяснялось здесь же, был неурожай за границей, который мог вызвать чрезмерное усиление вывоза зерна из России. В качестве меры контроля называлось «заблаговременное донесение» губернаторов императору об «оказаться могущем оскудении в хлебе». Завершался указ напоминанием, что император ждет этих донесений, а также предписанием: «...А впредь повелеваем ежегодно и о всходе озими и состоянии хлебов доносить Нам неупу-стительно»50. Некоторые историки трактовали это как требование присылать сведения об урожае51, однако очевидно, что речь идет о дополнительном требовании: доносить «о всходе озими и состоянии хлебов», то есть о ситуации на полях весной-летом, помимо итоговых урожайных сведений.
Сведениям об урожае был посвящен указ от 13 марта 1800 г. В нем констатировалось, что за 1799 г. нет ведомостей из 14 губерний, напоминалось о прежних указах Елизаветы и Екатерины II, приказывалось ведомости прислать, и на будущее: «...Непременно в ноябре месяце рапорты с ведомостьми, показывая в них, сколько было в посеве хлеба, из посеянного снято, и сколько по умолоте выходит. Также располагая все количество душ мужеска и женска пола,... показывать, достаточно ли оного будет, с присовокуплением заготовляемых в зиму хозяевами из садов, лесов и огородов разных овощей ради посевов и для пропитания народного на год; и сверх того, останется ли что для продажи»52. Формулировки «сколько было в посеве хлеба, из посеянного снято, и сколько по умолоте выходит» и «заготовляемых в зиму из садов, лесов и огородов разных овощей» использовались уже в донесениях последних екатерининских лет в заглавиях ведомостей и в примечаниях к ним. Вычислялось там и душевое производство хлебов. То есть этот указ не содержал новаций, лишь повторяя о необходимости исполнять прежние. Только если при Екатерине II генерал-губернатор рапортовал за все (обычно две) подведомственные ему губернии (наместничества), то теперь отвечали начальники каждой губернии в отдельности. Следовательно, сбор данных продолжался.
Отсутствие самих донесений губернаторов в архиве может быть связано с созданием в 1797 г. Экспедиции государственного хозяйства при Сенате. Так как «генеральные ведомости» об урожаях 1801-1804 гг, согласно их заглавиям, составлялись в этом учреждении, можно предполагать, что именно там теперь аккумулировались губернаторские донесения, там они затем и погибли, как и львиная доля других бумаг. Вопрос, существовали ли всероссийские ведомости об урожае ранее 1801 г, остается открытым.
В 1802 г. при создании министерств Экспедиция государственного хозяйства была передана из Сената в Министерство внутренних дел. К ведению этого же министерства было отнесено «продовольственное дело», ему же были подчинены губернаторы. Министр В.П. Кочубей сразу же обратился к губернаторам с предписанием собрать и сообщить в МВД большое количество информации по разным сферам управления и хозяйства, необходимой для «коренного познания» губерний, в частности «сведения о годичном произращении разного хлеба по сложности десятилетней»53. Кроме того губернаторам приказывалось впредь ежегодно присылать данные о текущем положении, в том числе: «Ведомости о хлебном урожае в надлежащее время года, с примерным исчислением, сколько потребно оного на продовольствие, сколько на винокурение, сколько останется на выпуск вне губернии, или напротив, сколько не достанет, и из каких губерний привезен на продажу быть может»54. Таким образом, губернаторские донесения о посеве и урожае официально перестали быть всеподданнейшими и были переадресованы в МВД.
Факт наличия «генеральных ведомостей» 1802-1804 гг. подтверждает, что донесения приходили.
С 1804 г. разрозненные донесения и сведения о состоянии различных сфер управления и экономики были сведены в единый документ - годовой отчет губернатора перед министром, который составлялся в губернаторской канцелярии в начале следующего за отчетным года. С течением времени формуляр отчета и табличных приложений к нему не раз менялся, контроль за их присылкой в столицу ослабевал, в некоторые периоды из некоторых губерний отчеты переставали приходить или приходили с большими, порой на два-три года, задержками, пока с конца 1830-х гг. губернаторские отчеты, ставшие всеподданнейшими, не стали снова строго контролироваться. В связи с этим возникают вопросы: как появление губернаторских отчетов отразилось на урожайной статистике, что происходило со сбором урожайных сведений в те годы, когда губернаторские отчеты не приходили, сильно опаздывали или не содержали сведений об урожае?
Обращение к материалам региональных архивов привело нас к выводу, что введение губернаторских отчетов не повлияло на существовавшую независимо от них систему собирания сведений об урожае55. Губернаторская канцелярия каждый год в октябре приказывала нижним земским судам собрать сведения и прислать ведомости об урожае в уезде. Со скрипом, проволочками, после напоминаний и угроз штрафом ведомости, составленные секретарями земских судов, приходили. Из полученных цифр составляли губернскую ведомость и в ноябре срочным донесением отправляли в МВД, а в годы существования Министерства полиции (1810-1819 гг.) - в него, поскольку «продовольственное дело» было подведомственно ему, или на оба адреса. В январе нового года или позже губернаторская канцелярия начинала работу по составлению годового отчета и запрашивала у нижних земских судов различные сведения, но сведений об урожае среди них уже не было. Это означает, что ведомости о посеве и урожае в губернаторских отчетах лишь дублировали, в видоизмененной форме, ранее отосланные в столицу донесения. Более того, губернаторов обязывали также присылать в министерство (МВД или Министерство полиции, соответственно) сведения о состоянии посевов и произрастании хлебов с начала весны до начала уборки урожая два раза в месяц, каждого 1 и 15 числа56.
Факт существования таких донесений подтверждается документом об их уничтожении. 20 декабря 1829 г. Комитет министров одобрил решение «О делах, находящихся в архивах Министерства внутренних дел, кои по ненадобности их могли бы быть уничтожены», в 16 пункте перечня значилось: «От начальников губерний о числе десятин, засеянных озимым хлебом, о произрастании хлеба и трав и о посеве и урожае хлеба с 1810 по 1822 [годы]»57. Очевидно, та же участь постигла аналогичные документы более раннего и позднего 16
периодов. Примечательно, что здесь кроме урожайных упомянуты данные о посевных площадях и «о произрастании хлеба и трав», которые в годовых отчетах никогда не фигурировали. Так или иначе, задержки губернаторских отчетов или отсутствие урожайных данных в них не означает, что сбор сведений об урожае прекращался.
* * *
Новый этап развития законодательства ознаменовали акты 1822 г: указ от 14 апреля58 и распоряжения Сената от 30 апреля59. Основные положения этих законов затем вошли в «Уставы о народном продовольствии» (XIII том Свода законов) и, с поправками и расширениями, действовали до реформ 1860-х гг. Во всех губерниях были созданы Комиссии продовольствия (позднее их называли Комиссиями народного продовольствия). Председателем Комиссии народного продовольствия был губернатор, в ее состав входили 6-8 высших чиновников губернии. Основная функция комиссии заключалась в том, чтобы по итогам сельскохозяйственного года выяснить величину собранного урожая, размер запасов в хлебных магазинах и/или продовольственного капитала губернии (если губерния потребляет привозной хлеб, то учесть также «состояние урожая в тех губерниях, из которых хлеб привозится») и сделать заключение о достаточности или недостаточности продовольствия для жителей на следующий год. В случае неурожая и голода законом регламентировался порядок выдачи и распределения продовольственных и семенных ссуд.
Реформе 1822 г. предшествовали неурожаи 1819-1821 гг. и кризис системы сельских хлебозапасных магазинов, а также вскрывшиеся факты злоупотреблений губернаторов60. Создание Комиссии народного продовольствия ставило деятельность губернатора в плане распоряжения продовольственными запасами и ссудами под контроль хотя и узкой, но все же группы должностных лиц, имевших разную ведомственную подчиненность, и все решения теперь требовали согласования.
Законы 1822 г. упоминают и описывают урожайную статистику как элемент системы продовольственной безопасности, имеющий сугубо утилитарное, техническое значение. Она выступала основой для заключений Комиссии народного продовольствия. В пункте 21 распоряжений Сената был очерчен круг собираемых губернатором сведений: 1) к 1 мая сведения, сколько четвертей высеяно яровых хлебов; 2) в течение лета периодически - «благонадежен ли урожай, судя по произрастанию и по разным физическим на оный влияниям» и «о состоянии трав на сенокосах»; 3) «по окончании жатвы в октябре месяце: каков урожай хлеба, принимая в сем случае в соображение среднее количество из умолота в нескольких селениях каждого уезда, и показывая кратко, например: с посевом сам-четверт, сам-пят и проч.»; 4) к 1 ноября - сколько четвертей высеяно озимых хлебов61. Все эти сведения, по-видимому, в том или ином виде требовалось собирать и ранее, хотя мы не знаем, когда именно впервые установили сбор сведений о посеве, важно, что в этом документе они были зафиксированы как единый комплекс.
Новелла 1822 г. состояла в том, что вычислять урожайность требовалось по выборочным данным («из умолота в нескольких селениях каждого уезда»); поголовный опрос, установленный указами 1760 и 1766 гг., в законе больше не упоминался. Второе новшество - требование определять не объем урожая, а урожайность в «самах». Поэтому с 1822 г. в губернаторских отчетах мы находим ведомости «о посеве и урожае» по новой форме, где нет валового сбора, есть только объемы посева и урожайность-сам по уездам, без губернских итогов и без дифференциации по культурам. Таблицы в отчетах МВД по продовольствию конца 1820-х гг. также не содержат цифр валовых сборов. Однако эта норма продержалась недолго: МВД нуждалось в цифрах валового и чистого сборов, чтобы вести учет обеспеченности хлебом населения губерний. Поэтому в протоколах Комиссий народного продовольствия начала 1830-х гг. снова появляются размеры и посевов, и урожаев в четвертях, а с конца 1830-х гг. цифры валового урожая стоят и в губернаторских отчетах, как это было до 1822 г. Очевидно, урожай вычислялся умножением посева на урожайность. Важно, что закон 1822 г. санкционировал выборочный метод для вычисления урожайности.
Далее, в законе фиксировался порядок передачи сведений с мест губернатору. Согласно пункту 22 распоряжений Сената сведения о помещичьих имениях и селениях вольных хлебопашцев должны подавать уездные предводители дворянства губернскому предводителю, который, в свою очередь, пересылал их губернатору; сведения о селениях казенных должны присылать губернатору Казенные палаты, а об удельных - Удельные конторы62. Тем самым сбор данных распределялся по ведомственной принадлежности трех основных категорий земель. Вероятно, такой принцип пытались закрепить в законе и раньше. Так, А.Ф. Фортунатов обращал внимание, что еще «в 1775 г. урожаи государственных и дворцовых крестьян поручены регистрации вновь учрежденных директоров экономии при казенных палатах»63. Предводители дворянства в контексте урожайной статистики появились в законе 1822 г. впервые. Уездные предводители становились председателями уездных Комиссий народного продовольствия, а губернский предводитель был членом губернской Комиссии. То есть они по должности обязывались быть в курсе урожайных данных. Но как они могли собирать сведения по селениям/ имениям своих уездов, если не имели никакого административного аппарата? И какова теперь была роль нижних земских судов, которые с 1782 г. составляли ведомости об урожае по уездам?
Нижний земский суд упоминался в распоряжениях Сената 1822
г, но его роль была прописана невнятно. Так, пункт 14 гласил, что Удельные конторы и Казенные палаты должны получать сведения «посредством сельских правлений». Но, как указывалось в пункте 9, поскольку палаты «не могут действовать на казенных крестьян иначе как посредством земских полиций», им предоставлялось право обращаться по «вопросам продовольствия» непосредственно к земским судам64. Так как земские суды им не были подчинены, пункт 10 гласил, что губернские правления должны предписать земским судам «выполнять беспрекословно и немедленно все требования Казенных палат в отношении к продовольствию»65. Это наводит на мысль, что сбор сведений по волостным правлениям государственных крестьян мог быть поручен аппарату земских судов. По-видимому, так было и раньше, ибо иначе трудно объяснить, почему все известные нам сегодня ведомости об урожаях в уездах были составлены нижними земскими судами, если с 1775 г. учитывать урожаи в казенных селениях должны были казенные палаты.
Пункт 23 расплывчатой формулировкой обязывал земских исправников и нижние земские суды «доносить начальникам губерний вообще о всем том, что дойдет до их сведения или усмотрено будет во время пребывания их в уездах в отношении посева, произрастания урожая или повреждения хлеба и трав от физических причин»66. Это можно трактовать и в узком смысле, как обязанность рапортовать о состоянии хлебов и трав в течение лета, так и расширительно, как обязанность собирать все урожайные сведения.
В связи со сбором урожайных данных по частновладельческим имениям нижний земский суд в законе не упоминался. Его реальная роль выясняется при обращении к материалам региональных архивов. Например, Рязанский губернатор в 1833 г. направлял распоряжения о присылке сведений об урожае одновременно и уездным предводителям дворянства, и земским исправникам67. В ответных донесениях уездные предводители могли сообщать, что не имеют достоверных сведений, либо прямо ссылались на сведения, полученные от земских судов68. Такая ситуация сохранялась и позже. В 1843 г. к Рязанскому губернатору ведомости об урожае поступали из всех уездов параллельно и от предводителей дворянства, и от земских судов, цифры в них были идентичны, а один из предводителей (Данковского уезда) оправдывался перед губернатором за задержку своего донесения тем, что не получил вовремя сведения из земского суда69. Следовательно, за сведениями уездных предводителей дворянства стояли сведения земских судов, и реальная практика не соответствовала букве закона 1822 г.
Эта практика была закреплена в «Положении о земской полиции» и «Наказе чинам и служителям земской полиции» 1837 г. Среди многочисленных функций земского суда (§ 30 «Положения») пунктом 32 значилось: «Составление ведомостей о посевах и урожаях хлеба, трав»70. В это время уезды были разделены на станы, стано- вые приставы являлись членами земских судов. Среди обязанностей станового пристава (§ 64 «Положения») в пункте 26 читаем: «Представление земскому суду составляемых волостными, удельными и вотчинными управлениями ведомостей о посевах и урожае»71.
Таким образом, аппарат земского суда, низовым звеном которого с 1837 г. были становые приставы, продолжал заниматься сбором сведений о посевах и урожаях на землях всех категорий в границах уезда, получая их и от волостных правлений (то есть по селениям государственных крестьян), и от вотчинных управлений (то есть из помещичьих имений - по крепостной деревне), и от сельских администраций удельных крестьян. Согласно § 65, земский суд сводил полученные от приставов сведения, имея право вносить «исправления и добавления», и представлял их губернскому начальству72. Соответственно, «Наказ чинам» (§ 36) предписывал: «Земский суд, получая через становых приставов от волостных и других сельских управлений сведения о посеве и урожае хлеба,... доставляет оные благовременно, в надлежащем порядке, в Комиссию продовольствия и в Казенную палату»73. Эти законоположения подтверждают, что Казенные палаты и, возможно, Удельные конторы служили лишь передаточными звеньями, подававшими губернатору от своего имени урожайные сведения, собранные для них на местах земскими судами.
* * *
Законы 1822 г. установили процедуру сводки и передачи урожайных сведений из губернии в правительство. Губернатор, как председатель Комиссии народного продовольствия, получив осенью сведения об урожае, должен был передать их Комиссии, в которой на итоговом заседании составлялся протокол (постановление), отражающий положение с урожаем и продовольственными запасами губернии. К протоколу прилагалась ведомость о посеве и урожае, наряду с ведомостями о хлебных запасах и ценах. Указ от 14 апреля 1822 г. (пункт 29) требовал присылать в МВД только отчет о хлебных запасах74, но распоряжения Сената от 30 апреля 1822 г. добавляли (пункт 27): «Сверх того гражданские губернаторы из сведений о посеве и урожае составляют общую ведомость и представляют оную» в МВД75. Позднейший «Сборник циркуляров и инструкций Министерства внутренних дел» позволяет уточнить, что ведомость об урожае губернаторы должны были присылать к 1 или 15 февраля будущего года (дата менялась в разные годы), но при этом они были обязаны также присылать в министерство копии осенних протоколов своих Комиссий народного продовольствия, и установленным для этого сроком было 1 ноября текущего года76.
В МВД должен был поступать и годовой отчет губернатора, в котором, исключая ряд лет 1830-х гг, также предусматривались све- дения об урожае. Получалось, что губернатор сообщал об урожае в министерство, минимум, дважды, а с 1840-х гг. трижды: осенью (как председатель Комиссии народного продовольствия) и дважды в феврале нового года (как начальник губернии). О том, что сведения Комиссии, февральская ведомость об урожае и ведомость об урожае в составе губернаторского отчета - это три разных документа, свидетельствуют статьи «Устава о народном продовольствии» издания 1842 г. В нем отдельно говорилось о сведениях для Комиссии продовольствия (ст. 260, 261), о февральской ведомости (ст. 262) и далее: «Независимо от сего гражданские губернаторы обязаны... помещать сведения о состоянии урожая в общем годовом отчете, представляемом Императорскому величеству» (ст. 263)77.
Редкий случай - ссылку в губернаторском отчете на ранее посланные сведения об урожае того же года - находим в отчете Полтавского губернатора за 1848 г, который посчитал нужным предупредить начальство о расхождении сообщаемых цифр. Примечание к ведомости №21, составленной, как и весь отчет, в феврале 1849 г, гласило, что цифры здесь отличаются «против сведения, доставленного из губернской Комиссии народного продовольствия в Министерство внутренних дел от 29 октября 1848 года... потому, что количество это не было допоказано в доставленных в Комиссию в октябре месяце прошлого года... ведомостях»78. Следовательно, нормой было дублирование итоговых цифр урожая во всех трех документах, а отклонение требовало от губернатора объяснения.
В чем же заключался смысл сообщать сведения трижды? Во-первых, это давало возможность их корректировки, как в приведенном выше примере. Во-вторых, эти ведомости имели разные формы. Сохранившиеся в региональных архивах осенние протоколы Комиссий народного продовольствия 1840 - 1850-х гг. несут более полную и подробную информацию, чем соответствующие ведомости № 21 в губернаторских отчетах, в частности сообщают поуездную разбивку урожаев и численность населения. Февральские ведомости для МВД не найдены, вероятно, они, как и другие срочные донесения губернаторов, не подлежали хранению, и мы знаем о них только из упоминаний в циркулярах МВД.
Существование в этот период разных форм документов с данными об урожаях вызывало путаницу у исследователей. Так, А.С. Нифонтов отождествлял февральскую ведомость с ведомостью об урожае в губернаторском отчете, полагая, что в них губернатор сообщал урожай по всей губернии, а в осенних ведомостях для Комиссии народного продовольствия - только на землях, подведомственных МВД79. В действительности в ведомостях при осенних протоколах Комиссий всегда фиксировались данные по всем категориям земель в губернии, также и в губернаторском отчете, а вот в февральской ведомости с 1845 г. губернаторы показывали только урожай на землях, подведомственных МВД80. С 1854 г. присылка февральской ве- домости была отменена, МВД, помимо копии отчета, требовало от губернаторов только ведомость к протоколу Комиссии, формуляр которой был унифицирован: все сведения надо было давать по уездам, а внутри уездов - по подведомственности земель (МВД, Министерство государственных имуществ, прочие)81.
* * *
Реформа государственной деревни 1838-1841 гг. сделала государственные земли и казенных крестьян подведомственными новому министерству - государственных имуществ. В ведении МВД оставались частновладельческие (помещичьи) земли и селения крепостных крестьян. Для урожайной статистики это означало еще одну попытку правительства разделить сбор сведений по землям разной принадлежности.
Согласно «Учреждению о управлении государственными иму-ществами в губерниях» от 30 апреля 1838 г, сбор урожайных сведений по селениям казенных крестьян теперь переходил в обязанность начальников округов государственных имуществ82, границы же округов могли не совпадать с границами уездов, включая иногда 2-3 уезда. Закон гласил: «Окружной начальник руководствует волостные и сельские начальства... в составлении ведомостей... о посеве и урожае хлеба и трав,... наблюдает, чтобы ведомости сии были представлены к нему благовременно...; по поступлении ведомостей поверяет оные собственными сведениями и соображениями и, оставив у себя копии, представляет немедленно подлинные в Палату государственных имуществ»83. Палата, в свою очередь, сообщает «гражданскому губернатору сведения о посеве и урожае хлеба и трав в казенных селениях»84 или, в другом месте: «Сообщает в Комиссию народного продовольствия ведомости о посеве, всходах и урожае хлебов и трав»85. Таким образом, сбор и сводка урожайных сведений по государственной деревне, которыми раньше занимались становые приставы и земские суды, теперь возлагались законом на окружных начальников. Однако губернатор, как председатель Комиссии народного продовольствия, по-прежнему получал эти сведения для подведения общих итогов по губернии.
С 1842 г. в губернаторских отчетах в ведомости №21 данные об урожае фигурировали с обязательной разбивкой по категориям земель: 1) по помещичьим имениям; 2) у государственных крестьян и, если были другие категории, - отдельно по ним. Тогда же МГИ завело собственный учет урожаев на подведомственных землях в масштабе всей страны. По «Положению об обеспечении продовольствием государственных крестьян» от 16 марта 1842 г. (ст. 25) губернские Палаты государственных имуществ были обязаны пересылать в МГИ все те же сведения, которые законом 1822 г. были установлены для Комиссий продовольствия, лишь слово «уезд» было 22
заменено на «округ»: о посеве озимых - в ноябре; о посеве яровых -15 мая -15 июля (по срокам посева разных культур); «благонадежен ли урожай хлеба... и каковы травы на сенокосах» - в течение лета; об урожае - в октябре, в «самах», «принимая в соображение среднее количество из умолота в нескольких селениях каждого округа»86. Итоговые цифры урожаев на казенных землях по губерниям с 1843 по 1856 г. публиковались в ведомственном «Журнале Министерства государственных имуществ».
В связи с этим А.С. Нифонтов полагал, что получение данных об урожае в одних и тех же губерниях из разных источников для разных земель позволяет историкам проводить сравнение урожайности на государственных и помещичьих землях. Степень близости их значений может служить показателем достоверности всей урожайной статистики, тогда как значительные расхождения говорили бы о ее недоброкачественности87.
Материалы региональных архивов заставляют отнестись к этому вопросу с осторожностью. Так, канцелярия Рязанского губернатора в 1843 г. действительно получала от предводителей дворянства и от земских судов ведомости об урожаях в уездах только по помещичьим землям; данные по государственной деревне губернатор получил в сводном виде от Палаты государственных имуществ88. Но если обратиться к документам земских судов тех лет, то мы находим ведомость, составленную приставом 1-го стана Сапожковского уезда Рязанской губернии за 1842 г, в которой даны сведения по землям и помещичьим, и казенным (раздельно)89. Это значит, что приставы и земский суд продолжали собирать сведения об урожае по всем категориям земель в своем уезде, разделяя их, очевидно, для разных своих донесений: одного донесения - уездному предводителю (и губернатору), другого - окружному начальнику (и Палате государственных имуществ). Характерно также предписание, которым Рязанский губернатор в 1846 г. затребовал урожайные сведения у земских судов. Суды извещались, что сведения уже запрошены от уездных предводителей дворянства, управляющего Палатой государственных имуществ и Скопинского коннозаводского округа (имевшего особую ведомственную принадлежность), и тут же: «Предписать и земским судам, чтобы и они доставили в Комиссию [продовольствия] все вышеозначенные сведения и от себя»90. Очевидно, доставить эти сведения губернатору «от себя» земские суды могли только если именно они их и собирали.
Вопрос нуждается в дальнейшем исследовании на материалах других региональных архивов, поскольку если такая ситуация существовала не в одной губернии, а повсеместно, то надо будет признать, что раздельный сбор сведений об урожае разными органами по землям и селениям разных категорий в действительности так и не заработал.
* * *
Несмотря на то, что продовольственное дело в государственной деревне было передано в МГИ, МВД оставалось центром сбора информации об урожаях весь XIX в. Именно МВД отвечало за «попечение о народном продовольствии в государстве», как было определено при создании министерств в 1802 г. и затем закреплено в первой статье «Устава о народном продовольствии» XIII тома Свода законов в его редакциях 1832, 1842, 1857 гг. Ведомости о посевах и урожаях рассматривались как разновидность делопроизводственной документации МВД. Они выступали в комплексе с ведомостями о состоянии хлебных запасов и денежных продовольственных капиталов, а также о ценах на хлеб.
Кроме этих сведений для мониторинга продовольственной ситуации и перспектив грядущего урожая использовались уже упоминавшиеся весенне-летние донесения «о всходе озими и произрастании хлебов». Когда впервые правительство установило такого рода документы, мы не знаем. Самое ранее упоминание о них в законодательстве - это павловский указ от 9 января 1800 г.91 Однако в Тюменском областном архиве сохранился указ, датированный маем 1767 г, присланный из Сибирской губернской канцелярии в Тюменскую воеводскую канцелярию, которым требовалось «в начале каждого месяца» получать из станов ведомости о состоянии всходов; в том же деле содержится несколько ответных рапортов от сотских и выборных по станам с краткими словесными характеристиками озимых и яровых хлебов на полях и погоды92. Маловероятно, что такая мера была местной инициативой, но соответствующего всероссийского указа нами не найдено.
«Сборник циркуляров и инструкций Министерства внутренних дел» упоминает летние донесения губернаторов «о произрастании хлеба и трав» как существовавшие до 1822 г. на основании предписания Министерства полиции93. После 1822 г. их присылка в центр отменялась, поскольку их замкнули на губернские Комиссии народного продовольствия. Однако уже в 1831 г. их присылку в МВД восстановили раз в две недели, и сверх того потребовали от губернаторов прислать донесения о предварительных итогах урожая: «Благоприятствовало ли время жатве и уборке хлеба, обилен ли, или скуден урожай по пробным замолотам, каков в сравнении с прошлогодним и может ли обеспечивать продовольствие»94. Возможно, донесение о предварительных итогах в 1830-е гг. потребовалось, чтобы компенсировать участившиеся задержки с составлением и присылкой полных итогов в протоколах Комиссий народного продовольствия на фоне серии больших неурожаев. В 1837, 1839 и 1841 гг. это требование подтверждалось. В 1842 г. присылку двухнедельных рапортов «о всходе и произрастании» зафиксировала вторая редакция «Устава о народном продовольствии»95. В 1844 г. присылку отменили, в 1845
г. восстановили, а в 1847 и 1850 гг. губернаторам предписали присылать в МВД сведения «о произрастании озимых и яровых хлебов и трав» в течение весны-лета уже еженедельно96. Повторение говорит о том, что указание исполнялось плохо, но правительство настаивало на исполнении. Летние периодические рапорты за отдельные годы первой половины XIX в. встречаются в фондах местных архивов, эти документы еще ждут своего исследователя.
* * *
Подведем итоги.
Известный комплекс документов, содержащих статистику урожаев в губерниях России конца XVIII - первой половины XIX вв., возник как результат целенаправленной деятельности правительства по мониторингу продовольственного положения населения с целью предотвращения последствий неурожаев и голода. Систематический сбор урожайных сведений складывался постепенно, начиная с указов 1723 г. Указом от 3 декабря 1760 г. была установлена обязанность сельской или вотчинной администрации ежегодно в октябре, одновременно со взносом второй половины подушной подати, подавать сведения о размерах посевов и урожаев по крестьянским селениям и помещичьим имениям в виде записок или рапортов. Эта обязанность сохранялась до конца изучаемого нами периода, но если первоначально закон предполагал принцип поголовного опроса, то реформа продовольственного дела 1822 г. узаконила выборочный принцип вычисления урожайности по нескольким селениям каждого уезда. В отсутствие специальных статистических органов обязанность по сбору и подытоживанию данных по уезду возлагалась с 1782 г. на нижние земские суды - уездную администрацию или, в терминах камерализма, полицию.
Спор советских историков о том, собирали ли сведения об урожае землемеры, проводившие работы по Генеральному межеванию97, выглядит сегодня безосновательным. Не подтвердились и сомнения историков в существовании первичных данных (в записках и рапортах) об урожаях по имениям и селениям98. Также необоснованным видится стремление советской историографии связать появление урожайной статистики в XVIII в. с развитием рыночных отношений99. Целью правительства был именно контроль над объемом продовольственных ресурсов страны с ее аграрной экономикой, низкой производительностью земледелия и высокой волатильностью урожайности, когда каждый неурожай грозил голодом более или менее значительной части населения.
Итоговые ведомости по губерниям в виде срочных донесений пересылались в то ведомство, которому было поручено контролировать состояние «народного продовольствия»: изначально в Камер-коллегию, позднее в Сенат, с 1782 г. - на высочайшее имя и в Сенат, с 1802 г. - в Министерство внутренних дел, на период выделения из него Министерства полиции (1810-1819 гг.) - в это министерство, с 1842 г. сведения по казенным селениям одновременно пересылались в Министерство государственных имуществ. В 1780-1790-е гг. эти сведения подавались генерал-губернаторами, с рубежа XVIII-XIX вв. - гражданскими губернаторами, с 1822 г. они содержались в протоколах (постановлениях) Комиссий народного продовольствия, которые пересылались в МВД гражданскими губернаторами, являвшимися по должности председателями этих Комиссий. Нормативным сроком пересылки сведений об урожае в правительство устанавливался октябрь или ноябрь. Урожайная статистика не имела отношения к системе годовых губернаторских отчетов. Ведомости «о посеве и урожае» в составе отчетов первоначально являлись копиями тех ведомостей, которые отправлялись срочными донесениями, позднее - их сокращенными вариантами.
В историографии, как нам представляется, недооценивается степень заинтересованности верховной власти России XVIII-XIX вв. в получении сведений об урожае. При этом в дискуссии о достоверности цифр следует учитывать функциональное назначение этих сведений, которые не предназначались для измерения производительности сельского хозяйства или экономического роста. Они были призваны ответить на вопросы: в каких губерниях существует избыток хлеба, а в каких его недостаток, достаточно или недостаточно хлеба в данном году для продовольствия населения, требуется или нет вмешательство властей? Если величина урожая признавалась нормальной и достаточной, точность цифр не имела принципиального значения; внимание привлекали отклонения от нормального уровня.
По своему назначению и по способу сбора данных губернаторские сведения мало соответствуют современным критериям статистики и было бы более правильным называть их протостатистикой. При их использовании в историко-экономических исследованиях на переднем плане должны стоять не столько вопросы точности абсолютных значений, сколько сопоставимости в динамике и по регионам.
Список литературы Становление государственной системы сбора сведений об урожаях в России (XVIII - первая половина XIX веков)
- Улащик Н.Н. Отчеты губернаторов Литвы и Западной Белоруссии как исторический источник (1804 - 1861 гг.) // Проблемы источниковедения. Т. IX. Москва, 1961. С. 16.
- Нифонтов А.С. Статистика урожаев в России XIX в. // Исторические записки. Т. 81. Москва, 1968. С. 216-228; Нифонтов А.С. Зерновое производство России во второй половине XIX в.: По материалам ежегодной статистики урожаев Европейской России. Москва, 1974. С. 16-34.
- Яцунский В.К. О применении статистического метода в исторической науке // Исследования по отечественному источниковедению: Сборник статей. Москва; Ленинград, 1964. С. 26-36; Яцунский В.К. Социально-экономическая история России XVIII - XIX вв. Избранные труды. Москва, 1973. С. 268-297; ЛитвакБ.Г. О достоверности сведений губернаторских отчетов XIX в. // Источниковедение отечественной истории: Сборник статей, 1976. Москва, 1977. С. 125-144; Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX - начала XX в. Москва, 1979. С. 161-186, 198-205; Хок С.Л. Крепостное право и социальный контроль в России: Петровское, село Тамбовской губернии. Москва, 1993. С. 32-37.
- Рянский Л.М. Источниковедческий анализ - фундамент исторического исследования // Вопросы истории. 2011. № 5. С. 121-126; Нефедов С.А. К дискуссии об уровне жизни крепостных крестьян в середине XIX в. // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2012. Т. 104. № 3. С. 284-291; Рянский Л.М. К вопросу о благосостоянии частновладельческих крестьян в середине XIX века (ответ С.А. Нефедову) // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2015. № 4 (17). С. 145-154.
- [Каблуков Н.А.] Сжатый очерк истории русского законодательства по обеспечению народного продовольствия // Сборник статистических сведений по Московской губернии. Т. 10: Продовольственное дело. Вып. 1. Москва, 1891. С. 8; ФортунатовА.Ф. Урожаи ржи в Европейской России. Москва, 1893. С. 8; Котельников А.Н. К вопросу о статистике урожаев в России. Санкт-Петербург, 1901. С. 5.
- Рубинштейн Н.Л. Некоторые вопросы сельскохозяйственной статистики XVIII в. // Вопросы истории сельского хозяйства, крестьянства и революционного движения в России: Сборник статей к 75-летию академика Н.М. Дружинина. Москва, 1961. С. 83-84.
- Яцунский В.К. О применении статистического метода в исторической науке // Исследования по отечественному источниковедению: Сборник статей, посвященных 75-летию профессора С.Н. Валка. Москва; Ленинград, 1964. С. 31.
- Улащик Н.Н. Отчеты губернаторов Литвы и Западной Белоруссии как исторический источник (1804 - 1861 гг.) // Проблемы источниковедения. Т. IX. Москва, 1961. С. 18;МинаковА.С. Губернаторский корпус и центральная власть: проблема взаимоотношений. Орел, 2011. С. 197.
- Рубинштейн Н.Л. Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в. (Историко-экономический очерк). Москва, 1957. С. 444-451.
- Ковальченко И.Д. Динамика уровня земледельческого производства России в первой половине XIX в. // История СССР. 1959. № 1. С. 63-65.
- Отчет министра внутренних дел за 1803 год. Санкт-Петербург, 1804. Приложение 3; Табели к отчету министра внутренних дел за 1804 год. Санкт-Петербург, 1806.
- Сивков К.В. Некоторые итоги зернового производства в Европейской России на рубеже XVIII - XIX вв. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы, 1958. Таллин, 1959. С. 27.
- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1341. Оп. 1. Д. 368. Л. 3-3об.
- Дятлова Н.П. Отчеты губернаторов как исторический источник // Проблемы архивоведения и источниковедения: Материалы научной конференции архивистов Ленинграда. Москва, 1964. С. 227-246.
- РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 574 Б, 699, 797.
- РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 621. Л. 337-355.
- Полное собрание законов Российской империи: Собрание 1-е (ПСЗРИ-1). Т. VII. № 4168.
- ПСЗРИ-1. Т. VII. № 4175.
- ПСЗРИ-1. Т. V. № 3466.
- Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 9. Москва, 1993. С. 475-476.
- ПСЗРИ-1. Т. VII. № 4272.
- [КаблуковН.А.] Сжатый очерк истории русского законодательства по обеспечению народного продовольствия // Сборник статистических сведений по Московской губернии. Т. 10: Продовольственное дело. Вып. 1. Москва, 1891. С. 8; ФортунатовА.Ф. Урожаи ржи в Европейской России. Москва, 1893. С. 8.
- ПСЗРИ-1. Т. IX. № 6859.
- ПСЗРИ-1. Т. XV. № 11093.
- ПСЗРИ-1. Т. XV. № 11093.
- ПСЗРИ-1. Т. XV. № 11093.
- Индова Е.И. Урожаи в Центральной России за 150 лет (вторая половина XVII - XVIII вв.) // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы, 1965. Москва, 1970. С. 144.
- ПСЗРИ-1. Т. XV. № 11093.
- ПСЗРИ-1. Т. XV. № 11153.
- ПСЗРИ-1. Т. XV. № 11153.
- ПСЗРИ-1. Т. XVII. № 12545.
- ПСЗРИ-1. Т. XVII. № 12545.
- ПСЗРИ-1. Т. XVII. № 12545.
- Расков Д.Е. Камерализм книг: переводы Юсти в России XVIII века // Terra Economicus. 2019. Т. 17. № 4. С. 62-79.
- Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 248. Оп. 42. Д. 3724. Л. 337об.
- РГАДА. Ф. 248. Оп. 42. Д. 3724. Л. 338.
- РГАДА. Ф. 248. Оп. 42. Д. 3724. Л. 338об.
- РГАДА. Ф. 248. Оп. 42. Д. 3724. Л. 339об.
- Индова Е.И. Урожаи в Центральной России за 150 лет (вторая половина XVII - XVIII вв.) // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы, 1965. Москва, 1970. С. 144.
- Рубинштейн Н.Л. Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в. (Историко-экономический очерк). Москва, 1957. С. 363-371.
- Государственный архив Тюменской области (ГАТО). Ф. И-47. Оп. 1. Д. 4228. Л. 1-11, 27-28, 41-44, 53-57.
- ПСЗРИ-1. Т. XX. № 14332.
- РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 383. Л. 47.
- ПСЗРИ-1. Т. XXII. № 16665.
- Индова Е.И. Урожаи в Центральной России за 150 лет (вторая половина XVII - XVIII вв.) // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы, 1965. Москва, 1970. С. 144; Рубинштейн Н.Л. Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в. (Историко-экономический очерк). Москва, 1957. С. 363-371.
- РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 383. Л. 54-92.
- РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 111. Д. 59045. Л. 3.
- ПСЗРИ-1. Т. XX. № 14392.
- РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 111. Д. 59579.
- ПСЗРИ-1. Т. XXVI. № 19242.
- Улащик Н.Н. Отчеты губернаторов Литвы и Западной Белоруссии как исторический источник (1804 - 1861 гг.) // Проблемы источниковедения. Т. IX. Москва, 1961. С. 16.
- ПСЗРИ-1. Т. XXVI. № 19323.
- Доклад министра внутренних дел, с предоставлением отчета с учреждения министерства за последние четыре месяца 1802 г. // Санкт-Петербургский журнал. 1804. № 1. С. 31.
- Доклад министра внутренних дел, с предоставлением отчета с учреждения министерства за последние четыре месяца 1802 г. // Санкт-Петербургский журнал. 1804. № 1. С. 33.
- Кузнецов И.А. Урожайная статистика в России первой половины XIX века: проблема первичных данных // Крестьяноведение. 2022. Т. 7. № 3. С. 35-54.
- Сборник циркуляров и инструкций Министерства внутренних дел с учреждения Министерства по 1 октября 1853 г. Т. 6. Санкт-Петербург, 1857.С. 13.
- РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 621. Л. 652об.
- ПСЗРИ-1. Т. XXXVIII. № 29000.
- ПСЗРИ-1. Т. XXXVIII. № 29025.
- Шафранов П.А. Неурожаи хлебов в России и продовольствие населения в 20-х годах настоящего столетия // Русское богатство. 1898. № 5. С. 98-110.
- ПСЗРИ-1. Т. XXXVIII. № 29025.
- ПСЗРИ-1. Т. XXXVIII. № 29025.
- ФортунатовА.Ф. Урожаи ржи в Европейской России. Москва, 1893. С. 8.
- ПСЗРИ-1. Т. XXXVIII. № 29025.
- ПСЗРИ-1. Т. XXXVIII. № 29025.
- ПСЗРИ-1. Т. XXXVIII. № 29025.
- Государственный архив Рязанской области (ГАРО). Ф. 5. Оп. 1. Д. 1501.Л. 25.
- ГАРО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1501. Л. 167.
- ГАРО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 3249. Л. 81.
- Полное собрание законов Российской империи: Собрание 2-е (ПСЗРИ-2). Т. XII. Ч. 1. № 10305.
- ПСЗРИ-2. Т. XII. Ч. 1. № 10305.
- ПСЗРИ-2. Т. XII. Ч. 1. № 10305.
- ПСЗРИ-2. Т. XII. Ч. 1. № 10306.
- ПСЗРИ-1. Т. XXXVIII. № 29000.
- ПСЗРИ-1. Т. XXXVIII. № 29025.
- Сборник циркуляров и инструкций Министерства внутренних дел с учреждения Министерства по 1 октября 1853 г. Т. 6. Санкт-Петербург, 1857.С. 13.
- Свод законов Российской империи (СЗРИ). Т. XIII. Санкт-Петербург, 1842. С. 39.
- РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2017. Л. 1340.
- Нифонтов А.С. Зерновое производство России во второй половине XIX в.: По материалам ежегодной статистики урожаев Европейской России. Москва, 1974. С. 48.
- Сборник циркуляров и инструкций Министерства внутренних дел с учреждения Министерства по 1 октября 1853 г. Т. 6. Санкт-Петербург, 1857.С. 19.
- Материалы по вопросу о обеспечении продовольствия. Ч. 3: Руководства, наставления и проекты. Санкт-Петербург, 1860. 1 пагинация. С. 64-65, 72-73.
- ПСЗРИ-2. Т. XIII. Ч. 1. № 11189. С. 493.
- ПСЗРИ-2. Т. XIII. Ч. 1. № 11189. С. 517.
- ПСЗРИ-2. Т. XIII. Ч. 1. № 11189. С. 411, 412.
- ПСЗРИ-2. Т. XIII. Ч. 1. № 11189. С. 434.
- ПСЗРИ-2. Т. XVII. № 15386.
- Нифонтов А.С. Зерновое производство России во второй половине XIX в.: По материалам ежегодной статистики урожаев Европейской России. Москва, 1974. С. 70-78.
- ГАРО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 3249.
- ГАРО. Ф. 759. Оп. 1. Д. 25. Л. 30об., 36.
- Центральный государственный архив Москвы. Отдел хранения документов до 1917 г. Ф. 1967. Оп. 1. Д. 25. Л. 195.
- ПСЗРИ-1. Т. XXVI. № 19242.
- ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 4228. Л. 61, 67-68.
- Сборник циркуляров и инструкций Министерства внутренних дел с учреждения Министерства по 1 октября 1853 г. Т. 6. Санкт-Петербург, 1857.С. 13.
- Сборник циркуляров и инструкций Министерства внутренних дел с учреждения Министерства по 1 октября 1853 г. Т. 6. Санкт-Петербург, 1857. С. 16.
- СЗРИ. Т. XIII. Санкт-Петербург, 1842. С. 39.
- Сборник циркуляров и инструкций Министерства внутренних дел с учреждения Министерства по 1 октября 1853 г. Т. 6. Санкт-Петербург, 1857. С. 20.
- Рубинштейн Н.Л. Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в. (Историко-экономический очерк). Москва, 1957. С. 327; Яцунский B.К. О применении статистического метода в исторической науке // Исследования по отечественному источниковедению: Сборник статей, посвященных 75-летию профессора С.Н. Валка. Москва; Ленинград, 1964. C. 33, 34.
- Кузнецов И.А. Урожайная статистика в России первой половины XIX века: проблема первичных данных // Крестьяноведение. 2022. Т. 7. № 3. С. 35-54.
- Индова Е.И. Урожаи в Центральной России за 150 лет (вторая половина XVII - XVIII вв.) // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы, 1965. Москва, 1970. С. 145; РубинштейнН.Л. Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в. (Историко-экономический очерк). Москва, 1957. С. 372.