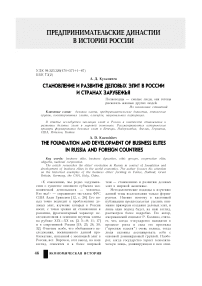Становление и развитие деловых элит в России и странах зарубежья
Автор: Кузьмичев Андрей Дмитриевич
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Предпринимательские династии в истории России
Статья в выпуске: 1 (8), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется эволюция элит в России в контексте становления и развития деловых элит в мировой экономике. Рассматриваются исторические примеры формирования деловых элит в Венеции, Нидерландах, Англии, Германии, США, Италии, Китае.
Деловая элита, предпринимательские династии, этнические группы, кооптированная элита, олигархи, национальная корпорация
Короткий адрес: https://sciup.org/14723526
IDR: 14723526 | УДК: 94:323.326(470+571+1-87)
Текст научной статьи Становление и развитие деловых элит в России и странах зарубежья
The article researches the elites’ revolution in Russia in context of foundation and development of business elites in the world economics. The author focuses his attention on the historical examples of the business elites’ forming in Venice, Holland, Great Britain, Germany, the USA, Italy, China.
«К сожалению, мы редко задумываемся о существе основного субъекта экономической деятельности — человека. Кто мы?» — спрашивает экс-глава ФРС США Алан Гринспен [12, с. 26]. Его посыл точно подходит к проблематике деловых элит, изучение которых в России носит, с точки зрения их становления и развития, фрагментарный характер: исследователями в основном изучены элиты на рубеже XIX—XX вв. [3; 5—8; 11; 17] и в современной России [15; 23; 24; 30; 32]. Отметим особо, что обобщенного исследования, посвященного данной проблематике, связанной с эволюцией элит в России, нет. Впрочем, этот вывод, на наш взгляд, относится и к более широкой теме — становлению и развитию деловых элит в мировой экономике.
Методологические подходы к изучению данной темы исследования только формируются. Именно поэтому в настоящей публикации предполагается уделить внимание примерам создания деловых элит, и лишь один подход будет, на наш взгляд, рассмотрен более подробно. Его автор, американский социолог Р. Коллинз, считает, что, когда «государство находится в процессе роста и сила его престижа (“престиж власти”) очень велика, тогда люди склонны ассоциировать себя с основной доминирующей группой. Наоборот, когда государство теряет геополитическую мощь, доминирующая в нем этни- ческая группа становится “нелегитимной” — данная идентичность становится негативной, и все стараются отказываться от нее и индентифицировать себя с другими оппозиционными этническими группами». В качестве обоснования своей методологической посылки Коллинз пишет: «В течение долгого времени Китай был политически и экономически изолирован от остального мира. Кто бы ни объединял центральную часть Китая, в сопредельном мире не могло быть никого могущественнее его. Тогда почему же китайские династии не продолжались вечно? Они падали не потому, что они имели какого-то сильного внешнего врага. То, почему это происходило, является прекрасной иллюстрацией принципа перенапряжения — распространения силы на слишком обширную область, или, как я это называю, “логистическое перерасширение”. Суть принципа перенапряжения в том, что если даже очень могущественное государство хочет распространить свою силу на слишком большую дистанцию, то постепенно это стоит ему все дороже и дороже. В определенный момент автоматически происходит так, что государство использует для этих целей слишком много сил и ресурсов. Держава перенапрягается» [35]. Заменим понятие «этническая группа» деловой элитой, тогда следующая посылка ученого будет более понятна. «Финансы — главное слабое место государства, — отмечает Коллинз, — Когда происходит финансовый кризис, это влечет раскол между элитами: они не могут договориться, какое решение принять в этой ситуации. Как правило, одна группа элиты контролирует экономические ресурсы, а другая — государственную администрацию. Они имеют противоположные интересы и поэтому элита раскалывается. История показывает, что с момента появления государства самым финансово затратным институтом являются его военные силы. Эта тенденция продолжается и в современном государстве, поскольку современные военные силы становятся все более и более дорогими (высокотехнологичные виды оружия значительно дороже, чем вооружения низкотехнологичные)» [35].
Коллинз указывает на то, что в элите только две половинки, что, на наш взгляд, не совсем правомерно. По нашему мнению, военная элита также является самостоятельным субъектом, например, в нынешней светской Турции (чего не скажешь, например, о многовековой ситуации с военной элитой в Швейцарии). Следовательно, нужно уточнить, что в национальном государстве могут быть несколько элит, конкурирующих между собой, как правило, как справедливо указывает Коллинз, за финансы.
Итак, определим несколько субъектов изучения выбранной темы: государство (в том числе и те национальные субъекты — в их числе итальянские города раннего средневековья, республика Нидерланды, средневековая Англия и т. п., которые появились до возникновения национальных государств); деловые и иные элиты; этнические группы и страты общества, из которых формировались эти элиты.
Рассмотрим несколько исторических примеров становления элит.
Венеция
Н. А. Селунская, С. К. Сергеев отмечают, что современные историки продолжают обсуждать проблему генезиса венецианского патрициата. «По мнению одних, этот патрициат сформировался в процессе вовлечения крупных землевладельцев в торговлю; в этом видят близость генуэзскому варианту, — пишут ученые. — Другая точка зрения состоит в том, что элита складывалась из представителей торговых слоев, подобно тому, как это было в городах на севере. Так или иначе, сформировавшийся патрициат состоял из семейств, чьи богатства основывались и на доходах от торговли, и на землевладении. В отличие от флорентийской коммуны, представители ремесленных кругов Венеции никогда не играли роли в политической жизни и не входили в правящую элиту. А с конца XIII в. элита окончательно замкнулась, перестав принимать в свой круг новые, добившиеся успехов в коммерции фамилии» [28, с. 74—75]. Сравним, в связи с этим, историю формирования советов директоров крупных компаний США в XX в. Вот что отмечают авторитетные исследователи
Р. Лебланк и Дж. Гиллис: «По сути, такие критерии, как репутация и знакомства, в нескольких из проанализированных нами советов были важнее для избрания, чем независимость и компетентность. Как и предполагалось, действующие члены советов предпочитали кандидатов из людей своего круга, а не незнакомцев, какими бы компетентными и подходящими те ни были. Как ответил на вопрос о советах один акционер, реально никаких изменений не произошло: сове т— это “группа, элитарная группа, выбирающая себе подобных, словно... это симфония”. Преобладание этих двух критериев — репутация и знакомства — в отборе новых членов означает, что кандидаты по-прежнему происходят из одной социальной, политической, экономической и культурной среды, как и ранее, т. е. среды действующих членов. Поэтому не надо удивляться, что изученные нами советы директоров состояли преимущественно из “пожилых мужчин” со сходными биографиями» [19, с. 128].
Нидерланды
Если взять другой пример, Нидерланды, то и в этой республике деловая элита формировалась сходно, но все же своим путем. Так, исследователь Э. Бааш полагал, что «дух свободы и независимости, свойственный городам и горожанам в средние века, унаследованный голландцами как ценное сокровище прошлого и передававшийся даже чужестранцам, с установлением республики еще больше прежнего укрепился среди влиятельных кругов населения. Этому также способствовало все возраставшее преобладание экономических интересов в жизни народа, что получило особенно яркое выражение в городах, где уже в XVI в. сконцентрировалась значительная часть населения». Более того, по мнению ученого, «государство все более и более принимало характер всеобъемлющей торговой компании, в которую с распростертыми объятиями принимался в качестве участника всякий крупный капиталист». «Если в совете города (Vroedschap) партии временами ожесточенно боролись между собой, то погоня за прибылью объединяла всех их, а сделки примиряли самых ярых врагов, — писал
Э. Бааш. — Быть может, нигде и никогда общественное имущество не использовалось в такой степени господствующим патрициатом в собственных интересах, как именно здесь, в Амстердаме. За упадком торговли последовал также быстрый упадок торговой честности» [1, с. 79, 80, 82].
Англия
В Англии, главном европейском конкуренте Нидерландов, тоже сначала наблюдалась схожая картина складывания деловой элиты. А. М. Барг пишет, что в «результате политики монополий в Лондоне сложилась мощная купеческая олигархия, огромные состояния которой бросались в глаза иноземным наблюдателям. Например, венецианский посол сообщал на родину: “Богатство лондонских граждан очень велико, и многие накопили состояния в 100, 150, 200 тыс. ф. ст., а некоторые даже более 500 тыс. ф. ст.”» [2, с. 100]. Вскоре, уже в ходе промышленной революции, в деловую элиту стали входить промышленники. Например, П. Манту отмечает, что в это время «промышленник оказывается на равной ноге с другими капиталистами — с денежным капиталистом и торговцем». «Он, впрочем, нуждается в них, нуждается в кредите, доставляемом ему одним, и в покупателях, которых обеспечивает ему другой; последнему он доставляет товары, первому — помещение для денег, — поясняет исследователь. — Но он не смешивается ни с одним из них: он имеет свою особую функцию, заключающуюся в организации промышленного производства, свои особенные интересы, на службу которым он сумеет скоро поставить политическую власть». Что интересно, в деловую элиту Англии пытались «прорваться» и крестьяне. «Промышленная революция открыла для не находившей себе приложения энергии новое поприще, и наиболее предприимчивые или удачливые йомены бросились к нему, как завоеватели, — пишет П. Манту. — Разбогатев, многие из них спешили вновь сделаться землевладельцами. Они скупали земли того самого дворянства, которое еще недавно смотрело на них сверху вниз, они устраивали себе дачи из его старых исторических усадеб или же строили себе напротив них барские хоромы, монументы своего недавно нажитого богатства и своей старой гордости» (ну чем не сюжет «Вишневого сада» А. П. Чехова!). В итоге, по мнению исследователя, сложилась особая деловая среда: «капиталист, организатор труда на фабрике и, наконец, коммерсант, притом крупный коммерсант, — промышленник является новым, законченным типом дельца». П. Манту приводит в этой связи мнение Роберта Оуэна, знавшего, по его словам, «хлопковых лордов», судит о большинстве их довольно неблагоприятно: «Вне непосредственного круга их профессиональных занятий познания их были почти равны нулю, идеи их — ограничены» [20, с. 105, 108]. Исследователь отмечает также, что большинство крупных промышленников, живших в одно с ними время думали только о том, как бы разбогатеть. Свои аппетиты выскочек они удовлетворяли в грубых формах. Они пользовались репутацией людей, пьющих без меры и не щадящих добродетели своих работниц. Крайне тщеславные, они жили по-барски, с лакеями, экипажами, роскошными городскими особняками и сельскими усадьбами. Но щедрость их не была пропорциональна роскоши, которую они выставляли напоказ. Из 2 500 ф. ст., собранных в Манчестере в первые годы XIX в. на учреждение воскресных школ, главные прядильные фабриканты округа, на предприятиях которых были заняты 23 тыс. чел., пожертвовали всего 90 ф. ст. [20, с. 112].
Г ермания
Знания, по мнению П. Друкера, стали основой немецкой модели создания элиты, предложенной и осуществленной немецким ученым Гумбольдтом, и доминировавшей в Европе XIX в. «После полного поражения прусской монархии в войне с Наполеоном в 1806 году были парализованы все силы, которые в противном случае попытались бы остановить Гумбольдта, — король, аристократия, военные, — пишет об этом Друкер. — Он воспользовался предоставленной возможностью и основал Берлинский университет, сделав его главным носителем своих политических концепций, и преуспел. Берлинский университет действительно способствовал созданию уникальной политической системы, которую немцы в XIX веке называли “Rechtsstaat” (правовое государство). Полный контроль над политической и военной сферой находился в руках автономной и самоуправляемой элиты государственных служащих и офицеров генерального штаба; автономная и самоуправляемая элита высокообразованных людей (“Die Gebildeten Staende”), сосредоточенная вокруг самоуправляемых университетов, отвечала за “либеральную” культурную сферу; существовала автономная и практически ничем не ограниченная экономика. Такая структура обеспечила Пруссии сначала моральное и культурное, а затем и политическое и экономическое господство в Германии. За этим скоро последовало лидерство в Европе и восторженное отношение за ее пределами, особенно со стороны британцев и американцев, для которых немцы примерно до 1890 года являлись моделью культурного и интеллектуального развития» [14, с. 335].
США
Не все американцы на практике следовали этой модели. «Нефтяная эра в Техасе породила сословие нуворишей, нечто такое, чего мир до сих пор не знал, по крайней мере, в подобных масштабах, — пишут М. Экономидес и Р. Олини. — В Соединенные Штаты, как правило, эмигрировали люди, не принадлежавшие ни к интеллектуальной, ни к финансовой аристократии» [33, с. 23]. По их мнению, «нефть в одночасье сделала владельцев техасских ранчо (людей заведомо необразованных и не имевших общественного положения) богаче самых состоятельных европейских аристократов и немногочисленных представителей верхнего класса, происходящих с востока США» [33, с. 23]. Отметим, что история США содержит несколько примеров «внезапного» становления деловых элит. Например, в конце 1970-х гг., как пишут Б. Бурроу и Д. Хельяр, «когда стали набирать силу агрессивные поглощения, поднялось новое племя инвестиционных дельцов». «Поглощения они называют “сделками”, а главных дельцов — “игроками”. Крупные игроки показывают свои фокусы в нескольких сделках сразу. В любое время, в любой комбинации сделок они могут одновременно сотрудничать и воевать со своими ближайшими друзьями, — отмечают авторы. — Ядро этих бравых ребят составляла элитарная клика из нескольких дюжин руководящих дельцов, которые уже более десяти лет были тесными друзьями-соперниками. Сами себя они называли просто: Группа. Они вместе росли, их карьеры переплетались в сотнях теперь уже забытых коллизий поглощений» [9, с. 216]. Схожий вывод, на наш взгляд, относится к миллионерам и миллиардерам Силиконовой долины.
Приведем также пример формирования элиты в новейшее время. «После объявления независимости Туркменистана поменялись общественные ценности и ориентиры... Туркменистан стал развиваться по законам дикого капитализма,— считает А. Кулиев, автор работы «Туркменская элита — взгляд изнутри». — В области экономики начался процесс интенсивного разрушения существующего производства, разворовывания общественной собственности. В авангард выдвинулась торгово-финансовая, хозяйственная элита, делающая свой капитал на торговле хлопком, газом, нефтью, наркотиками и занимающаяся финансово-хозяйственными махинациями при непосредственной поддержке самого президента. Начался процесс активного выдавливания из жизненного пространства представителей советской элиты, которая в советское время рекрутировалась из компартии. Новая элита создается Ниязовым из числа торговцев, хозяйственников» [18].
Италия
Европейская немецкая модель XIX в. в минувшем веке трансформировалась в европейскую модель корпоративного государства, где все элиты подчинялись одной государственной доктрине. По мнению И. В. Простакова, изучившего экономику Италии в 20—30-х гг. XX в., «воплощением бюрократического произвола и административного принуждения стала система “корпоративных органов”, созданная в соответствии с социально-экономической доктриной фашизма». В ее основе, как полагает исследователь, «ле- жала идея классового сотрудничества между трудом и капиталом в общенациональных интересах: преодоление классовой борьбы представлялось основой бескризисного, сбалансированного экономического развития, условием осуществления централизованного регулирования хозяйственной жизни при участии трудящихся и без ущемления инициатив предпринимателя». В итоге для всех социальных групп общества «консолидация (далеко не всегда мнимая) достигается через жесткую систему репрессий и через определенный набор мер воздействия на массовое сознание, в том числе через пропаганду иррациональных идей (например, верности всеобьемлющей “вечной корпорации” — государству, к чему призывал один из важнейших документов итальянского фашизма — “Хартия труда”)» [26, с. 454, 458].
Конец XX в. дает нам новые примеры становления и развития деловых элит во многих регионах мира. В этой связи сошлемся на мнение авторитетного американского исследователя Ч. Льюиса, руководителя некоммерческой аналитической организации «Центр общественной чистоты» (Center for Public Integrity, CPI). Он, в частности, пишет: «Отцы-основатели принадлежали к влиятельной и богатой элитной группе, все знали, сколько акров земли им принадлежало, сколько тысяч рабов. И именно такая элита правила Америкой. Исторически с 1960-х годов публичное участие в политике нарастало. И даже последние выборы показали, что явка в 60 процентов — это удивительный результат. При этом процесс отделения людей от политики в США идет, и он не связан напрямую с явкой на выборы. Во многих странах мира процессы носят иной характер — элиты отделяют себя от общества. Они уводят свои активы в офшоры, уходят от налогов, не участвуют в общественной жизни. В большинстве стран мира они живут, отгородившись от общества глухой стеной. В 90-х годах в США частная охрана превзошла по численности государственную полицию. Разрыв между богатыми и бедными резко увеличился в течение последних 10—30 лет — да так, что подобного не было ни в 30-х, ни в 80-х» [34]. Но, например, Эрнандо де Сото отмечает, что за пределами «стран Запада капитализм пребывает в кризисе не потому, что проваливается процесс международной глобализации, а потому что развивающиеся и бывшие социалистические страны не смогли “глобализовать” капитал внутри своих стран». Он делает вывод о том, что большинство населения этих стран рассматривают капитализм как частный клуб, как дискриминационную систему, «которая выгодна только Западу и местным элитам, устроившимся под стеклянным колпаком несправедливого закона» [29, с. 209].
Отметим, что в стороне от «западного» процесса формирования элит лежит и Китай, где, по мнению американского исследователя Б. Диксона, происходит процесс «кооптации» деловой элиты в существующую властную верхушку. «Как показывает пример КПК, кооптированная элита может не поддерживать партийные традиции или даже быть несогласной с ними — и в самом деле, технические специалисты и предприниматели, к которым сейчас относятся с известным уважением, раньше считались “классовыми врагами”, — пишет он и уточняет: — Хотя специалисты и предприниматели вряд ли начнут высказывать требования о демократизации реформ, они могут оказаться влиятельными сторонниками других сил как внутри, так и вне партии» [13, с. 174].
В современной России процесс становления и развития деловой элиты так же пошел, на наш взгляд, своим особым путем. О нынешней российской элите сошлемся на мнение Александра Неклессы. По его мнению, в стране за годы реформ так и не сложился нервный узел общества, его мозг, — «национальная корпорация», для которой государство есть инструмент социокультурной реализации, достижения общественно значимых целей. «Российская элита, ориентируясь в практической деятельности на различные системы ценностей и ресурсные базы, не может пока обеспечить внутри страны долгосрочный стратегический консенсус, обозначить долгосрочное целеполагание России и смысл ее бытия в Новом мире», — полагает исследователь [21]. «Принято считать, что богатые люди в теперешней России — сплошь либо бывшие комсомольцы, либо бывшие фарцовщики, либо бывшие бандиты, — пишет известный экономический обозреватель В. Панюшкин. — Так оно, похоже, и есть. Похоже, умирающая советская элита рассудила так: раз уж нельзя без частного предпринимательства и без миллионеров, то пусть уж лучше будут свои, идеологически подкованные и проверенные предприниматели и миллионеры» [22, с. 48—49].
Не пытаясь оспаривать вывод В. Панюшкина, отметим, что многие представители деловой элиты получили богатство практически даром, скупив за бесценок материальные активы страны. Например, О. С. Пчелинцев пишет, что контрольный пакет акций Уралмаша «был продан в ходе приватизации всего за один миллион долларов. Но любая сколько-нибудь масштабная его реконструкция требует средств в сотни раз больших. Но кто же станет тратить сотни миллионов долларов только ради того, чтобы ходить в подручных у г-на К. Бендукидзе, вложившего всего один миллион? Не может теперь проинвестиро-вать “Уралмаш” и государство: ведь это был бы просто подарок частному лицу из кармана налогоплательщиков» [27].
Схожего вывода придерживается Д. Хоффман, автор книги «Олигархи. Богатство и власть в новой России». В интервью «ГазетеДи» он, в частности, отмечает: «Почему ни один известный красный директор советских времен — директор “Уралмаша”, к примеру, — не стал олигархом?» О нынешней элите в России он высказывается в геополитическом контексте: «Проблема всех богатых нефтяных стран в том, что в обществе прогрессирует апатия. У людей появляются новая машина, квартира, и они не хотят ничего менять. Если у вас слишком много богатства, страна засыпает. Нефть — это наркотик» [31].
В условиях постоянного профицита бюджета, а он стремительно нарастал после дефолта 1998 г., к выводу Хоффмана, на наш взгляд, следует отнестись серьезно. О роли нефти в формировании элит в России дает представление, например, коллок- виум «Этнические элиты нефтедобывающих регионов», прошедший в Московском центре Карнеги. На нем, в частности, отмечалось, что в Ханты-Мансийском округе «были попытки со стороны этнических элит создать собственную нефтяную компанию. Однако, опять же таки по разным причинам это не удалось. В настоящий момент основой отношений между этническими элитами и нефтяными компаниями остаются по-прежнему постоянные выплаты компаниями ренты и проведение различных социальных программ». В Башкортостане «нефтяная элита формировалась не по этническому признаку. Эта элита по большей части состоит из бывших студентов Уфимского Университета. Именно сложившиеся в пору студенчества дружественные отношения, а не принадлежность к тому или иному этносу, сыграли свою роль» [36]. Не менее серьезно следует отнестись и к тому, что в России число миллионеров увеличивается более чем вдвое быстрее, чем в среднем по миру: в ежегодном отчете «Мировое благосостояние», составляемом инвестиционным банком Merrill Lynch и компанией Capgemini, отмечено, что в 2008 г. миллионеров (долларовых) в нашей стране насчитывается уже 136 тыс. [10]. Способны ли они, как и деловая элита в целом, обогатить общество?
В этой связи сошлемся на мнение Д. Н. Платонова, который, исследуя наследие И. Т. Посошкова, пишет о том, что «...“изобильное богатство” и отличается от “гобзовитого” тем, что это богатство существующее, произведенное, «в натуре», в отличие от богатства, способного давать приращение, обладающего потенциалом роста и совершенствования» [25, с. 87]. В чем же суть богатства, способного давать приращение? Д. Н. Платонов пишет, что «...“гобзовитое богатство” никак не может быть истолковано как нечто ординарное. Прежде всего, прилагательное “гобзовитое” происходит от старославянских слов “гобза” и “гобзина”, что означает не только “изобилие”, “обилие”, “богатство”, но и “довольство”, “достаток”. Очень близким по значению является слово “гобина”, что означает “богатство” и “изобилие”. Но самое интересное то, что “гобзина” и “гобина” означали еще и “урожай”, а “гобза” (“гомза”) — “скопление денег”, “кошель”, “скарб”. Идея “гобзовитого богатства” — описание разнообразных условий роста “богатства”, но выраженное в достаточно конкретной форме экономической политики» [25, с. 84—85]. Эти слова далеки от «прибыли», «процента» и «рентабельности» [16, с. 394].
Список литературы Становление и развитие деловых элит в России и странах зарубежья
- Бааш, Э. Подъем и упадок хозяйства республики соединенных провинций/Э. Бааш//Экономическая история: хрестоматия. -М.: Изд. дом ГУ -ВШЭ, 2007. -С. 78-84.
- Барг, М. А. Англия -колыбель капитализма/М. А. Барг//Экономическая история: хрестоматия. -М.: Изд. дом ГУ -ВШЭ, 2007. -С. 97-103.
- Барышников, М. Н. Деловой мир России: ист.-биогр. справ./М. Н. Барышников. -СПб.: Искусство; СПб.: Логос, 1998. 446 с.
- Бизнесмены России. 40 историй успеха. -М.: Око, 1994. -415 с.
- Бовыкин, В. И. Зарождение финансового капитала в России/В. И. Бовыкин. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. -295 с.
- Бовыкин, В. И. Формирование финансового капитала в России. Конец XIX -1908 г./В. И. Бовыкин; отв. ред. В. Я. Лаверычев. -М.: Наука, 1984. -287 с.
- Боханов, А. Н. Деловая элита России. 1914 г./А. Н. Боханов. -М.: ИРИ, 1994. -272 с.
- Боханов, А. Н. Крупная буржуазия России (конец XIX в. -1914)/А. Н. Боханов. -М.: Наука, 1992. -260 с.
- Бурроу, Б. Варвары у ворот. История падения RJP Nabisco/Б. Бурроу, Д. Хельяр. -М.: Олимп-Бизнес, 2003. -567 с.
- Газета. -2008. -25 июня.
- Гаков, В. Жизнь удалась? Как жили, сколько и на чем зарабатывали, сколько и на что тратили «старые русские»/В. Гаков. -М.: Добрая книга, 2007. -392 с.
- Гринспен, А. Эпоха потрясений: Проблемы и перспективы мировой финансовой системы/А. Гринспен. -М.: Альпина Бизнес букс, 2008. -496 с.
- Диксон, Б. Красные капиталисты в Китае/Б. Диксон. -М.: Олимп-Бизнес, 2005. -288 с.
- Друкер, П. Ф. Бизнес и инновации/П. Ф. Друкер. -М.: Изд. дом «Вильямс», 2007. -423 с.
- Крыштановская, О. В. Бизнес-элита и олигархи: итоги десятилетия/О. В. Крыштановская//Политтехнолог. -М., 2005. -№ 3. -С. 12-35.
- Кузьмичев, А. Д. Гомза России или размышления о богатых людях/А. Д. Кузьмичев//Историко-экономический альманах. -М.: Академический Проект, 2004. -Вып. 1. С. 387-396.
- Кузьмичев, А. Русские миллионщики: Семейные хроники/А. Кузьмичев, Р. Петров. -М.: Изд-во Ин-та эконом. стратегий, 1999. -188 с.
- Кулиев, А. Туркменская элита -взгляд изнутри [Электронный ресурс]/А. Кулиев. -Режим доступа://http://www.iicas.org/articles/library/libr_rus_20_03_01_t.htm.
- Лебланк, Р. Совет директоров -взгляд изнутри. Принципы формирования, управление, анализ эффективности/Р. Лебланк, Дж. Гиллис. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. -265 с.
- Манту, П. Промышленная революция в Англии/П. Манту//Экономическая история: хрестоматия. -М.: Изд. дом ГУ -ВШЭ, 2007. -С. 104-112.
- Неклесс, А. «Инновация и революция» [стенограмма лекции] [Электронный ресурс]/А. Нексесс. -Режим доступа: http://www.archipelag.ru/text/509.htm.
- Панюшкин, В. Михаил Ходорковский. Узник тишины: история про то, как человеку в России стать свободным и что ему за это будет/В. Панюшкин. -М.: Секрет фирмы, 2006. -259 с.
- Паппэ, Я. Ш. «Олигархи». Экономическая хроника 1992-2000/Я. Ш. Паппэ. -М.: ГУ-ВШЭ, 2000. -232 с.
- Перегудов, С. П. Российская бизнес-элита после выборов 2003 г.: новый этап отношений с властью/С. П. Перегудов. -СПб.: Норма, 2004. -186 с.
- Платонов, Д. Н. Русское хозяйство: история, культура, концепции/Д. Н. Платонов. -М.: МАКС Пресс, 2000. Вып. 1. -98 с.
- Простаков, И. В. К истории корпоративной организации капиталистической экономики: пример Италии/И. В. Простаков//Экономическая история: хрестоматия. -М.: Изд. дом ГУ -ВШЭ, 2007. С. 453 -458.
- Пчелинцев, О. С. Приватизация и доверие [Электронный ресурс]/О. С. Пчелинцев//Доверие -ключ к успеху экономических реформ». -Режим доступа: http://www.netda.ru/belka/economy/pchel/miln.htm).
- Селунская, Н. А. «Светлейшая» Венеция/Н. А. Селунская, С. К. Сергеев//Экономическая история: хрестоматия. -М.: Изд. дом ГУ -ВШЭ, 2007. С. 72-77.
- Сото де, Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире/Э. де Соте; пер. с англ. -М.: Олимп-Бизнес, 2004. -272 с.
- Финансово-промышленные группы и конгломераты в экономике и политике современной России. -М.: Центр политических технологий, 1998. -258 с.
- Хоффманом, Д. Интервью. Газета.Ру [Электронный ресурс]/Д. Хоффманом. -Режим доступа: http://www.gazeta.ru/politics/2007/08/22_a_2072501.shtml.
- Чирикова А. Лидеры российского предпринимательства: менталитет, смыслы, ценности/А. Чирикова. -М.: ИС РАН, 1997. -200 с.
- Экономидес М., Олини Р. Цвет нефти. Крупнейший мировой бизнес: история, деньги и политика/М. Экономидес, Р. Олини. -М.: Олимп-бизнес, 2004. -256 с.
- Эксперт. -2005. -№ 14 (461). -11 апр.
- Эксперт. -№ 45 (445) от 29 нояб. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.expert.ru/printissues/expert/2004/45/45ex-collinz.
- Этнические элиты нефтедобывающих регионов [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.carnegie.ru/ru/print/71870-print.htm.