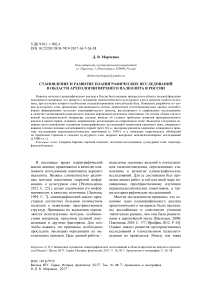Становление и развитие планиграфических исследований в области археологии верхнего палеолита в России
Автор: Марченко Дарья Владимировна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований
Статья в выпуске: 7 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Развитие методов планиграфического анализа в России было вызвано прогрессом в области полевой фиксации ископаемого материала, что привело к осознанию палеолитического культурного слоя в качестве особого источника, при изучении которого необходима специализированная методическая база. Появление разработок по теории культурного слоя, применение аппликативного метода, привлечение естественнонаучных данных способствовало формированию методики планиграфического анализа, выступающего в современных исследованиях в качестве составляющей комплексного анализа верхнепалеолитических памятников. По итогам обзора отечественной исследовательской литературы сделаны выводы об узловых проблемах развития пространственного анализа в нашей стране, основных направлениях исследования на современном этапе. Выделены следующие основные вехи становления и развития планиграфических исследований памятников каменного века: совершенствование техники полевых исследований в первой трети ХХ в.; внедрение раскопок широкими площадями в практику исследования верхнепалеолитических памятников (с 1930-х гг.); появление теоретических обобщений по проблемам строения и генезиса культурного слоя, широкое внедрение междисциплинарных исследований (с 1980-хгг.).
Северная евразия, верхний палеолит, методика исследования, культурный слой, планиграфический анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/147219815
IDR: 147219815 | УДК: 930.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-7-26-38
Текст научной статьи Становление и развитие планиграфических исследований в области археологии верхнего палеолита в России
В настоящее время планиграфический анализ активно привлекается в качестве компонента исследования памятников верхнего палеолита. Являясь совокупностью различных методов извлечения «скрытой информации» о культурном слое [Разгильдеева, 2012. С. 25] с целью увеличения его информативности в качестве источника [Леонова, 1994. С. 7], планиграфический анализ представлен достаточно большим количеством подходов к выявлению пространственных структур. Принципы их выделения определяются используемым методом, особенностями материала, качеством полевой документации и другими факторами. Для того чтобы выявить эти принципы, необходимо проследить эволюцию породивших их методических приемов. Цель данной работы – выделение основных явлений в отечественном палеолитоведении, определивших становление и развитие планиграфических исследований. Для ее достижения был проведен анализ работ, в той или иной мере посвященных пространственному изучению верхнепалеолитических памятников, а также историографических исследований.
Многие исследователи признают, что основные идеи планиграфического анализа археологического материала были высказаны российскими и советскими учеными значительно раньше, чем они были реализованы в европейской науке [Васильев, 2008; Платонова, 2010. С. 177; Djindjian, 2012. Р. 44]. Однако анализ развития пространственных исследований в отечественном палеолитоведении не проводился. Между тем такая
Марченко Д. В. Становление и развитие планиграфических исследований в области археологии верхнего палеолита в России // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 7: Археология и этнография. С. 26–38.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 7: Археология и этнография
работа необходима для понимания современной методики планиграфического анализа и определения направлений ее развития.
В первой трети XX в. теоретические и практические разработки по методике раскопок были предложены Ф. К. Волковым, В. А. Городцовым, П. П. Ефименко, Г. А. Бонч-Осмоловским, М. Я. Рудинским и др. Развитию этих идей на территории Российской империи, а впоследствии Советского Союза, способствовал опыт раскопок широкими площадями.
О первом изолированном опыте плани-графического исследования можно говорить уже применительно к 1901 г., когда оно было проведено Н. Ф. Кащенко на Томской стоянке. Ученый тщательно зафиксировал расположение объектов на вскрытой площади при помощи квадратной сетки, снабдил итоговый труд цветным планом расположения находок [Васильев, 2008. С. 14].
Пример совершенствования методики вскрытия культурных слоев для своего времени демонстрируют раскопки стоянки Гонцы В. А. Городцовым и В. М. Щерба-кивским в 1914–1916 гг. При раскопках Го-родцова расчистка остатков производилась с оставлением крупных костей и камней на месте для изучения планировки памятника. Шурфы и траншеи, являвшиеся к тому времени основными способами расчистки культурного слоя, сменились вскрытием поверхности, что позволило обнаружить овальное скопление из костей мамонта [Djindjian, 2012. Р. 45].
Схемы распространения культурных остатков в плане составлялись во время работ Ф. К. Волкова и его учеников в Мезине. Рекомендации исследователя по полевой археологии являлись обобщением передового мирового опыта того времени: обязательное вычерчивание вертикальных и горизонтальных разрезов «культурного пласта»; горизонтальная расчистка объектов; «очень тщательная статистика» массового материала; необходимость брать при раскопках «все без исключения». Благодаря активной преподавательской и научно-исследовательской деятельности Ф. К. Волкова, жившего некоторое время во Франции и ставшего учеником Габриеля де Мортилье, сформировалась генерация таких профессиональных исследователей палеолита, как П. П. Ефименко, Г. А. Бонч-Осмоловский, С. И. Руденко и др.
[Платонова, 2010. С. 161; Васильев, 2008. С. 14; Djindjian, 2012. Р. 45].
Помимо теоретических разработок, рассматриваемый период характеризуется первым опытом раскопок широкой площадью. С 1893 по 1900 г. под руководством В. В. Хвой-ко изучалась Киево-Кирилловская (Кирилловская) палеолитическая стоянка. Верхний слой был вскрыт на площади 600 кв. м, нижний – на площади 900 кв. м. [Djindjian, 2012. Р. 45].
Переход от стратиграфического исследования к планиграфическим раскопкам, ориентированным на реконструкцию облика древних поселений, начинается в 1920-е гг. В 1927 г. С. Н. Замятнин при раскопках стоянки Гагарино ориентировался на вскрытие всей площади открытого им углубленного верхнепалеолитического жилища [Там же]. С 1931 г. в Костенковско-Борщевском районе экспедиция во главе с П. П. Ефименко начала систематические раскопки стоянки Полякова широкой площадью [Аникович и др., 2008. С. 21]. В 1929 г. С. Н. Замятнин в Гагарино открыл остатки углубленного жилища, окруженного камнями [Васильев, 2008. С. 25].
Опережавшая свое время методика комплексного исследования памятников была разработана в ходе работ Крымской экспедиции под руководством Г. А. Бонч-Осмолов-ского. Исследователь был знаком с отчетами К. С. Мережковского, писавшего о послойном стратиграфическом изучении пещер. Важные теоретические установки заложили лекции Ф. К. Волкова. В своей полевой работе Г. А. Бонч-Осмоловский практиковал нивелировку от условной горизонтали, карточную систему фиксации материала. Площадь памятника вскрывалась линиями квадратных метров или небольшими участками с частым (через 1–2 м) профилированием. В ходе раскопок с самого начала учитывались все находки. Данная методика затем была применена им при раскопках в Сю-реньских скальных навесах [Платонова, 2010. С. 170–172].
Оригинальная методика раскопок использовалась М. Я. Рудинским. В 1932 г. при раскопках на Пушкарях исследователь в целях получения возможно большего числа разрезов культурного слоя разрабатывал раскоп четырехметровыми «кессонами», разбиравшимися до предельной глубины. При этом в ходе полевых работ проводилась фотофиксация расчищаемых кессонов в вертикальной проекции с помощью переносной вышки. Из 36 снимков кессонов в итоге был составлен и опубликован сводный план памятника [Рудинский, 1947]. Однако данная методика не была в то время воспринята в отечественной науке. Расчистка культурных отложений кессонами впоследствии была подвергнута критике как не позволяющая наблюдать объекты в их целостности [Рогачев, 1979. С. 5].
Таким образом, в первой трети XX в. в отечественной науке формировались передовые принципы полевых исследований и принципиально новые подходы в области интерпретации материала, извлеченного из культурного слоя (учет контекста находок, понимание возможности реконструкции реальной хозяйственной ситуации на памятнике по характеру распределения культурных остатков в слое). Однако новаторский опыт отдельных исследователей оставался изолированным и не привел к развитию этих тенденций в полной мере.
Повсеместный переход к тактике вскрытия культурного слоя широкой площадью обусловливался, в первую очередь, идеологическими основаниями. Целью археологических исследований в 1930-е гг. считалась реконструкция социальных отношений в древних обществах. Открытие жилищ из костей мамонта, предметов палеолитического искусства, связанных с жилищами, сделало возможным разработку жилищной проблематики в палеолитоведении. Как следствие, одной из первостепенных задач стало восстановление облика древних жилищ путем вскрытия всей площади предполагаемого жилища.
Однако такой подход имел издержки: пла-ниграфическое изучение культурного слоя зачастую противопоставлялось стратиграфическому. Так, П. П. Ефименко рассматривал мощный культурный слой Костенок I как скопление отбросов. Соответственно главной задачей было признано выявление основания («пола») постройки. В то же время некоторые исследователи указывают, что подход П. П. Ефименко к пониманию культурного слоя был более сложным: достаточно подробно описывая скопления «отбросов обитания», он подразумевал под ними образования, возникшие после оставления человеком стоянки, поднимая таким образом проблему вертикального переотложения культурных остатков в слое [Беляева, 2014. С. 226]. В этом отношении понимание культурного слоя последователями П. П. Ефименко (в первую очередь П. И. Борисков-ским и А. Н. Рогачевым) представляется логическим продолжением его идей.
При работе на памятнике Пушкари I П. И. Борисковский сочетал метод раскопок широкой площадью с профилированием: в центральной части раскопов оставлялись поперечные «контрольные перемычки», стенки которых позволили проследить стратиграфию центральных участков комплекса. Предметом интереса исследователя была при этом не только нижняя часть культурного слоя, «пол», но и верхняя его часть как показатель процесса нарушения слоя жилого сооружения. Исследуя палеолитические жилища, он также ставил вопрос об их синхронности [1958. С. 3–19].
А. Н. Рогачев при работе на памятниках Костенковской группы уделял внимание породам, покрывающим, по его мнению, культурный слой и содержащим артефакты, вынесенные по кротовинам. Важной задачей он считал установление верхней границы культурного слоя, его границ в плане. Вместе с тем основание культурного слоя – древняя дневная поверхность, оставалось основным объектом изучения, как и «пол» жилища. Исследователь обратил внимание на «древние нарушения поверхности», образовавшиеся в результате деятельности людей, являющиеся также достоверными остатками человеческого труда [1979].
В 1980-е гг. появились новые методы изучения культурных отложений, повышенное внимание уделялось индивидуальной фиксации артефактов, проблеме формирования культурных отложений, их микростратиграфии и тафономии (см. [Медведев, Несмеянов, 1988; Гвоздовер, Григорьев, 1990] и др.), которые были реализованы при исследовании палеолитических объектов на Кавказе, Русской равнине и в Сибири.
Так, исследователи памятника Авдеево, с одной стороны, используя опыт Костен-ковско-Борщевской археологической экспедиции, с другой – вводили новые приемы изучения культурного слоя открытых стоянок. Помимо непременной фиксации на планах расщепленного кремня, камней, костей с их отметками, соотносимыми с номерами на самих артефактах, документирова- лись и элементы культурного слоя: ямы, выкопанные человеком, очаги, землянки. С опорой на микростратиграфические данные отмечались также нарушения породы естественного происхождения [Гвоздовер, Григорьев, 1990].
Пристальное внимание уделялось верхним и нижним границам культурного слоя, хорошо выраженным на памятнике Авдеево. Использовавшаяся П. П. Ефименко методика оставления всех находок на своих местах максимально долгое время (с целью добиться наглядности при вскрытии культурного слоя), по мнению исследователей, вела к утере большого количества находок (мелкого кремня, а также костных остатков). По этой причине они перешли к быстрому снятию находок с полной фиксацией. Оставленные бровки и некоторые, наиболее яркие (и вместе с тем крупные и достаточно прочные) находки позволяли сохранять в памяти первоначальный вид культурного слоя. Раскопки широкими площадями также перестали применяться в практике Авдеевской экспедиции. Отмечалось, что даже при исследовании небольшого круглого жилища от него отделялся участок для изучения в следующем полевом сезоне, когда уже осмыслены полученные результаты и учтен предшествующий опыт. Очень ценная информация была получена путем тщательного исследования микростратиграфии ям, обнаруженных на памятнике. Таким образом, исследователям удавалось судить о синхронности объектов на памятнике, выявлять отдельные периоды в их существовании [Там же].
Большой вклад в развитие изучения микростратиграфии был сделан Донской археологической экспедицией исторического факультета МГУ, исследовавшей памятники каменнобалковской верхнепалеолитической культуры. Индивидуальная фиксация находок и последующее проецирование их положения на микропрофили позволили обнаружить в культурном слое «поверхности обитания», реконструировать в подробностях историю заселения стоянки [Леонова, Несмеянов, 1991].
В связи с открытием памятников в необычных геологических контекстах усиливался интерес археологов к проблеме накопления культурных остатков, возможности оценки степени постседиментационных нарушений. Особенно актуальными эти про- блемы оказались для иркутских исследователей, начавших в эти годы активные работы на ранних верхне- и нижнепалеолитических местонахождениях, абсолютное большинство которых испытало в той или иной мере процессы переотложения. Г. И. Медведев и С. А. Несмеянов провели классификацию типов культуровмещающих отложений. Они отделили собственно культурные горизонты (места «первичной» концентрации археологического материала) от слоев «остаточной» и «вторичной» концентрации артефактов, классифицировали культурные остатки по степени переотложенности [1988. С. 114– 115].
Методику исследования стоянок с переотложенным культурным слоем развивал и М. В. Аникович. На основе опыта исследования Волковской стоянки (Костенки-12) им был разработан ряд рекомендаций по проведению раскопок таких памятников. Отмечалась важность исследования, насколько это возможно, процессов переотложения культурного материала. В связи с этим вопросам внутреннего устройства культурного слоя также отводилось первостепенное значение. Исследователь акцентировал внимание на том, что переотложенность культурного слоя памятника должна вести не к снижению уровня методики его изучения, а, напротив, к ее модификации и усложнению [1990].
К началу 1980-х гг. относятся первые опыты установления связей между участками стоянки посредством воссоздания в обратном порядке стадий обработки камня – подбор отщепов и технических сколов к нуклеусу и т. д. В отечественной археологической литературе для обозначения данного метода употреблялись два термина: восходящее к французской традиции слово «ремонтаж» и термин «аппликативный метод» (от лат. applico – прикладываю, applicatus – прилегающий) [Аксенов, 1981].
М. П. Аксенов, первым применивший данный метод в своих работах, показал, что информация, получаемая по сумме апплици-рованных изделий из одного ансамбля, позволяет реконструировать модель механической технологии расщепления камня в определенных пространственно-временных условиях [Там же]. Вскоре метод получил широкое распространение в отечественном палеолитоведении, а прослеживание связей по ремонтажу стало надежным источником информации о хозяйственной активности на площади памятника, дающим, кроме того, возможность разрешить спорные вопросы хронологии его заселения.
Новый этап целевых, специализированных планиграфических исследований в России связан с работами Н. Б. Леоновой. В центре внимания исследовательницы, обобщившей значительные материалы по верхнепалеолитическим стоянкам Сибири и Восточной Европы, находилась структура памятника, понимаемая как «общая система пространственного распространения различных объектов слоя и сочетания их с различными видами скоплений сырья и изделий» [1977. С. 5]. Наметилась определенная типология скоплений расщепленного кремня, были выделены характерные признаки «зон выброса» и «шлейфов находок», отличающие их от производственных скоплений [Леонова, 1980]. Н. Б. Леоновой были разработаны конкретные рекомендации по работе с планами распределения культурных остатков. Исходным является положение о распространении находок по площади стоянки по законам случайного, или нормального, распределения, так как культурный слой формируется за счет предметов, случайно утерянных, отброшенных, сломанных и т. п. В случае же накопления на определенном участке большего числа обычных предметов предполагается, что причина их появления здесь обусловлена неслучайными обстоятельствами: например, какой-либо целенаправленной деятельностью. Для выявления таких скоплений, которые при высокой насыщенности слоя культурными остатками не фиксируются визуально, исследовательницей был предложен способ построения графиков распределения кремния [Леонова, 1994. С. 18– 19].
В начале 1990-х гг. появляются разработки, призванные определить элементы и структуру культурного слоя, этапы его формирования.
М. В. Александрова выделила основные слагаемые палеолитического культурного слоя: «вещественный компонент» (собственно культурные остатки) и «заполнитель» (т. е. субстрат, заключающий в себя материальные остатки). Основой заполнителя являются четвертичные осадочные отложения, а также частично отложения, сформировавшиеся до прихода человека (разрушаемая людьми в процессе их обитания кровля того геологического слоя, на поверхности которого возникло поселение). Однако главную роль в их образовании играли остатки, отлагающиеся в процессе жизни поселения, в том числе и «природный компонент» (органические материалы естественного происхождения). Следы механического воздействия (утаптывание, разрыхление и т. п.) также отличают структуру заполнителя от синхронных ему отложений вне поселения. М. В. Александрова обращала внимание и на «процессы эпигенеза», проходящие в захороненном заполнителе и характеризующие его уже как геологическое образование. Отмечалось, что в процессе бытования в погребенном состоянии культурный слой может уничтожаться полностью, несмотря на наличие некоторых материальных остатков поселения [1990].
В работах Н. Б. Леоновой и С. А. Несмеянова дана классификация культуросодержащих отложений и культурных слоев. Рассмотрены особенности распределения в объеме горной породы культурных остатков в зависимости от того, являются они переотложенными (остаточная и вторичная концентрация) или результатом первичной концентрации (собственно культурный слой). Обращалось внимание на необходимость сопоставления типа естественной седиментации с палеоэкологической обстановкой, реконструируемой по культурному материалу, выявления специфики антропогенного влияния на распределение осадочного материала [1991. С. 219–222]. При расшифровке строения культурного слоя основное внимание уделялось обособлению его частей – археологических фаций, связанных с различным набором и соотношением элементов слоя. По этой причине такой анализ назван фациально-палеогеографическим. Авторами выделены пять археологических фаций (жилищная, производственная, ритуальная, погребальная, свалочная), для каждой из которых определены наборы характерного, редкого и случайного культурного материала [Там же. С. 222–224]. В бытовании культурного слоя авторами выделялись три основных этапа: этап 1 – непосредственное отложение культурных остатков на древнюю поверхность обитания; этап 2 – время бытования оставленного людьми памятника до его полного погружения во вмещающую породу; этап 3 – время существования слоя в погребенном состоянии
(самый длительный этап). Кроме того, авторами сформулированы основные признаки переотложенности культурного материала, выявить которые позволяют данные планиграфии и микростратиграфии [Там же. С. 225– 246].
В исследованиях В. И. Беляевой также уделено большое внимание строению культурного слоя. В качестве отправного условия для понятия «культурный слой» исследовательница определяла предположение археологизации остатков обитания человека на месте его поселения. Исходя из этого условия она выделяла основные признаки культурного слоя: «элементарный заполнитель» (крошки угля, костей, охры, мельчайшие чешуйки кремня); «элементы» слоя (кремни, фрагменты или целые кости); объекты (ямы, западины, скопления). Эти признаки ранжируются по степени стабильности от элементарного заполнителя до объектов, как самых стабильных проявлений культурного слоя [1999]. В. И. Беляевой рассматривались и проблемы постседиментационных процессов: в составе культурного слоя выделялись два горизонта: связанный с жизнедеятельностью человека и образованный естественными процессами и последующей трансформацией отложений. На ряде примеров памятников юга России и Украины показаны ситуации нахождения второго, переотложенного, слоя над первым. Возможное объяснение данной ситуации видится в поднятии кремневого материала процессами сезонного промерзания и протаивания грунтов [2014].
На современном этапе развития палеолитоведения пространственный анализ используется наряду с комплексом геологических, палеоботанических, палеофаунистических, палеопедологических и других данных в качестве составляющей комплексного исследования культурного слоя [Леонова и др., 2002; 2006; Лбова и др., 2003; Разгильдеева, 2012; 2013].
В диссертационном исследовании Н. Б. Леоновой [1994] обобщены материалы анализа более чем тридцати верхнепалеолитических стоянок. Опираясь на многолетний опыт, она выделила следующие основные элементы культурного слоя: жилища; хозяйственные ямы; очаги; ямы, связанные с очагами; пятна золы; каменные выкладки; крупные камни; скопления кремня; скопления кости; «шлейфы» находок; пятна охры; «клады»;
участки с редкими находками. Различные комбинации этих элементов, а также соотношения различных категорий орудий, позволяют разделить памятники открытого типа эпохи верхнего палеолита на два основных вида: мастерские и базовые стоянки.
Вопросы длительности обитания на памятнике также рассматривались с точки зрения его планиграфии с опорой на комплекс данных. Н. Б. Леоновой было доказано отсутствие прямой связи между толщиной слоя и длительностью обитания на стоянке. Мощность культурного слоя определяется целым рядом факторов, таких как близость или удаленность выходов каменного сырья, наличие или отсутствие на памятнике цикла первичного расщепления, насыщенность слоя костными останками, сезон обитания памятника, сам тип вмещающей породы [1994. С. 126–130]. Не могут служить однозначным признаком долговременности обитания и массивные жилые сооружения, характер которых определяется климатическими условиями жизни древних людей и сохранностью археологических остатков жилищ. Н. Б. Леоновой было замечено, что для памятников, существовавших недолго, характерна относительно четкая структура, для долговременных памятников – «смазанная». Это объясняется тем, что более продолжительное накопление культурных остатков приводило к наслоению и перекрыванию одних объектов другими, что «смазывает» первоначальную планировку памятника. В этой связи основная трудность заключается в выяснении причин смешивания элементов слоя (антропогенный фактор, т. е. длительность обитания, либо природные процессы: переотложения, смывы, деятельность биоты, процессы почвообразования и т. п.).
-
С . А. Васильев на основании детального изучения многослойных стоянок района Майны (Майнинская стоянка, стоянки Уй I и Уй II) на Верхнем Енисее характеризовал следующие планиграфические структуры:
-
• очаги (автор дает классификацию типов распределения остатков у очагов);
-
• скопления валунов и каменных плит (исследователь отмечает, что, как правило, такие структуры связаны с очагами);
-
• рабочие площадки: скопления расщепленного камня, располагающиеся как у очагов, так и изолированно (по составу находок в таких скоплениях автор выделял площадки, на которых производился пол-
- ный цикл расщепления – от раскалывания валунов и галек до изготовления и переоформления орудий), и специализированные места первичного расщепления;
-
• клады.
Возможность выявить существование жилищных структур при отсутствии каменных выкладок исследователь видит в изучении характера распределения артефактов. Он отмечал, что этнографические наблюдения показывают наличие четко дифференцированных участков деятельности только в замкнутом жилищном пространстве. На открытых площадках зоны деятельности смещаются, образуя в итоге «палимпсест» из разнообразных остатков [Васильев, 1996. С. 188].
Развитием планиграфического анализа в изучении жилищных структур занимается в настоящее время И. И. Разгильдеева. Ее исследования базируются на материалах Забайкальских палеолитических памятников, отличающихся высокой степенью сохранности культурного слоя в аллювиальных отложениях надпойменных террас рек Чикой-ского бассейна [2003].
На материалах многослойных поселений типа «сезонных кратковременных охотничьих стоянок» И. И. Разгильдеевой была применена методика построения круговых моделей. Для анализа жилищных структур, имеющих выраженные границы округлых или овальных очертаний, внутренняя площадь жилищно-хозяйственного комплекса делилась на секторы (с ориентацией по сторонам света) и периметры удаления. Условный центр или центры определялись относительно очагов как основных структурирующих элементов комплексов. Для построения круговой модели через условный центр (середина длинной оси) проводилась система координат, делящая площадь на четыре сектора (С, Ю, З, В). Вторая система координат проходила через центр очага, относительно которого и шел анализ распределения артефактов по условным окружностям – «периметрам». Очаг являлся нулевым периметром. Условные границы последующих проходили через равное расстояние: их радиус зависел от размера очага. В сложносоставных моделях системы координат строились относительно каждого очага. Построение таких моделей позволяет выявить закономерности во внутриструк-турных взаимосвязях, что способствует разрешению вопросов относительной хроноло- гии элементов сложносоставных комплексов [Разгильдеева, 2008; 2016]. Комплексное пространственное исследование материалов кратковременных стоянок – контекстуальный анализ, включающий количественный и качественный анализ находок, прослеживание связей по ремонтажу и трасологический анализ изделий – позволило реконструировать форму и особенности строения жилищ, воссоздать участки производственной и бытовой деятельности. На базе проведенных исследований автор выявил основные закономерности внутренней планиграфии жилищ [Разгильдеева, 2003; 2012; Разгильдеева, Мороз, 2017]. По наблюдениям И. И. Разгильдеевой, условия замкнутого жилого пространства формируют также особые микрострати-графические изменения рельефа поверхности основания жилища, что подтверждается и экспериментальными данными [2012; 2013].
Серия экспериментальных исследований пространственного распределения артефактов в результате деятельности по расщеплению камня, по определению следов горения различных типов очагов проведена П. В. Волковым [2007]. Рабочие площадки по расщеплению камня воссоздавались на участках размерами 1,5 × 1,5 и 1,7 × 1,7 м. Операторы производили пробу либо отбраковку сырья и изготовление пренуклеуса. В результате наблюдений за распределением артефактов на экспериментальных площадках было отмечено отличие площадок, где работал более опытный мастер, от площадок «учеников». Выделены схематические плани-графические признаки типичной площадки мастера: сравнительная компактность основной линзы скопления отходов производства; дислокация наиболее крупных снятий на относительном удалении от местоположения ступней оператора; организация рабочего пространства эргономична и упорядочена; отбракованные снятия сосредоточены в центре основной линзы скопления отходов [Там же. С. 8–24].
Помимо экспериментальных данных, большое значение в ходе планиграфическо-го анализа получают трасологические исследования [Волков, 2007; 2010], служащие источником данных для функционального анализа. В результате исследования жилищ эпохи голоцена в бассейне Амура на их площади были выделены следующие функциональные зоны: очаговые, зоны отдыха, рабочие зоны, внешние рабочие площадки, предвходовые участки. Проведение функ-ционально-планиграфического анализа позволило выявить закономерности организации жилого пространства на исследуемых памятниках [Волков, 2010].
Ремонтаж в настоящее время активно используется в качестве приема планиграфиче-ского анализа [Леонова и др., 2006; Белоусова, Рыбин, 2013]. Технологические скопления, сгруппированные в пространстве, интерпретируются как зоны активности, т. е. структуры, не только обладающие единством в геологическом масштабе, но и, вероятно, фиксирующие один эпизод обитания памятника [Белоусова, Рыбин, 2013].
Методы планиграфического анализа активно используются для решения вопросов относительной хронологии материалов многослойных памятников и, как следствие, определения культурной принадлежности материалов; в частности осуществлена попытка проведения такого анализа на материалах раскопок первой половины XX в., в ходе которых не проводилась трехмерная фиксация артефактов [Желтова, 2015].
В условиях широкого распространения компьютерных технологий, в качестве приема археологического исследования развивается трехмерное моделирование [Бородкин, Же-ребятьев, 2012]. Оно дает возможность более детального исследования культурного слоя, выявления особенностей распределения материала в камеральных условиях, в том числе при работе с материалами памятников, изучавшихся до появления современных компьютерных технологий; позволяет воссоздать культурный слой в полном объеме. Работая с моделью, исследователь совершает действия, не возможные при анализе реального объекта, тем более что в археологии им является культурный слой, в сущности, уничтожающийся в ходе раскопок. При работе с воссозданной моделью культурного слоя появляется возможность построения дополнительных разрезов, не сделанных в ходе полевого исследования, визуализации любой необходимой проекции культурных отложений, создания карты высот, рельефа дневной поверхности. Еще большим информационным потенциалом обладает модель, созданная непосредственно в ходе раскопок. Внесение дополнительных данных (например, о цветности заполнителя на различных участках, о его особенностях на контакте слоев и пр.) обеспечивает пол- ноту модели, позволяя наиболее точно и наглядно отобразить полученную информацию. Все это дает возможность проследить особенности стратиграфии и микростратиграфии отложений, оценить степень сохранности культурного слоя в целом. Выявление и локализация нарушений культурных отложений – необходимые процедуры для определения потенциала культурного слоя в качестве источника.
Ярким примером может служить созданная в 2014 г. 3D-модель Денисовой пещеры. Модель привязана к археологической системе координат, используемой в процессе раскопок для фиксации местоположения находок. Благодаря этому обеспечена возможность сопоставления модели с археологическими схемами и непосредственного переноса массива имеющихся археологических данных в ее виртуальное пространство. Эта модель позволяет осуществлять виртуальные горизонтальные срезы с шагом в 10 см для удобства визуального анализа геометрии пещеры и расположения находок, а также выполнения планов всей карстовой полости [Леонов и др., 2014].
Подводя итоги, можно заключить, что начальный этап становления представлений о планиграфии (первая треть XX в.) связан с совершенствованием методики раскопок, что, в свою очередь, вызвано осознанием археологического памятника как целостного объекта. Следующим этапом (1930–1970-е гг.) стали полевые исследования широкой площадью, направленные на реконструкцию социальных отношений в первобытном обществе, в рамках которых получило развитие пространственное исследование. Затем (1980–1990-е гг.) осуществлялась теорети-зация накопленного опыта площадных раскопок, сам культурный слой стал объектом исследования. Параллельно формировалась методическая база планиграфических исследований. К настоящему времени выработаны цельные концепции изучения жилого пространства, во многом опирающиеся на естественнонаучные данные, результаты целого спектра исследований. Вместе с тем выделение пространственных структур в каждом конкретном случае зависит от целей, поставленных исследователем, от характера и степени сохранности материала.
Список литературы Становление и развитие планиграфических исследований в области археологии верхнего палеолита в России
- Аксенов М. П. Аппликативный метод в анализе археологических источников//Описание и анализ археологических источников. Иркутск, 1981. С. 34-43.
- Александрова М. В. Некоторые замечания к теории палеолитического культурного слоя//КСИА. М., 1990. Вып. 202. C. 4-8.
- Аникович М. В. О методике исследования стоянок с переотложенными культурными слоями (на примере изучения Костенок-12)//КСИА. М., 1990. Вып. 202. C. 28-33.
- Аникович М. В., Попов В. В., Платонова Н. И. Палеолит Костенковско-Борщевского района в контексте верхнего палеолита Европы: Тр. Костенковско-Борщевской археологической экспедиции ИИМК РАН. СПб.: Нестор-История, 2008. Вып. 1. 304 с.
- Белоусова Н. Е., Рыбин Е. П. Новая схема культурно-стратиграфического членения ранневерхнепалеолитических отложений стоянки Кара-Бом (на основе пространственного анализа и данных ремонтажа)//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, №. 7: Археология и этнография. С. 64-76.
- Беляева В. И. Единицы культурного слоя: теория и практика//Локальные различия в каменном веке. СПб., 1999. С. 63-66.
- Беляева В. И. Несколько заметок к биографии культурного слоя//Проблемы археологии эпохи камня. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. С. 225-233.
- Борисковсий П. И. Изучение палеолитических жилищ в Советском Союзе//СА. 1958. С. 3-19.
- Бородкин Л. И., Жеребятьев Д. И. Технологии 3D-моделирования в исторических исследованиях: от визуализации к аналитике//Историческая информатика. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2012. № 2. С. 49-63.
- Васильев С. А. Поздний палеолит Верхнего Енисея (по материалам многослойных стоянок района Майны). СПб.: Петербургское востоковедение, 1996. 224 с.
- Васильев С. А. Древнейшее прошлое человечества: поиск российских ученых. СПб., 2008. 179 с.
- Волков П. В. Экспериментальная археология при планиграфических исследованиях: Учеб.-метод. пособие/Новосиб. гос. ун-т., Ин-т археологии и этнографии СО РАН. Новосибирск, 2007. 82 с.
- Волков П. В. Жилища эпохи голоцена на Дальнем Востоке России (опыт функционально-планиграфического анализа)//Археология, этнография и антропология Евразии. 2010. № 2 (42). С.14-24.
- Гвоздовер М. Д., Григорьев Г. П. Новое в методике раскопок открытых стоянок верхнего палеолита//КСИА. М., 1990. № 202. C. 21-23.
- Желтова М. Н. Планиграфический анализ жилых комплексов стоянки Костенки-4: Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2015. 497 с.
- Лбова Л. В., Резанов И. Н., Калмыков Н. П., Коломиец В. Л., Дергачева М. И., Феденева И. К., Вашукевич Н. В., Волков П. В., Савинова В. В., Базаров Б. А., Намсараев Д. В. Природная среда и человек в неоплейстоцене (Западное Забайкалье и Юго-Восточное Прибайкалье). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2003. 208 с.
- Леонов А. В., Аникушкин М. Н., Бобков А. Е., Рысь И. В., Козликин М. Б., Шуньков М. В., Деревянко А. П., Батурин Ю. М. Создание виртуальной 3D-модели Денисовой пещеры//Археология, этнография и антропология Евразии. 2014. № 3 (59). С. 14-20.
- Леонова Н. Б. Закономерности распределения кремневого инвентаря на верхнепалеолитических стоянках и отражение в них специфики палеолитических поселений: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1977. 20 с.
- Леонова Н. Б. Характер скоплений кремня на кремнеобрабатывающих мастерских//Вестн. Моск. ун-та. 1980. Серия 8. История. № 5. С. 67-79.
- Леонова Н. Б. Современное палеолитоведение: методология, концепции, подходы: Дис. … д-ра ист. наук. М., 1994. 174 с.
- Леонова Н. Б., Несмеянов С. А. Проблемы палеоэкологической характеристики культурных слоев//Методы реконструкции в археологии. Новосибирск: Наука, 1991. 271 с.
- Леонова Н. Б., Несмеянов С. А., Спиридонова Е. А., Сычева С. А. Стратиграфия покровных отложений и реконструкция условий обитания древнего человека на позднепалеолитической стоянке Каменная Балка II//Stratum plus: Археология и культурная антропология. СПб., 2002. № 3. С. 523-537.
- Леонова Н. Б., Несмеянов С. А., Виноградова Е. А., Воейкова О. А., Гвоздовер М. Д., Миньков Е. В., Спиридонова Е. А., Сычева С. А. Палеоэкология равнинного палеолита (на примере комплекса верхнепалеолитических стоянок Каменная Балка в Северном Приазовье). М.: Научный мир, 2006. 360 с.
- Медведев Г. И., Несмеянов С. А. Типизация «культурных отложений» и местонахождений каменного века//Методические проблемы реконструкции в археологии и палеоэкологии. Новосибирск: Наука, 1988. С. 113-142.
- Платонова Н. И. История археологической мысли в России. Вторая половина XIX -первая треть XX века. СПб.: Нестор-История, 2010. 314 с.
- Разгильдеева И. И. Планиграфия палеолитических жилищ Студёновского археологического комплекса (Западное Забайкалье): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Владивосток, 2003. 28 c.
- Разгильдеева И. И. Планиграфия жилищно-хозяйственных структур: метод кругового моделирования//Тр. II (XVIII) Всерос. археологического съезда в Суздале. М., 2008. Т. 3. С. 170-174.
- Разгильдеева И. И. Палеолитические комплексы Западного Забайкалья: развитие методов планиграфического анализа//Гуманитарный вектор. Серия: История, политология. 2012. Вып. 2. С. 21-30.
- Разгильдеева И. И. Планиграфия палеолитического комплекса западного Забайкалья//Археологические вести. Вып. 19. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. С. 12-25.
- Разгильдеева И. И. Планиграфия шестиочажного комплекса позднепалеолитического поселения Студёное-2 в Забайкалье//Stratum plus: Археология и культурная антропология. СПб., 2016. С. 223-263.
- Разгильдеева И. И., Мороз П. В. Контекстуальный анализ производственно-хозяйственной деятельности древних коллективов по данным кратковременных стоянок//Stratum plus: Археология и культурная антропология. СПб., 2017. С. 17-41.
- Рогачёв А. Н. О методике исследования палеолитических поселений (опыт археологических раскопок палеолитических стоянок в Костенках на Дону)//КСИА. М., 1979. С. 3-9.
- Рудинский М. Я. Пушкари//СА. 1947. Вып. 9. С. 171-199.
- Djindjian F. Structures d'habitats paléo-lithiques: du contexte historiographique aux problématiques archéologique//Actes du 3 Сongrès d'archéologie franco-ukrainien. Paris EHESS 1-3 octobre 2009. Kiev: Korvin Press, 2012. P. 44-70.