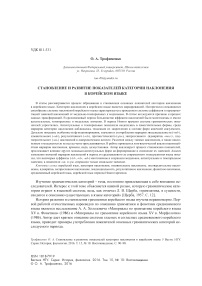Становление и развитие показателей категории наклонения в корейском языке
Автор: Трофименко Оксана Анатольевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Лингвистика и антропонимика Восточной Азии
Статья в выпуске: 10 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс образования и становления основных показателей категории наклонения в корейском языке. Категория наклонения в корейском языке является маркированной. Исторически сложившееся своеобразие системы наклонений корейского языка характеризуется упрощением системы суффиксов и переориентацией значений наклонений от модально-темпоральных к модальным. В статье исследуются причины и процесс данных трансформаций. В средневековый период большинство аффиксов наклонений были многозначны и имели аспектуальные, темпоральные и модальные значения. В период Нового времени система грамматических показателей упростилась. Аспектуальные и темпоральные показатели выделились в самостоятельные формы, среди маркеров категории наклонения наблюдалась тенденция их закрепления в составе форм конечной сказуемости. Детально показаны особенности функционирования, значения и употребления маркеров эвиденциальности (-тŏ-), изъявительного (-нă-), результативного (-кŏ-), прогностического (-ри-), экспрессивного (адмиратив, -тос-), подтвердительного (-ни-) наклонений в диахроническом аспекте. Различия между типами наклонения, а также наклонением и модальностью не всегда четко прослеживаются. В работе проводится лингвистический анализ взаимодействия маркеров наклонения, времени, вида, целеустановки. Автор анализирует процесс становления показателей, прослеживает влияние других модально-аспектуальных форм на формирование и изменение их значений. Анализ изменения значений маркеров наклонений в период от средневекового до современного этапа развития языка показал, что некоторые суффиксы (-тŏ-, -кŏ-, -нă-) многозначны и сохранили модальное, аспектуальное и темпоральное значение, а показатели -ни- и -ри- сохранили только модальное значение.
Корейский язык, корейский язык периода нового времени, категория наклонения, результативное наклонение, изъявительное наклонение, подтвердительное наклонение, адмиратив, экспрессивное наклонение, эвиденциальность, финитное окончание, средневековый корейский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147219516
IDR: 147219516 | УДК: 811.531
Текст научной статьи Становление и развитие показателей категории наклонения в корейском языке
Изучение грамматических категорий – тема, постоянно привлекающая к себе внимание исследователей. Интерес к этой теме объясняется важной ролью, которую грамматические категории играют в языковой системе, ведь, как отмечал Л. В. Щерба, «грамматика, в сущности, сводится к описанию существующих в языке категорий» [Щерба, 1957. С. 12].
История развития и становления грамматики корейского языка изучена неравномерно. Первой работой отечественных корееведов по описанию грамматики и фонетики средневекового языка является исследование А. А. Холодовича «Материалы по грамматике корейского языка XV в. Фонетика» (1986) и «Материалы по грамматике корейского языка XV в. Морфология» (1986). Автор дает краткое описание системы гласных и согласных средневекового корейского языка, приводит примеры употребления показателей основных грамматических категорий исследуемого периода.
Трофименко О. А. Становление и развитие показателей категории наклонения в корейском языке // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 10: Востоковедение. С. 90–98.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 10: Востоковедение © О. А. Трофименко, 2016
Описание грамматической категории предикатива среднекорейского и новокорейского языка было представлено в диссертационном исследовании В. В. Верхоляка «Грамматические категории предикатива в корейском языке XVII в.: на материале «Пак тхонъса онхэ» (1989), где автор анализирует основные категории предикативов исследуемого периода.
В диссертационном исследовании Е. Н. Кондратьевой «Грамматические категории предикатива в ранне-новокорейском языке: от среднекорейского к новокорейскому» (2005) представлена характеристика предикативных категорий в ранне-новокорейском языке на материале двух произведений: «Ода о драконах, летящих к небу» и «Удивительное соединение двух браслетов».
Диссертационное исследование Е. С. Логуновой «Грамматика новокорейского языка по памятникам XVIII–XIX вв. (фонология, морфонология, морфология)» (2013) представляет собой синхронное описание грамматики корейского языка XVIII–XIX вв., а именно его фонологии, графики, морфонологии и морфологии.
Описание исторической грамматики корейского языка в работах западных лингвистов представлено в исследовании Ли Гимуна и С. Р. Рамси «История корейского языка» (2011), а также в работе С. Е. Мартина «Справочная грамматика корейского языка: полное руководство по грамматике и истории корейского языка» (1992).
Среди работ корейских филологов следует отметить исследования Хо Уна «Грамматика старокорейского языка» (1988), Ко Ёнгына «Нормативная грамматика средневекового корейского языка» (1995) и Ли Кванхо «Грамматика новокорейского языка» (2004).
В перечисленных работах приводится общая информация по основным грамматическим категориям имен и предикативов. Целью нашего исследования является детальный анализ грамматических показателей категории наклонения, особенностей их функционирования, формирования и развития. Представленные в статье данные получены в результате анализа работ различных исследователей (Ко Ёнгын, 1995; Ли Кванхо, 2011; Пак Джеён, 2004; Рамстедт, 1957; Холодович, 1986; Хо Ун, 1988; Martin, 1992), а с примерами употребления показателей категории наклонения можно познакомиться в работе О. А. Трофименко «История корейского языка: фонетика, морфология» (2011).
В современном корейском языке средства выражения категорий наклонения, времени и вида представлены различными структурными типами: определенными классами аффиксов и аналитическими конструкциями. Однако так было не всегда.
Исторически сложившееся своеобразие системы наклонений корейского языка можно характеризовать в самых общих чертах:
-
1) в плане выражения – упрощение системы суффиксов;
-
2) в плане содержания – переориентация системы наклонений от модально-темпоральных к модальным.
В средневековом корейском языке (XV–XVI вв.) аспектуальные, темпоральные и модальные значения выражались с помощью суффиксов: один показатель мог выражать несколько грамматических значений. Аспектуально-темпорально-модальные суффиксы могли сочетаться с определенными финитными, соединительными и атрибутивными окончаниями.
Ситуация начала меняться в период Нового времени (XVII–XIX вв.). С упрощением системы грамматических показателей конкретизировалось и их категориальное значение. Аспектуальные и темпоральные показатели выделились в самостоятельные формы, а вот среди маркеров категории наклонения наблюдалась тенденция их закрепления в составе форм конечной сказуемости.
В период с XV по XIX вв. в корейском языке система наклонений была представлена следующим образом.
-
1) Суффикс -нă- (алломорф -н-)
В средневековый период это показатель категории изъявительного наклонения, настоящего времени и продолженного вида. По мнению Г. Й. Рамстедта – показатель действительного залога.
Г. Й. Рамстедт считает, что показатель - нă - служил для выражения активного характера действия, его потенциальности в настоящем времени действительного залога. Впоследствии от него было образовано изъявительное наклонение и формы настоящего времени [Рамстедт, 1957. С. 95–96].
В XV в. суффикс - нă - мог присоединяться в основном к глаголам действия. Показателем значения настоящего времени у прилагательных или глагола-связки служила нулевая морфема.
Суффикс - нă - мог употребляться с различными финитными и соединительными окончаниями. С повествовательными окончаниями использовались суффиксы - нă -\- н -, а с вопросительными – только суффикс - нă -.
Суффикс - нă - свободно сочетался с суффиксом подтвердительного наклонения - ни -, но не употреблялся с суффиксом - ри -, который выражал значение будущего времени и прогностического наклонения. Суффикс - нă - стоял в препозиции к показателям категории адмиратива и депрециативности, но в постпозиции к маркерам категории гоноратива.
Если после суффикса - нă - употреблялся суффикс категории персональности - о -, то происходило стяжение гласных и образовывался суффикс - но -. Например: хăнора (хă + нă + о+ ра); хăнони; хăнон и т. п.
В XVI в. суффикс - нă - продолжал употребляться в основном в сочетании с окончанием повествовательной целеустановки - да , образовав единое финитное повествовательное окончание - нăда. В дальнейшем оно трансформировалось в - н да и первоначально использовалось только в открытых слогах. Таким образом, в словоформах произошли следующие фонетические изменения: анихăнăда → ани хăнда; канăда → канда .
В закрытых слогах форма - нăда перешла в - нăнда только в XVII в. При этом суффикс - нă -уже утратил свое модально-темпоральное значение и прочно закрепился в составе повествовательного финитного окончания - нăда , например: коснăнда . Таким образом, окончание - нăнда появилось впервые только в XVII в.
В XVII в. перед окончанием цитативной формы -да суффикс - нă - упростился до формы - н -, образовав окончание - нăнда , которое в дальнейшем трансформировалось в - н да . В случае если основа предикатива заканчивалась на согласную финаль, использовалась форма - нăнда . Это можно объяснить тем, что не было необходимости использовать показатель времени в придаточном предложении.
С XVII в. суффикс - нă - также стали употреблять в препозиции к окончаниям адмиратива - кона и - квея . В дальнейшем суффикс - нă - и окончания - квея и - кона объединились в одну грамматическую форму. Постепенно перед адмиративными окончаниями стала употребляться форма - нăн -. Например: хыннамыранăнквея; анăнкона.
С конца XVII в. суффикс - нă - вошел в состав окончаний - ныня, -не, -ни, -сымнида, -сымник-ка .
С XVII в. окончания, в состав которых вошел суффикс - нă -, стали свободно использоваться со спрягаемыми прилагательными и глаголом-связкой.
В XVIII в., в связи с выходом из употребления гласной [ă], суффикс приобрел форму - н -(или алломорф - нын -) в случае употребления перед повествовательным окончанием -да , форму - нын - – перед адмиративным окончанием -куна и форму - ны - в составе причастных форм (часть окончания -нын ).
Таким образом, в XVIII-XIX вв. суффикс - нă - окончательно утратил свое модальное значение и использовался только в значении показателя настоящего времени. Также он приобрел ряд ограничений в сочетании с другими показателями.
-
2) Суффикс -кŏ- (алломорфы -ква-, -ка-)
Суффикс - кŏ - являлся показателем прошедшего времени, завершенного вида и результативного наклонения ( 확인법 ). Категорией результативного наклонения называлась грамматическая категория, которая выражала субъективное мнение говорящего о завершенности описываемого события.
Суффикс - кŏ - использовался в составе соединительных форм. При определенных фонетических условиях [к] мог выпадать.
В период новокорейского языка суффикс - кŏ - (алломорфы - ŏ -/- а-, -ква -) в препозиции к повествовательному окончанию - да трансформировался в - кŏс -, который выражал значение прошедшего времени и предположения. Он использовался в составе устойчивого финитного окончания - кŏтта , а не как отдельный суффикс. Маркер - кŏ - (и его алломорфы) утратил свое модальное значение и постепенно вышел из употребления.
В современном корейском языке суффикс - кŏ - сохранился в составе повествовательного финитного окончания авторитарной формы адрессива - кŏтта (-ŏтта ).
-
3) Суффикс -тŏ- (алломорф -та-)
Суффикс - тŏ - являлся показателем эвиденциальности ( 회상법 ), прошедшего времени и незавершенного вида. Г. Й. Рамстедт определяет значение этого суффикса как отдаленное во времени либо пространстве и уже начатое действие [Рамстедт, 1957. С. 115].
Под эвиденциальностью мы понимаем грамматическую категорию, которая указывает на факт свидетельствования говорящим событий из прошлого опыта.
В XV–XVI вв. суффикс - тŏ - мог использоваться как с глаголами, так и с прилагательными. В постпозиции к суффиксу - тŏ - использовалось окончание -ра (алломорф окончания повествовательной целеустановки -да ), который всегда употреблялся после гласной финали.
В случае употребления суффикса - тŏ - после глагола-связки (или суффикса будущего времени и прогностического наклонения - ри -), он трансформировался в форму - рŏ -. Однако в период Нового времени данной трансформации уже не происходило: суффикс - тŏ - не менял своей формы, но все еще имел такие алломорфы, как - рŏ-, -ты-/-тă- .
Суффикс - тŏ -, как уже было отмечено раньше, подчеркивал тот факт, что слушатель сообщает информацию из личного опыта (вспоминает) о действии, которое началось в прошлом. Таким образом, наблюдалась разница в значениях, которые выражали суффиксы прошедшего времени: суффикс - кŏ - указывал на то, что говорящий субъективно утверждает, что действие, начатое в прошлом, еще продолжается, а суффикс - тŏ - маркировал действие, о котором вспоминает (из личного опыта) говорящий, как прерванное. Таким образом, суффикс - тŏ - указывал на начальную стадию действия в прошлом, а суффикс - кŏ - – на факт завершенности действия в прошлом.
Появление суффикса - ŏсс -, который выражал только значение прошедшего времени, без дополнительных модальных оттенков, способствовало тому, что суффикс - тŏ - постепенно утратил темпоральное значение, сохранив только модальное.
В современном языке суффикс -тŏ- используется и как отдельный суффикс – показатель категории эвиденциальности, и в составе устойчивых соединительных окончаний (- тŏрамй-ŏн и т. п.), сложных финитных окончаний (- тŏрамнида, -тŏгунё и т. п.). Значение суффикса - тŏ - в составе этих окончаний варьируется в зависимости от формы, в которой он употребляется. Например, в атрибутивной форме - тŏн суффикс выражает темпорально-аспектуальное значение, в составе соединительных окончаний – в основном темпоральное, а в финитных окончаниях – модальное или темпоральное. Это обусловлено тем, что все эти формы сформировались в разные исторические этапы и сохранили значения, которые были свойственны суффиксу - тŏ - во время образования того или иного окончания.
-
4) Суффикс -ри-
- Суффикс -ри- являлся показателем категории прогностического наклонения (추측법) и будущего времени. Суффикс -ри- выражал предположение относительного будущего действия. Время совершения действия следовало после момента говорения, суффикс указывал на процесс совершения действия в будущем. Например: ŏтырира; хариида.
Суффикс - ри - мог употребляться в препозиции к суффиксами - тŏ - и - кŏ -. При этом суффикс - кŏ - переходил в форму - ŏ -; а суффикс - тŏ - в - рŏ -, например: - риŏ; -рирŏ .
Суффикс - ри - употреблялся в постпозиции к финитным (повествовательным и вопросительным) и соединительным окончаниям, но с атрибутивными окончаниями употреблялась только форма -л . Например: хăрира; хăрйŏ; хăрини; хăль.
В период новокорейского языка суффикс - ри - указывал на предположение относительного будущего действия, тем самым в большей степени выражал модальное значение. Кроме того, он объединился с вопросительными окончаниями - а\я, йŏ, о\йо и образовал финитные окончания - ря , рийŏ\рйŏ, рийо\ рйо .
Появление в конце XVIII в. морфемы - кесс - ослабило значение суффикса - ри -, и постепенно он перестал использоваться как отдельный суффикс.
-
5) Суффикс -тос- (алломорфы -то-,-ос, -рос, -с-)
Данный суффикс является показателем экспрессивного наклонения ( 감동법 адмиратив). Категорией экспрессивного наклонения называлась грамматическая категория, передающая чувства говорящего относительно описываемого события. Например : хă- + -тос-+ -да → хăтода ([с] выпадал).
Суффикс - тос - был основной формой данного наклонения, например: сагитосда; хăтосо-ида; хăтосонйŏ .
Алломорф - ро - использовался, если основа предикатива заканчивалась на [и], например: нирăрирода; анирода.
Алломорф - ос - использовался, если к основе предикатива присоединялся суффикс гоно-ратива - ся - или суффикс настоящего времени (изъявительного наклонения) - нă -, например: хăсяста; хăносда.
Сокращенная от суффикса - тос - форма - с - также использовалась в некоторых словоформах, например: хăсора; хăсони; хăсăнда .
После суффикса будущего времени и прогностического наклонения - ри - использовался алломорф - рос -. Например: хăтода; харирода; хăтосоида.
Суффикс - тос - мог употребляться в постпозиции к суффиксам прошедшего завершенного времени - кŏ-\-ŏ -, прошедшего незавершенного - тŏ-\-та -, будущего времени - ри -.
В период Нового времени из всех форм, которые использовались в XV–XVI вв., сохранился только суффикс - то -. Он употреблялся в составе устойчивой формы финитного окончания - тода \- рода , а не как отдельный суффикс.
-
6) Суффикс -ни-
- Является показателем подтвердительного наклонения (원칙법), под которым понимается грамматическая категория, указывающая на то, что говорящий подтверждает объективный характер описываемых фактов. Время событий – историческое прошедшее, вид – продолженный.
Модальное значение суффикс - ни - выражал в случае использования с глаголами действия, но если он присоединялся к прилагательным или глаголу-связке, то терял свое модальное значение и лишь усиливал значение ближайшего аффикса. Например: анихăнира; кăтхăнира.
В XV в. суффикс - ни - использовался только перед финитными окончаниями. Он употреблялся в препозиции к адрессивному суффиксу - и - и в постпозиции к суффиксу настоящего времени - нă -, прошедшего незавершенного - тŏ - и прошедшего завершенного - кŏ -. Суффикс - ни - не употреблялся с суффиксом будущего времени - ри -, что обусловлено его значением. Например: наиснăнииско; хăтŏнира; хакŏнира.
Частое употребление суффикса - ни - с маркером настоящего времени - нă - способствовало образованию финитного окончания - нăни . В составе этого окончания суффикс - ни - не выражал модальное значение, а усиливал темпоральное значение суффикса - нă -.
Сочетание суффиксов - нă - и - ни - встречается в повествовательных и вопросительных финитных формах. Например, в повествовательных формах ( ŏмнăнира, ăрăсинăниида ) или вопросительных ( хăнăнийŏ, хăнăнииска ).
В XVI в. закрепилась тенденция включения суффикса - ни - в состав финитных окончаний, где он уже не выражал модальное значение, а только усиливал значение других суффиксов или указывал на реальный характер события.
В результате объединения аффикса -ни- и вопросительных частиц - ка и - ко образовались новые вопросительные окончания - ня \нйŏ и - нё соответственно. Это обусловлено выпадением [к] в случае употребления в препозиции к [и]: ни + ка → ни + а → ня.
В XVI в. из всех алломорфов вопросительного финитного окончания ( ы ниа, ы ния, ы нийŏ, ы нио ) чаще употреблялась форма -(ы) нио , которая в результате стяжения приобрела форму -(ы) нё . Например: джйŏкынио ; хăнё.
Еще одним широко используемым вопросительным окончанием было - ня , которое объединилось с аффиксом - нă -, утратившим к этому времени свое модальное значение и образовало вопросительное финитное окончание - нăня (-нăня→-ныня ), которое после выхода из употребления буквы [ă] приобрело форму - ныня . Например: анйŏннăня; пырыня; канё.
Итак, тенденция к утрате суффиксом - ни - модального значения усилилась в XVI–XVII вв. В XIX в. суффикс - ни - окончательно перестал использоваться как самостоятельный аффикс и в некоторых формах стал трудно выделяемой частью в составе финитных окончаний. Например, вопросительное окончание - ныня включает маркер изъявительного наклонения - нă -, показатель подтвердительного наклонения - ни - и вопросительную частицу - ка , при этом маркеры наклонений утратили свои значения, и в современном языке форма является единым финитным окончанием. Например: хăнира → хăда.
Аффикс - ни - входил также в состав вопросительного окончания - нииско , который объединял следующие показатели: аффикс - ни -, аффикс адрессива - (ы)и - и вопросительную частицу - ко . В результате выпадения буквы ㅇ [ нъ ] окончание трансформировалось в -(ы)ниско , а затем упростилось до -(ы)ни‘ . Именно в этой форме окончание стало широко использоваться как финитное. Например: пăлькăни; ŏстŏхăсини.
В период новокорейского языка суффикс - ни - указывал на объективное, реальное осознание действия или состояния как такового, безотносительно времени его совершения, развития или полноты совершения действия. Он уже не употреблялся самостоятельно, а вошел в состав некоторых финитных окончаний, многие из которых дошли и до наших дней.
В современном корейском языке суффикс встречается в составе финитных окончаний официально-вежливой формы адрессива ( сымнида, ниида и т. п.) и в составе вопросительных окончаний авторитарной или фамильярной форм адрессива (- ни, - ныня и т. д.).
Процесс сокращения состава грамматических форм продолжался вплоть до конца XVIII в. Появление новых темпоральных суффиксов постепенно вытеснило из употребления старые формы, суффиксы наклонений утрачивали свои значения, входя в состав финитных окончаний.
В результате проведенного анализа системы наклонений корейского языка в период XV– XIX вв. можно сделать следующие выводы.
-
1. Некоторые суффиксы (- тŏ-, -кŏ-, -нă -) являлись многозначными и выражали одновременно модальное, аспектуальное и темпоральное значения. Суффиксы - ни - и - ри - выражали только модальное значение. Таким образом, мы можем наблюдать тесную взаимосвязь грамматических категорий.
-
2. Появление новых темпоральных суффиксов постепенно вытеснило старые формы из употребления.
-
3. В XV–XIX вв. наблюдается процесс сокращения количества суффиксов, а также их алломорфов.
-
4. Суффиксы утрачивали одно из значений (темпорально-аспектуальное или модальное).
-
5. Фонетические изменения привели к морфологическим изменениям.
-
6. Показатели наклонений вошли в состав финитных окончаний, сохранив или утратив свои значения. При этом не всегда их можно выделить в составе окончания, в некоторых случаях они стали нулевыми аффиксами.
-
7. В XV–XIX вв. значения наклонений выражались синтетическим средствами, а в современном корейском языке используются и аналитические средства образования (недействительное наклонение, наклонение видимости действия и т. д.). Данный факт способствовал увеличению количества типов наклонений.
-
8. В современном корейском языке показатели наклонений уже не выражают модально-темпорально-аспектуальных значений, только модальное.
Функционирование наклонений представляется очень сложным процессом, поскольку оно непосредственно отражает индивидуальный склад ума говорящего и тем самым относится как к речи, так и языку. Недостаточно жесткие рамки грамматических наклонений в любое время могут быть нарушены. Проведенное исследование помогает лучше понять основные функции и особенности употребления показателей категории наклонения в корейском языке.
Список литературы Становление и развитие показателей категории наклонения в корейском языке
- Кан Кильун. Кугǒса чǒнсǒль [강길운 국어사전설]. Исследования истории корейского языка. Сеул: Хангук мунхваса, 2004. 442 с.
- Квон Чэиль. Хангугǒ мунпǒпса [권재일 한국어 문법사]. История грамматики корейского языка. Сеул: Пакиджǒнг, 1998. 320 с.
- Ко Ёнгын. Пхёджун чунсе кугǒ мунппǒмнон [고영근 표준 중세국어 문법론]. Нормативная грамматика средневекового корейского языка. Сеул: Тхапчульпханса, 1995. 369 с.
- Ли Гимун. Кугǒса [이기문 국어사]. История корейского языка. Сеул: Хангук пансонтхонсин тэхаккё, 2000. 238 с.
- Ли Йǒнгйǒн. 17 сеги кугǒ чонгёлǒмие тэхан йонгу [이영경17세기 국어의 종결어미에 대한 연구]. Исследование финитных окончаний корейского языка 17 века. Диссертация. Сеул, 1992.
- Ли Кванхо. Кынтэ кугǒ мунпǒпнон [이관호 근대국어 문법론]. Грамматика новокорейского языка. Сеул: Тхэхакса, 2004. 544 с.
- Ли Юги. Чунсе кугǒва кынтекугǒ мунджан чонгйǒлхйǒншике йонгу [이유기 중세국어와 근대국어 문장종결형식의 연구]. Исследования форм конечной сказуемости корейского языка средневековой грамматики и грамматики Нового времени. Сеул: Тосǒпхульпхан йоллак, 2001. 274 с.
- Пак Джейǒн. Хангугǒ янтхе ôми йǒнгу [박재연한국어 양태 어미 연구]. Исследования модальных форм в корейском языке. Сеул: Тхабчхульпханса, 2004. 386 с.
- Рамстедт Г. Й. Введение в алтайское языкознание: морфология / Под ред. Н. А. Баскакова. М.: Изд-во иностр. лит., 1957. 255 с.
- Трофименко О.А. История корейского языка: фонетика, морфология: Учеб. пособие. Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2011. 116 с.
- Холодович А. А. Материалы по грамматике корейского языка XV в. Морфология / Сост. Л. Р. Концевич. М.: Наука, 1986. 64 с.
- Холодович А. А. Материалы по грамматике корейского языка XV в. Фонетика / Сост. Л. Р. Концевич. М.: Наука, 1986. 68 с.
- Хо Ун. Ури йетмальбон [허웅 우리 옛말본]. Грамматика старокорейского языка. Сеул: Семмунхваса, 1988. 996 с.
- Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1957. 187 с.
- Lee Ki-Moon, Ramsey S. R. A History of the Korean Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 336 p.
- Martin S. E. A Reference Grammar of Korean: A Complete Guide to the Grammar and History of the Korean Language. Tokyo: Charles E. Tuttle Publishing Company, 1992. 1044 p.