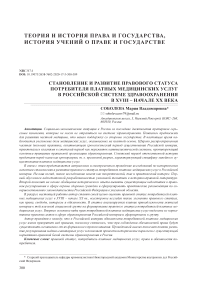Становление и развитие правового статуса потребителя платных медицинских услуг в российской системе здравоохранения в XVIII - начале XX века
Автор: Соболева Мария Владимировна
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 3 т.17, 2020 года.
Бесплатный доступ
Социально-экономическая ситуация в России за последние десятилетия претерпела серьезные изменения, которые не могли не отразиться на системе здравоохранения. Появились предпосылки для развития частной медицины, что нашло поддержку со стороны государства. В настоящее время наблюдается увеличение доли медицинских услуг, оказываемых на платной основе. Широко распространенная частная (вольная) практика, охватывающая хронологический период существования Российской империи, трактовалась властями в советский период как пережиток капиталистической системы, противоречащий основным принципам правильной организации здравоохранения. Советский период отечественной истории предстает перед нами как хроноразрыв, т. е. временной разрыв, характеризующий специфику линейного существования платных медицинских услуг. В связи с этим представляется актуальным и своевременным проведение исследований по историческим аспектам становления и развития правового статуса потребителя платных медицинских услуг в Российской империи. На наш взгляд, такое исследование имеет как теоретический, так и практический интерес. Первый обусловлен недостаточной разработанностью указанной тематики в историко-правовой литературе. Второй позволит на основе обобщения исторического опыта выявить существующие недостатки в правовом регулировании в сфере охраны здоровья граждан и сформулировать практические рекомендации по совершенствованию законодательства Российской Федерации в указанной области. В ракурсе настоящей работы автор ставит своей целью оценить правовой статус потребителей платных медицинских услуг в XVIII - начале XX вв., всесторонне исследуя такие элементы правового статуса, как права, свободы, интересы и обязанности. В статье анализируется влияние принадлежности жителей империи к той или иной социальной группе на формирование правового статуса потребителей платных медицинских услуг. Впервые основные виды прав потребителей платных медицинских услуг выделены из нормативных правовых актов в сфере здравоохранения Российской империи и сформированы в группу. Автор приходит к выводу, что в Российской империи обязанности потребителей платных медицинских услуг имели приоритет над правами, поскольку считалось, что при соблюдении обязанностей права будут существовать независимо от их формального провозглашения. Проведенный анализ помогает понять развитие регулирования медико-санитарных услуг и позволяет провести исторические параллели с существующей нормативно-правовой базой системы здравоохранения в России.
Правовой статус, потребитель платных медицинских услуг, права и обязанности потребителя
Короткий адрес: https://sciup.org/143172754
IDR: 143172754 | УДК: 347.4 | DOI: 10.19073/2658-7602-2020-17-3-300-309
Текст научной статьи Становление и развитие правового статуса потребителя платных медицинских услуг в российской системе здравоохранения в XVIII - начале XX века
Право является необходимым условием существования и развития как всего общества в целом, так и сферы здравоохранения. История показывает, что, в отличие от других сфер человеческой деятельности, медицинская деятельность получила свое нормативное регулирование сравнительно недавно. Следует согласиться с утверждением Я. Дргонца и П. Холлендера о том, что медицина существовала вне закона не веками, а тысячелетиями, касаясь правовых норм в виде исключения [3, с. 5].
Становление медицинского дела в России относится к первой половине XVIII столетия. Несмотря на то что главной заботой государства было медицинское обеспечение действующей армии, Петр I инициировал развитие гражданской медицины как отрасли государственной политики и предпринял первые шаги по созданию ее законодательной базы [9, с. 57–58]. В 1706 г. наряду с созданием первого госпиталя император ввел систематическое преподавание медицинских наук. Так началась подготовка медицинских кадров в России. В 1712 г. госпитальная школа выпустила первых дипломированных русских врачей [13, с. 128].
Как показывает проведенный нами в историческом аспекте анализ, первым законодательным актом, посвященным платным медицинским услугам, стал Сенатский указ 1754 г. об учреждении школ для обучения повивальному искусству.
По смыслу закона, беременным женщинам, находящимся в родах, оказывались платные услуги, о чем свидетельствуют два приложения к указу. В первом приложении содержалось расписание, составленное исходя из ранга роженицы, какую оплату следует производить повивальным бабкам за их труд во время родов1. Размер оплаты зависел от того, как проходили роды. Например, «генеральша-фельдмаршальша» за легкие роды должна была платить 25 руб., за трудные – 35 руб.; «генеральша-маэорша», соответственно, 12 руб. и 20 руб. Второе приложение представляло собой расписание, в котором указывалось, какая оплата должна быть произведена непосредственно в казну высшего медицинского административного органа – Медицинской канцелярии – на содержание «бабичьяго дела» [13, с. 146–147]. Причем услугодатель весьма тщательно следил за порядком оплаты оказанной услуги и с отказавшимся платить поступали по закону о недоимке государственных сборов2.
В 1789 г. императрица Екатерина II утвердила Устав, согласно которому врач имел право требовать от больных за свой труд достойное вознаграждение, которое не было бы в тягость «маломощным больным», а приносило удовлетворение обоим. Врачам, находившимся на государственной службе и получавшим жалование, запрещалось взимать плату за услуги. В случае их врачевания вне службы Уставом был установлен следующий размер оплаты: докторам за посещение в городе 1 руб., за городом 2 руб., за консультацию 5 руб.; лекарям за визит в городе 50 коп., за городом 1 руб., за консультацию 3 руб.; повивальным бабкам за помощь в трудных родах 5 руб. Медицинская комиссия не оставляла завышенные требования медицинского персонала по оплате услуг без взыскания в соответствии с законом. От людей состоятельных, которые хотели выразить свою благодарность за оказанную им услугу, разрешалось принимать вознаграждение сверх суммы, указанной в законе. «Неимущие» больные были доверены человеколюбию врачей и бесплатному пособию3.
Бесплатные медицинские услуги в России в XVIII – начале XX вв. реализовывались в порядке опосредованной оплаты медицинским учреждениям со стороны плательщиков за больного. Так, на правах неимущих принимались «казенного звания люди», лечение которых оплачивалось соответствующими военными и гражданскими ведомствами, а также городские обыватели – купцы и мещане, за которых ежегодно производилась плата купеческими и мещанскими обществами4. Кроме того, согласно «Порядку приема больных в Градские больницы», введенному губернатором Санкт-Петербурга в 1804 г., чиновники, купцы и мещане других губерний, помещичьи крестьяне и служащие могли пользоваться услугами лечебного учреждения, внося ежемесячную плату в размере 7 руб. 50 коп.5
В некоторых случаях за неплатежеспособность больного расплачивалось сельское общество. По данным Бессарабской губернии, были невероятные случаи, когда за ежемесячную неуплату взысканные после выздоровления отправлялись с заключенными «по этапу» и сдавались под расписку волостным управам, чтобы заручиться документами в целях взыскания платы [2, с. 10–11].
Право владельцев фабричных и мануфактурных заведений содержать врачей на собственные средства было законодательно закреплено в 1832 г.6 В 1834 г. помещики получили официальное разрешение нанимать медицинский персонал для крестьян и учреждать больницы в своих имениях7.
Определенный интерес вызывает представление министра внутренних дел об увеличении больничного сбора в городе Москве. Больничный сбор в размере одного рубля двадцати пяти копеек с человека в год взимался на содержание больницы для чернорабочих в пользу московской казны. Этим сбором облагались все лица без различия звания, которые занимались каким-либо видом работ и занятий, как у частных лиц, так и в различных учреждениях, на фабриках и заводах в пределах Москвы. Лица, обязанные платить больничный сбор, вносили указанную плату в городскую кассу. В удостоверение уплаты плательщику выдавалась квитанция с номером, под которым поступившие деньги были записаны на приход. Лица, уплатившие больничный сбор, имели право обслуживаться бесплатно в городских больницах8. В случае неуплаты больничного сбора лица подлежали наказанию в соответствии со ст. 60 «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» 1864 г., а виновные работодатели этих лиц подлежали ответственности по ст. 61 данного Устава9.
В некоторых случаях медицинские учреждения поддерживались за счет пожертвований членов благотворительных обществ. Часто их труд не был бескорыстным – за свою благотворительность они получали права государственных служащих и соответствующие классные чины [12, с. 328–332].
Как видим, исполнитель в лице частного врача или медицинского учреждения, предоставляющего услугу, не делал этого бесплатно, для него такая деятельность всегда была возмездна, вопрос только в источниках оплаты. В соответствии с этим больной, одержимый болезнью, и беременная женщина, нуждавшаяся в услугах повивальной бабки, были по существу потребителями платных медицинских услуг.
Проблема заключается в самом определении термина «потребитель». В дореволюционном законодательстве дефиниция «потребитель» отсутствовала и не формулировалась. Поскольку законодатель не предусмотрел этого понятия, обратимся к словарям, которые дают подобное определение.
Согласно толковому словарю Даля слово «потребитель» происходит от слова «потреблять», что означает «на потребу»10. В соответствии с определением, данном в Большом юридическом словаре, потребитель – это гражданин, имеющий намерение заказать или заказывающий услуги или использующий их результаты для личных нужд11. Из приведенных определений следует, что больной или беременная женщина «заказывали» медицинскую услугу для себя и являлись потребителями точно так же, как и любой другой заказывающий услугу для удовлетворения своих личных потребностей.
К первой половине XIX в. законодательная база медицинской деятельности постепенно начала приобретать четкие очертания. Устав врачебный 1857 г. без существенных изменений, с некоторыми дополнениями в 1892 и 1905 гг., подтвердил принятые ранее правовые положения об обязанности потребителей медицинских услуг платить (ст.ст. 550–553)12.
Подчеркнем, что правовой статус личности основывается на обладании каждым человеком не только обязанностями, но и правами. Специфика правового статуса потребителя платных медицинских услуг на протяжении XVIII – начала XX вв. заключалась в законодательном декларировании обязанностей при отсутствии нормативного закрепления его прав.
Интересным представляется вопрос о том, возможно ли, чтобы законодатель, урегулировав только обязанности, обозначил их приоритет над правами. Следует ли считать, что отношения по оказанию платных медицинских услуг в дореволюционной России были урегулированы, если только обязательства потребителей были закреплены законом?
Принцип единства прав и обязанностей, хорошо известный юристам, заключается в том, что права являются неотъемлемой частью правового статуса человека, тесно связанной с его обязанностями. Не ставя под сомнение положения этого принципа, проанализируем нормативные правовые акты Российской империи в сфере здравоохранения, в которых мы попытаемся рассмотреть права потребителей медицинских услуг.
Недостаток законодательного обеспечения правового статуса можно объяснить тем, что вопрос о необходимости правового регулирования отношений «врач – больной» в дореволюционном обществе в целом был достаточно спорным. Долгое время считалось, что такие отношения регулируются исключительно этическими нормами, без применения права, и многие моральные нормы находили свое отражение в уставах, клятвах, кодексах.
Впервые нормы врачебной этики были прописаны в Генеральном регламенте о госпиталях в 1735 г.: лекари должны быть «богобоязненны, смиренны… с больными ласково и усердно об-ращаться»13. Закреплены нормы медицинской морали были в своеобразной клятве – «Присяге повивальных бабок по должности звания их», утвержденной Правительствующим Сенатом 5 мая 1754 г., согласно которой повивальные бабки обязаны были немедленно днем или ночью явиться к роженице, независимо от ее положения и достоинства, и помогать ей, проявляя усердие [13, с. 148; 5, с. 63].
Кроме того, Устав повивальным бабкам 1789 г. определял, какой должна быть повиваль- ная бабка: «Благонравна, доброго поведения, скромна и трезва, дабы во всякое время в состоянии была дело свое исполнить»14. Первый долг каждого врача, как сказано в ст. 114 Устава врачебного 1857 г., – быть прежде всего гуманным и готовым помочь «всякого звания людям»15. Все это определило право потребителей платных услуг на уважительное отношение со стороны медицинского персонала.
Основной целью профессиональной деятельности врача является спасение жизни человека. Исходя из этого все вопросы нормативного обеспечения здравоохранения должны базироваться именно на этом постулате.
Законы XVIII – начала XX вв. устанавливали вполне определенные и четкие требования к квалификации медицинского персонала: медицинская и фармацевтическая деятельность разрешена лицам, получившим соответствующее образование, имеющим свидетельство или дип-лом16. В 1721 г. впервые личным указом Петра I было установлено требование к медицинской практике: никто не смел заниматься медицинской деятельностью без освидетельствования. Нарушение грозило штрафом и телесными наказаниями, иностранцам – высылкой17. Устав повивальным бабкам 1789 г. определял: «Каждая повивальная бабка должна быть в звании своем испытана, удостоена и присягой обязана»18.
В 1810 г. министром народного просвещения были подготовлены строгие Правила испытания медицинских чиновников в медико-хирургических академиях и университетах губернских городов (Москвы, Казани, Харькова) для получения медицинских степеней и званий, а также присвоения соответствующих прав. Каждый испытуемый обязан был перед экзаменом представить свидетельства о своем поведении и окончании курса, подписанные начальством того медицинского учреждения, где он обучался. Те, кто хотел получить степень доктора медицины и хирургии, должны были представить свидетельство о трех важных операциях, успешно выполненных на живых людях. Особенный интерес представляет ст. III настоящих Правил, определяющая порядок испытаний «глазных и зубных лекарей». Надо заметить, что университетский устав 1804 г. не содержал сведений о медицинской специализации19. Дипломированные специалисты, получившие образование в медицинских клинико-хирургических институтах Императорского Московского, Казанского и Харьковского университетов, стали врачами общей практики. Подготовка «глазных и зубных лекарей» проходила вне государственных медицинских учреждений. Государство оставило за собой лишь функцию профессиональной атте-стации20. В 1845 г. была расширена и дополнена законодательная база, заложенная в 1810 г., связанная с государственной аттестацией медиков21.
С конца XIX в. ситуация в области медицинской практики существенно изменилась в связи с развитием специализации. Стали открываться частные высокодоходные общие и специализированные (стоматологические, глазные, гинекологические и другие) медицинские учреждения. Примечательно в этом отношении, что Устав частной больницы 1903 г., правовые нормы которого определяли деятельность учреждения, гласил, что как местные жители, так и приезжие могли пользоваться за умеренную плату одновременной врачебной консультацией двух, трех и более врачей и даже профессоров-специалистов22.
Небезынтересно остановиться на вопросе развития медицинского профессионализма жен- щин. В истории отечественной медицины гендер играл первостепенную роль в формировании имиджа профессии. Известно, что долгое время профессия врача была исключительно мужской. Только к началу XX в. женщины-врачи смогли утвердиться в нескольких специализациях – в гинекологии и педиатрии, на целое поколение отстав в своем продвижении к карьере в области специализации. Эта гендерная проблема созвучна истории женщин-врачей в американской и британской медицине, где признание женщин в качестве профессиональных коллег получило значительную поддержку со стороны некоторых признанных медицинских работников к концу XIX в., несмотря на то что многие врачи-мужчины все еще не были убеждены в этом [14; 15].
Врачебный устав 1857 г. позволял успешно сдавшим экзамены выпускникам российских высших медицинских учебных заведений заниматься врачебной практикой без ограничений (ст.ст. 97, 99)23. Иностранным врачам дозволялось свободно практиковать только после получения разрешения Медицинского Совета Министерства внутренних дел, а в некоторых случаях и после прохождения дополнительных испытаний (ст. 110)24. Те же правила применялись и к врачам, занимавшимся частной практикой (ст. 125)25.
Важно отметить, что организационно-правовой контроль со стороны государства за профессиональной медицинской деятельностью постоянно осуществлялся административными органами, созданными и сменявшими друг друга на определенном историческом этапе развития страны: Аптекарским приказом (с 1581 г.), Медицинской канцелярией (с 1721 г.), Медицинской коллегией (с 1763 г.), Медицинским департаментом при Министерстве внутренних дел (с 1803
по 1917 гг.). Так, статья 128 Устава врачебного 1905 г. содержит предписание Медицинскому департаменту Министерства внутренних дел ежегодно создавать список «медицинских чиновников», как вольнопрактикующих, так и состоящих на государственной службе для контроля их деятельности26.
Таким образом, представляется очевидным, что потребители платных медицинских услуг имели право на квалифицированные медицинские услуги и консультации специалистов по их просьбе.
Особое значение имеет информация, составляющая врачебную тайну – совокупность не подлежащих огласке сведений о болезни больного, полученных от него или в ходе его обследования и лечения. В дореволюционный период право больного на защиту сведений, составляющих врачебную тайну, реализовывалось в требовании врачебной этики, предъявляемом врачу «факультетским обещанием» – клятвой представителей медицинского сословия, объединенных единством образования, научных интересов и нравственной значимостью в обществе. Целью сохранения врачебной тайны являлось предотвращения возможного морального вреда больному [13, с. 4]. При разглашении врачебной тайны лица, виновные в этом, несли ответственность в соответствии с действующим законодатель-ством27. В этом отношении в британской медицине профессия врача ассоциировалась с католическим священством: врач должен хранить тайну пациента точно так же, как священник не имеет право разглашать тайну исповеди [16].
Право каждого человека свободно распоряжаться своей личностью тесным образом соприкасается с медицинской деятельностью. Впервые в судебной практике вопрос об уголовной ответственности врача за лечение без согласия больного был поднят в 1901 г. Судебное решение по делу доктора медицины Модлинского, которому было предъявлено обвинение по ст. 1468 Уложения о наказаниях уголовных и исправи- тельных 1885 г., предусматривающей причинение смерти деянием, хотя и неприступным, но явно неосторожным, привлекло внимание общественности, и вопрос о значении согласия больного на лечение был подвергнут всестороннему обсуждению в медицинской и юридической печати [11, с. 3–8]. В статье 142 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. медицинская деятельность против воли больного, хотя и без серьезных травм или увечий, считалась насилием28. Однако право больного на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и отказ от него законом не гарантировалось. Кроме того, не существовало никаких юридических норм, обязывающих врача спрашивать согласие больного. Только обвинительный вердикт по делу доктора Модлинского в 1901 г. показывает нам, насколько согласие было необходимо в то время, потому что каждое вмешательство могло нанести вред больному, и это по закону влекло юридическую ответственность. Следовательно, больной имел право рассчитывать на получение информации о состоянии своего здоровья и последствиях отказа от лечения.
Осознавая особое значение русской церкви в дореволюционном обществе, необходимо также подчеркнуть право больного на допуск к нему священнослужителя для отправления религиозных обрядов. Еще Воинский устав 1716 г. утверждал в штат полевого лазарета священника29. В штат некоторых больниц, где были учреждены церкви, назначались по согласованию губернских властей с местными епархиальными властями священнослужители [7, с. 814]. По закону в частных больницах больным разрешалось приглашать священнослужителя соответствующего вероисповедания для совершения «религиозных треб» по их просьбе30. Таким образом, были созданы условия для общения больного со священнослужителями. Соблюдение этого права в Российской империи являлось одной из форм проявления уважительного отношения к больному.
Существенной особенностью российского законодательства на протяжении XVIII – начала XX вв. является то, что отсутствие законодательно закрепленных прав потребителей платных медицинских услуг обеспечивалось главным образом соблюдением правил, устанавливающих основные профессиональные обязанности служащих медицинских чинов, вольнопрактикующих врачей, акушеров и повивальных бабок. Нормы, определявшие основные обязанности медицинского персонала, содержались во второй части Устава врачебного 1845 г., вобравшего в себя все предыдущие законы31. За неисполнение своих обязанностей, а также за незаконное и ненадлежащее лечение медицинский персонал привлекался к ответственности по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. с последующими дополнениями в изданиях 1857, 1866 и 1885 гг. (ст.ст. 1078–1092 изданий 1845 и 1857 гг.; ст.ст. 870–880 изданий 1866 и 1885 гг.)32.
В связи с вышеизложенным представляется целесообразным сформировать группу основных видов прав потребителей платных медицинских услуг, которые мы выделили из нормативных правовых актов в сфере здравоохранения Российской империи:
– право на квалифицированные медицинские услуги;
– право на консультацию специалистов;
– право на защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
– право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и отказ от него;
– право на допуск к больному (умирающему) священнослужителя.
Вместе с тем важно при рассмотрении прав потребителей платных медицинских услуг говорить о правах и свободах отдельных категорий жителей империи, поскольку в дореволюционной России одним из основных факторов, влияющих на правовой статус человека, было его происхождение [6, с. 1–10].
В ХVIII в. правовой статус личности регулировался различными законодательными актами, основные из которые к первой половине XIX в. были кодифицированы в Своде законов о состояниях, образовавших 9-й том общего Свода законов Российской империи. Согласно закону о состояниях права и свободы российских граждан существенно различались по признаку их принадлежности к той или иной социальной группе. Основания и порядок их ограничения базировались на принципе: чем выше правовой статус, тем меньше человек подвергался ограничениям в своих правах [4].
Не стал исключением и сектор здравоохранения. Уровень медицинского обслуживания зависел от ряда экономических, организационных и территориальных условий. Представители дворянства как самого привилегированного сословия дореволюционного общества были наименее ограничены в своих свободах. По закону в городах и уездах, где преобладало дворянство, помещикам разрешалось иметь на своем содержании врачей, пользовавшихся правами действительной государственной службы (ст. 83 Устава врачебного 1857 г.)33.
Причины недовольства городских и сельских обывателей возможностями получения медицинской помощи были связаны с целым рядом обстоятельств. Во-первых, это нехватка врачей и невозможность заменить их фельдшерами [1, с. 54]. Так, в каждом уезде, согласно ст. 74 Устава врачебного 1857 г., был только один уездный врач и дополнительно имелись старшие и младшие лекарские ученики. Такое количество медицинского персонала было несоизмеримо с потребностями населения. Во-вторых, недостаточное количество медицинских учреждений. В некоторых губерниях имелось от одной до четырех больниц, да и то только в губернских, а иногда и в уездных городах, а у сельского населения совсем не было больниц [9, с. 115–116; 2, с. 271–272]. Целые обширные районы были лишены врачебной помощи, несмотря на то что крестьяне регулярно в течение не одного десятка лет платили земские сборы на земскую медицину, но только раз в год видели врача [5, с. 23]. Между тем состоятельные люди, используя свои финансовые возможности, всегда могли получить медицинское обслуживание, обратившись к услугам частнопрактикующих врачей.
За дополнительную плату обеспеченные больные могли пользоваться улучшенными условиями обслуживания в медицинских учреждениях Российской империи. Например, больница для душевнобольных в Санкт-Петербурге – «Всех Скорбящих Радости» – оказывала платные услуги: за содержание и лечение больных в общих палатах больницы, чьи родственники или опекуны хотели обеспечить их улучшенным питанием (пансионерский стол), платили 30 рублей в месяц, так что по отношению ко всем остальным пособиям эти лица находились в таком же положении, как и больные, которые платили 10 рублей в месяц34.
Представители низших слоев – рабочие и крестьяне – не могли в полной мере реализовать свои права и законные интересы. Государственные крестьяне могли рассчитывать на государственную опеку, в том числе и на бесплатное медицинское обслуживание, но услуги медицинского персонала им были недоступны
[8, с. 105–107]. В больницах, которые в первую очередь предназначались для бесплатного лечения неимущих, как отмечалось выше, подавляющее большинство составляли гражданские и военные чины35. Нехватка средств побуждала врачей медицинских учреждений в первую очередь принимать тех больных, за которых плату вносили соответствующие ведомства и общества, или больных, которые сами оплачивали свое лечение [10, с. 122].
Подводя итог, можно сказать, что особенностью правового статуса потребителя платных медицинских услуг на протяжении XVIII – начала XX вв. являлось законодательное декларирование его обязанностей при отсутствии нормативного закрепления прав. В Российской империи обязанности потребителей платных медицинских услуг имели приоритет над правами, поскольку считалось, что при соблюдении обязанностей права будут существовать независимо от их формального провозглашения. И наоборот, обязанности не всегда будут выполняться без их формального закрепления.
Список литературы Становление и развитие правового статуса потребителя платных медицинских услуг в российской системе здравоохранения в XVIII - начале XX века
- Будко А. А. История медицины Санкт-Петербурга XIX - начала XX в. СПб.: Нестор-История, 2010. 400 с.
- Двенадцатый Пироговский съезд. Петербург, 29 мая - 5 июня 1913 г.: [Протоколы заседаний. Доклады] / О-во рус. врачей в память Н. И. Пирогова. СПб., 1913. Вып. 2. 512 с.
- Дргонец Я., Холлендер П. Современная медицина и право / пер. со словац. М.: Юрид. лит., 1991. 336 с.
- Кодан С. В. Сословное законодательство в политике российской верховной власти (1800-1850-е гг.) // Юридические исследования. 2012. № 2. С. 117-145. DOI: 10.7256/2305-9699.2012.2.152
- Куликова С. Г. Деятельность земства в области медицины и санитарии (на примере Московской и Тверской губернии) // Вестник Тверского государственного университета. Сер.: История. 2019. № 1 (49). С. 19-34.
- Маркус М. А. Краткое руководство для врачей к познанию российских законов, учреждений и государственной службы, изданное председателем Медицинского совета. СПб.: Тип. Э. Праца, 1843. 198 с.
- Мыш М. И. Положение о земских учреждениях 12 июня 1890 года со всеми относящимися к нему узаконениями, судебными и правительственными разъяснениями. 5-е изд., испр. и значит. доп. СПб.: Тип. А. Бенке, 1910. 939 с.
- Пристанкова Н. И. Правовое регулирование врачебно-санитарной деятельности в Российской империи: XIX - начало XX вв.: дис.... канд. юрид. наук. СПб., 2007. 215 с.
- Скороходов Л. Я. Краткий очерк истории русской медицины. Л.: Практическая медицина, 1926. 262 с.
- Смирнова Е. М. Становление системы здравоохранения в российской провинции, 1775-1914 гг. (по материалам региона Верхней Волги): дис.... д-ра ист. наук. Ярославль, 2017. 470 с.
- Трегубов С. Н. Уголовная ответственность врача за врачевание без согласия больного. СПб.: Сенат. тип., 1904. 54 с.
- Хитров А. А. Дом Романовых и российская благотворительность. Вторая половина XIX - начало XX века: по материалам Санкт-Петербурга - Петрограда и Петербургской - Петроградской губернии: дис. … д-ра ист. наук. СПб., 2009. 504 с.
- Чистович Я. А. Очерки из истории русских медицинских учреждений XVIII столетия. СПб.: Тип. Я. Трея, 1870. 416 с.
- Digby A. Restoring the balance: women physicians and the profession of medicine, 1850-1995 // Medical History. 2003. Vol. 47, no. 1. Р. 130-131.
- McCarthy L. Finding a Space for Women: The British Medical Association and Women Doctors in Australia, 1880-1939 // Medical History. 2018. Vol. 62, no. 1. Р. 91-111.
- DOI: 10.1017/mdh.2017.74
- O'Brien J. The Obligation of Professional Men to Secrecy // British Medical Journal. 1860. № 1 (159). Р. 37.