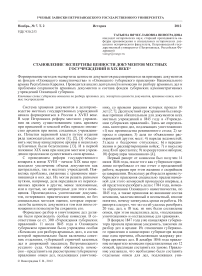Становление экспертизы ценности документов местных госучреждений в XIX веке
Автор: Виноградова Татьяна Вячеславовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7 (128) т.2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Формирование методов экспертизы ценности документов рассматривается на примерах документов из фондов «Олонецкого наместничества» и «Олонецкого губернского правления» Национального архива Республики Карелия. Проводится анализ деятельности комиссии по разбору архивных дел и проблемам сохранности архивных документов и состава фондов губернских административных учреждений Олонецкой губернии.
Губернские комиссии по разбору архивных дел, экспертиза ценности документов, архивные описи, местные госучреждения
Короткий адрес: https://sciup.org/14750258
IDR: 14750258 | УДК: 930.253
Текст научной статьи Становление экспертизы ценности документов местных госучреждений в XIX веке
Система хранения документов в делопроизводстве местных государственных учреждений начала формироваться в России в XVIII веке. В ходе Петровских реформ местного управления на смену существовавшим здесь архивам при приказной и земской избах пришло множество архивов при вновь созданных учреждениях. Попытки верховной власти путем издания ряда законодательных актов [1], [2], [3] объединить местные канцелярские архивы в несколько публичных были безуспешны [13]. И в первой половине XIX века при каждом местном учреждении продолжали существовать свои архивы.
С проведением реформ государственного аппарата в конце XVIII – начале XIX века происходило увеличение объема документов как центральных, так и местных учреждений. Появились проблемы, связанные с хранением накопившихся в них дел. Их могли решать разными путями, например, дела передавали из переполненных архивов в другие, менее заполненные, или в пустые, но непригодные для этого помещения. Производилось уничтожение документов, потерявших практическое значение, но без специальных методов оценки, которые определяли бы ценность документа в том или ином отношении и позволили бы сохранить его.
Формально разбор и уничтожение дел должны были производить особые комиссии. В соответствии со ст. 300 «Учреждения губернских правлений» 11 июля 1845 года в Олонецком губернском правлении была учреждена особая «Комиссия для разбора архивных дел», в состав которой первоначально были включены советник отделения, губернский стряпчий казенных дел и дворянский заседатель Петрозаводского уездного суда. Основная обязанность комиссии – представить на рассмотрение губернскому правлению описи дел, подлежащих уничтоже-
нию, со времени решения которых прошло 10 лет [7; 7]. Десятилетний срок хранения был впервые признан обязательным для документов всех местных учреждений в 1845 году в «Учреждении губернских правлений». Здесь же определялись категории дел, подлежащих уничтожению: «1) все производства ревизионного стола; 2) запросы и справки; 3) дела по объявлению распоряжений других мест; 4) наряды ведомостей; 5) дела о бессрочно отпускных; 6) о передвижении и расквартировании войск; 7) о высылке лиц; 8) об арестантах; 9) по рекрутским наборам; 10) формуляры чиновников» [4].
Первый рапорт от комиссии был получен 14 июня 1846 года, после того как губернское правление потребовало от нее отчет о проделанной работе, выразив при этом желание о скорейшем ее завершении. Поскольку разбор дел в архиве губернского правления специально предназначенной для этого комиссией проводился впервые, а ей предстояло разобрать дела с 1784 года, момента образования Олонецкого наместничества, по 1845 год, а также принимая во внимание состав комиссии, малочисленный и неопытный, вполне понятно, почему затянулись сроки ее работы. Из рапорта следует, что за год ей удалось разобрать 20 тыс. дел, к 18 тыс. из них были составлены описи, при этом выделялись дела, «подлежащие уничтожению» и «оставленные для хранения».
В феврале 1847 года уже канцелярия губернатора просила правление уведомить, закончен ли разбор дел в архиве. Из отношения губернского правления в канцелярию губернатора видна еще одна причина, объясняющая задержку разбора архивных дел. В декабре 1846 года правление возвратило комиссии представленные ею 12 описей, предписав составить их заново. Правление указывало, что необходимо было составить отдельные описи для дел, подлежащих уни- чтожению с разрешения министра внутренних дел, и дел, которые могли быть уничтожены по распоряжению губернского правления, а не так, как это сделала комиссия, объединив их [7; 17]. Таким образом, в результате работы комиссий должны были образоваться три категории дел: оставленные для хранения в архиве, подлежащие уничтожению по истечении 10 лет с разрешения министра внутренних дел, подлежащие уничтожению по распоряжению губернского правления.
В отчете олонецкого губернатора за 1849 год сказано, что комиссия разобрала 28 975 дел по 1825 год, из них только 549 дел, то есть менее 2 %, было оставлено для постоянного хранения. Архивные фонды губернского правления и губернатора могли быть и менее полными. В 1849 году министр внутренних дел, рассмотрев 20 описей дел Олонецкого губернского правления за 1784–1825 годы, выделенных к уничтожению комиссией, пришел к заключению, что «из дел с 1784 по 1800 годы некоторые, судя по заглавию, могут заключать в себе нужные по разным отношениям сведения или служить для справок по текущему делопроизводству» [7; 48]. В связи с этим министр направил реестр тех дел, которые должны были быть сохранены. Количество этих «некоторых» дел составило 1152 [11; 21]. Оставшиеся дела он разрешил уничтожить. «Впрочем, – писал министр, – если в них нашлись какие-либо сведения, любопытные в историческом, статистическом или другом отношении, то следует сделать о том надлежащие выписки, а в случае надобности сохранить и самые те дела, ровно надлежит оставить в архиве и подлинные указы Правительствующего Сената, находящиеся при уничтожаемых делах» [7; 48 об.].
Следует указать на высокое качество описей, составленных в первые годы функционирования комиссии. Подробные заголовки внесенных в описи дел фактически позволяют восстановить события, по причине которых заводились дела, определить, какими вопросами занимались местные учреждения. Высокая степень подробности описания дел придает сохранившимся описям особую информативную ценность1.
Подробное описание уничтожаемых дел было просто необходимо, так как в распоряжении МВД и губернского правления, санкционировавших решения разборочной комиссии, находились только описи. Проведение экспертизы ценности документов основывалось, прежде всего, на анализе заголовков дел.
Возможно, именно это позволило многим делам 1784–1800 годов избежать уничтожения. Так, первоначально комиссия посчитала необходимым уничтожить дела «По указу Правительствующего Сената 1786 года об устройстве в государстве дорог», «О родившихся, бракосочетавшихся и умерших в Олонецкой губернии в 1795 году» и «Мнения, доставленные в 1785 году из разных присутственных мест, на канцелярский обряд»2. Статистическое же отделение Совета министра внутренних дел, рассмотрев описи, в которые были включены эти дела, потребовало предоставить их «для извлечения надлежащих сведений». Впоследствии данные дела были доставлены по месту требования.
Исследователи отмечают две основные черты, которые оказали влияние на судьбу и комплектование архивов государственных учреждений в первой половине XIX века [13], [14]. Уничтожение документов освободилось от контроля высшей власти. В XVIII веке работу архивов в России регулировали указы Сената, который сосредоточивал управление и контроль над архивной службой в государстве. После введения министерств стали появляться министерские регламенты архивной службы, противоречащие принципам архивного законодательства XVIII века, склонявшегося к централизации архивов. В министерских сферах возникает мысль об уничтожении «ненужных» архивных дел для освобождения канцелярских помещений от накопившихся бумаг. На первых порах разрешение на уничтожение документов необходимо было испрашивать у верховной власти через Комитет министров.
Постепенно уничтожение документов приобрело узковедомственный и произвольный характер и не регулировалось никаким общим законом. Право разрешать уничтожать документы получили министерства, оно распространялось и на их подведомственные учреждения. Соответственно, ту же черту – ведомственность – приобретали архивы в губерниях.
Законодательным актом, впервые разрешившим уничтожать государственные архивные материалы десятилетней давности, было, как уже говорилось, «Учреждение губернских правлений» 1845 года, XII глава которого посвящена «части архивной». Как отмечал Д. Самоквасов, первоначально министры и губернаторы «как будто боялись или стыдились приступить к его исполнению», и только в отчете министра внутренних дел за 1847 год появилось извещение, по которому «приведение в порядок дел, хранившихся в архивах, особыми комиссиями, учрежденными при губернских правлениях, привело к тому результату, что в 18 губерниях разрешено к уничтожению до 30 тыс. дел» [14].
В 1854 году в Положении Комитета министров от 5 октября МВД окончательно и официально предоставлялось разрешение уничтожать дела [5]. Вслед за МВД это право приобрели и другие министерства.
Как уже отмечалось, уничтожение документов производилось при отсутствии определенных научных приемов и условий. Самыми распространенными способами были сожжение и продажа старых дел с торгов. В г. Петрозаводске первые торги состоялись в 1848 году. На торги пришли два человека, предлагалась цена от 60 до 80 коп. за пуд бумаги3. В 1849 году предполагалось продать 4056 дел владельцам бумажных фабрик, но на торги никто не явился. Позднее эти дела министр разрешил продать переплетным и другим мастерам. Необходимо отметить, что при продаже с покупателей брали обещание под расписку не употреблять дела иначе, как только «по своему мастерству». Предварительно дела приводились в такое состояние, чтобы нельзя было использовать в каких-либо целях заключающиеся в них сведения: дела расшивались, отдельные листы разбивались и перепутывались, иногда портились и т. д. Старые документы можно было увидеть и на рынках в качестве оберточной бумаги. Деньги, вырученные от продажи старых архивных дел, как правило, шли на канцелярские расходы, а также на пособия и вознаграждения канцелярским чиновникам и служителям, то есть это мероприятие становилось для них выгодным. Секретные дела в основном сжигались.
Еще одной актуальной для губернских архивов проблемой в первой половине XIX века были архивные помещения. Условия хранения документов оставляли желать лучшего. «Несмотря на неоднократные предписания построить для архивов “палаты каменные”4, архивы продолжали остро нуждаться в помещениях; ввиду этого материалы либо не сдавались канцеляриями по целым десяткам лет, либо, будучи сданы в архивы, сваливались в них, из-за недостатка места, в кучи, перепутывались, разбивались, рвались и гибли от сырости и пожаров» [13; 167].
По «Учреждению губернских правлений» 1845 года, обязанность наблюдать за работой архива возлагалась на одного из советников. О состоянии архива Олонецкого губернского правления можно узнать из записки, представленной в присутствие заведующим архивом советником правления А. С. Башинским в декабре 1852 года [7; 87–90]. В записке советник писал: «Архивы олонецкого губернского правления помещаются в комнатах подвального этажа в корпусе присутственных мест; они углублены в землю до одного аршина и, заключаясь между известковым фундаментом, на коем основано здание сие, содержат в себе по неимению печей чрезвычайную сырость, что много вредит хранящимся в архивах бумагам». И далее: «Чиновники, заведующие архивами, от сырости и необычайного холода, в особенности зимним временем, лишены всякой возможности заниматься как следует своею обязанностью и даже подвергаются простуде». При этом советник ссылается на требования, предъявляемые к содержанию архивов в «Учреждении губернских правлений» 1845 года. Согласно ст. 284, «помещение архива должно быть просторное, сухое, со сводами, с каменными или кирпичными полами, с отдушниками в противоположном направлении, для очистки воздуха; а притом теплое, с духовыми или иного устройства печами, которые топились бы из подвалов, коридоров, или вообще вне самого помещения. Дела должны храниться, смотря по средствам, в шкафах или на полках, устроенных рядами, так, чтоб между ними был свободный проход» [4].
О непригодности помещения для архивов губернских присутственных мест в г. Петрозаводске и о строительстве для них «особого деревянного филиала простой архитектуры» губернатор А. В. Дашков писал в представлении министру внутренних дел в июле 1839 года. Но специального здания для архивов в Петрозаводске в XIX веке так построено и не было.
В ответном предписании министр, граф Строганов, предложил другое решение проблемы. Дело в том, что ранее А. В. Дашков представил в МВД проект постройки нового тюремного замка в Петрозаводске, в котором делал предположение о возможном размещении архивов в казенных флигелях (здания присутственных мест), которые пока занимала городская тюрьма. Поэтому министр предлагал ждать разрешения на осуществление данного проекта, который рассматривался в Главном управлении путей сообщения и публичных зданий. Разрешение между тем задерживалось, причина, конечно, заключалась в финансировании. Министерство внутренних дел, Министерство финансов и Главное управление не могли прийти к согласию об источниках покрытия расходов по устройству присутственных мест и тюрем. Пока же, считал министр, местному губернскому начальству нужно найти средства и временно разместить петрозаводские архивы, например, в нанятом для этого частном доме. Желающих отдать дом под архив в городе не нашлось. Позднее, уже в 1845 году, для архива дополнительно были наняты в гостином дворе две лавки купца Пименова, плата за каждую составляла 54 руб. серебром в год. С этого времени архивные дела хранились в пяти комнатах корпуса присутственных мест и двух лавках гостиного двора.
Ко времени написания записки, в декабре 1852 года, советник не знал, утвержден ли проект на постройку нового здания для тюрьмы в Петрозаводске и как решается дело о передаче занимаемых тюрьмой двух каменных флигелей под архивы губернских присутственных мест, поскольку сведений об этом в делах губернского правления не было. Не знал и губернатор (вступивший в должность в 1845 году Ю. А. Долгоруков), об этом говорит его карандашная помета («спросить стряпчего»).
Советник предлагал повторить ходатайство о скорейшем разрешении постройки новой тюрьмы и передаче двух флигелей под архивы губернских присутственных мест, предварительно
«приведя их в приличное для этой цели устройство», то есть согласно требованиям закона.
В записке А. С. Башинский излагал также свои замечания по поводу недостатков, найденных им при осмотре дел, и порядка их хранения. Не выполнялись требования «Учреждения» 1845 года, касающиеся архивного порядка в губернских правлениях. В настольных реестрах5 не отмечался номер полки, на которой хранилось дело; архивариус не вел общего указателя: за какие годы, каких учреждений, отделений и столов находились дела в архиве и в каких шкафах и полках; также архивариус не отмечал в настольных реестрах время сдачи дел; не за все годы были составлены алфавиты дел; дела до 1845 года, хранившиеся в пяти комнатах присутственных мест и двух лавках гостиного двора, находились в беспорядке, так как комиссия не закончила свою работу и, кроме того, бездействовала с начала 1851 года.
В связи с этим А. С. Башинский предлагал возобновить работу комиссии для окончания разбора архивных дел, без чего, считал он, «архивы не могут быть приведены в устройство»; для тех же дел, которые уже разобраны и должны оставаться для дальнейшего хранения, необходимо устроить полки в соответствии с требованиями «Учреждения». Эти же недостатки отмечались советником в его рапорте 1849 года [8; 3]. Причины их были просты. Номера шкафов и полок не отмечались в реестрах, так как их вовсе не существовало в архиве. По той же причине не велся указатель. Алфавиты не создавались вовремя, так как столы отделений могли опаздывать со сдачей дел в срок.
Судя по данным записки и другим материалам дела, архивариус губернского правления не справлялся со своими обязанностями, поэтому советник предлагал назначить на его место «более благонадежного чиновника, ибо Алексеев не только нерадив к своим обязанностям, но часто подвержен болезненным припадкам».
Присутствие согласилось с доводами А. С. Ба-шинского. Архивариус Алексеев был уволен, а вот решить вопрос с помещением было не так легко и быстро. В ответ на запрос правления Олонецкая губернская строительная и дорожная комиссия сообщила, что проект постройки нового тюремного здания утвержден, но на его исполнение не ассигновано требуемой суммы. Поэтому помощнику архитектора было предписано составить проект и смету на ремонт помещения, занимаемого архивом в настоящее время. Однако ремонта архив тоже так и не дождался. Губернатор предложил утверждение сметы приостановить до получения разрешения от главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями на ассигнование суммы на капитальный ремонт корпуса присутственных мест [7; 118]. В итоге в 1855 году Дорожная комиссия заключа- ет, что смету на ремонт нынешнего помещения архива, как временную только меру, но связанную со значительными расходами, «остановить без всяких последствий» [7; 152].
Хранение документов в неприспособленном для этого и необорудованном помещении привело к тому, что уже в 1857 году сама же комиссия (но в другом составе) докладывала, что дела губернского правления с 1784 года, ранее рассмотренные комиссией, «оказались в крайнем беспорядке разбросанными по полу и смешанными с делами и книгами господина начальника губернии, приказа общественного призрения и губернского прокурора так, что до отделения сих трех последних от дел, собственно губернскому правлению принадлежащих, не представлялось никакой возможности исполнить обязанность Комиссии» [11; 68 об.]. Таким образом, из-за несоблюдения простых правил хранения дел в архиве комиссии пришлось вновь разбирать уже систематизированные ранее дела6. Перипетии с помещением для архива сказались на и так плачевном состоянии дел.
Вернемся к проблеме критериев отбора дел. Рост документооборота и соответственно сложности с организацией хранения документов вынудили министерства и ведомства более детально заняться вопросами классификации и систематизации документов, выделением категорий документов в зависимости от их важности.
Как уже указывалось, описи дел губернских правлений и присутственных мест ведомства МВД, предназначенных к уничтожению, предоставлялись на утверждение в это министерство. Зачастую губернские комиссии по разбору старых дел не могли правильно определить важность того или иного документа и, соответственно, предотвратить во многих случаях его уничтожение. В описях, представленных из губерний, обнаруживалось, что очень часто и в значительных количествах в них вносились дела, которые, по мнению МВД, должны оставаться для постоянного хранения в архивах. В 1852 году МВД издало циркулярное предписание, вместе с которым разослало «расписание тех родов архивных дел, кои вообще не подлежат уничтожению» [6; 185]. Главным образом это документы, свидетельствовавшие о сословной принадлежности, доказывающие права на земельную собственность, а также сведения о торговле, промышленности, ценах, городах и народонаселении. Не подлежали уничтожению дела о «раскольниках» и секретные дела. Кроме того, в данном перечне учитывался критерий значимости события, и все документы об ополчении 1812 года и касающиеся Отечественной войны подлежали дальнейшему хранению. Таким образом, если раньше министерство после рассмотрения описей каждой губернии в отдельности выделяло из них дела, которые следовало хранить, то теперь, по-видимому, ввиду того что губернские комиссии были не совсем компетентны в этом вопросе, оно переходит к практике составления и введения правил, общих для губернских учреждений своего ведомства. Пока это не отдельный законодательный акт, регламентирующий содержание, хранение и уничтожение решенных дел, а общие, возникающие по мере необходимости рекомендации, являющиеся, однако, важным шагом в становлении экспертизы ценности документов. Так, в циркуляре МВД от 9 декабря 1852 года указывалось, что при уничтожении архивных дел следует соблюдать крайнюю осмотрительность, чтобы не подвергнуть уничтожению такие дела, в которых впоследствии «может встретиться надобность, если не для текущих дел, то при составлении исторических, статистических и других ученых сведений». В описях дел нужно проставлять порядковые номера дел, дату начала и окончания, количество листов и «ясное, определительное заглавие» каждого дела – требования, актуальные и сегодня. Комиссии, занимающиеся разбором архивов, обязывались рассматривать соответствие заголовка дела его содержанию и «не находятся ли в деле документы, к нему не относящиеся». Указы Сената и другие правительственные предписания, которые могли бы служить руководством в будущем, должны были быть оставлены для хранения. По делам о выдаче документов и денежных взысканий следовало удостовериться, выданы ли первые по принадлежности и удовлетворены ли взыскания, о чем отмечалось в описи на полях, напротив каждого из таких дел. По-видимому, и такие дела могли сдаваться в архив не будучи законченными.
В описях обнаруживается значительное количество дел, которые в соответствии с «Расписанием» от 9 декабря 1852 года должны были оставаться на хранении в архиве Олонецкого губернского правления. В качестве примера можно выделить следующие дела:
-
1) о записи в купечество, мещанство и вообще о приписке и исключении из одного состояния в другое («О записке вольного человека из шведов А. Егорова в число крестьян Повенецкого уезда»; «О понуждении повенецкий земский суд к доставлению сведений в тамошнюю расправу, в которые годы крестьянские дети Осип и Кирила Федотовы переписались в петербургское мещанство»);
-
2) о приведении иностранцев к присяге на подданство («О шведском подданном мастере П. Лехском»);
-
3) о спорах по имениям и завладении имуществом («О завладении у крестьянина Иванова крестьянами Аврамом и Трофимом Ивановыми мельницей»);
-
4) о происшествиях («О сгоревших казенных магазинах»);
-
5) о ценах на предметы продовольствия («О возвышении цен купцами на припасы против прежнего года»);
-
6) о состоянии почт, дорог, мостов («О проложении для выезду из города Олонца дороги») и др.
Комиссия, занимавшаяся разбором архива Олонецкого губернского правления, определила к уничтожению немало дел, представляющих историческую ценность. Так, члены комиссии не посчитали необходимым сохранить дела, связанные с деятельностью первого правителя учрежденного в 1784 году Олонецкого наместничества Г. Р. Державина. В качестве таких дел можно назвать следующие: «Об усмотренных правителем наместничества Державиным по присутственным местам неисправностям по делам 1785 года», «О произнесенных дерзких словах советником правления Соколовым на правителя наместничества» [9] и др. Включение данных дел в описи свидетельствует о том, что критерии научной ценности дел еще не были разработаны.
Комиссия, учрежденная для единовременного разбора архивных дел Олонецкого губернского правления, закончила свою работу весной 1865 года. К этому времени ей удалось разобрать все дела с 1784 по 1845 год. (В итоговом рапорте комиссии не указывалось общее количество разобранных дел, но в 1857 году, по данным архивариуса, ей оставалось рассмотреть по описям до 1845 года еще 56 602 дела.) Правление сразу же приказало ей приступить «с наступлением удобного весеннего времени» к разбору архивных дел губернского правления с 1845 года. В результате разборочных действий комиссии к 1874 году на хранении в архиве Олонецкого губернского правления за 1784–1800 годы оставалось только 1411 дел, 146 книг журналов и постановлений присутствия правления и 21 книга указов Сената [10; 138]. В настоящее время 396-й фонд НА РК, содержащий созданные в процессе деятельности Олонецкого наместничества документы, включает в себя только 588 единиц хранения. Колоссальные массивы документации, которая могла бы быть затребована, были уничтожены.
В законодательных актах XVIII века уделялось большое внимание созданию архивов, улучшению их состояния, но в них не содержалось указаний на проведение оценки документов с целью их сохранения или уничтожения, так как в государственных учреждениях еще не возникла необходимость систематического уничтожения ненужных дел и, в связи с этим, издания соответствующих норм и правил.
Административные реформы начала XIX века привели к большому накоплению документов в ведомственных архивах, что, в свою очередь, привело к необходимости проведения экспертизы их ценности. «Учреждение губернских правлений» 1845 года вводило десятилетний срок хранения для документов местных учреждений, оно же установило порядок уничтожения дел, отбором которых занимались специальные комиссии.
В Олонецкой губернии, как и в большинстве других, ощущался большой недостаток в опытных и грамотных архивных работниках. В разборочные комиссии привлекались чиновники губернских учреждений: прокуроры, асессоры, стряпчие, заседатели и др., которые также не обладали необходимой компетенцией. В результате их действий происходило уничтожение большого количества документов, нередко не утративших еще своего справочного или научного значения.
Кроме случайного и некомпетентного состава комиссий не гарантировал от гибели докумен- тальные материалы и перечень дел, подлежащих уничтожению в губерниях, составленный впервые в 1845 году. Он приводил к гибели документов, имевших историческое значение, а также тех, которые могли впоследствии понадобиться для наведения административных справок.
Выработка критериев экспертизы происходила скорее интуитивно. Учреждения вынуждены были искать пути освобождения своих архивов от части документов, утративших справочное значение. Однако неразработанность подходов к оценке значения документов, отсутствие общегосударственных правил разборки и уничтожения бумаг, относящихся к делопроизводству государственных учреждений, привели к массовому уничтожению дел на местах.
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
Список литературы Становление экспертизы ценности документов местных госучреждений в XIX веке
- Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). Собрание I. T. 8. № 5333.
- ПСЗ РИ I. T. 25. № 19387.
- ПСЗ РИ I. Т. 26. № 19456.
- ПСЗ РИ II. Т. 20. Отд. 1. № 18580.
- ПСЗ РИ II. Т. 29. Отд. 2. № 28529.
- НА РК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 5/22.
- НА РК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4/75.
- НА РК. Ф. 2. Оп. 40. Д. 13/350.
- НА РК. Ф. 2. Оп. 41. Д. 1/4
- НА РК. Ф. 2. Оп. 45. Д. 1/2
- НА РК. Ф. 2. Оп. 61. Д. 66/821.
- Виноградова Т. В. Деятельность комиссии по разбору архивных дел олонецкого губернского правления в контексте проблем ведомственного хранения документов в первой половине XIX века//Делопроизводство. 2004. № 1. С. 95102.
- Маяковский И. Л. Очерки по истории архивного дела в СССР. М.: Наука, 1960. 261 с.
- Самоквасов Д. Я. Архивное дело в России. М., 1902. Кн. 2.