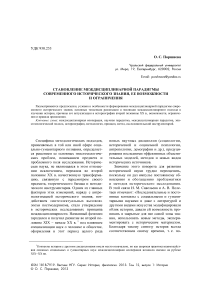Становление междисциплинарной парадигмы современного исторического знания, ее возможности и ограничения
Автор: Поршнева Ольга Сергеевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются предпосылки, условия и особенности формирования междисциплинарной парадигмы современного исторического знания, основные тенденции реализации и эволюции междисциплинарного подхода в изучении истории, причины его актуализации в историографии второй половины XX в., возможности, ограничения и правила применения.
Междисциплинарная кооперация, научная парадигма, междисциплинарная парадигма, эпистемологический подход, историография, методология, принцип, метод, исследовательский инструментарий
Короткий адрес: https://sciup.org/147218686
IDR: 147218686 | УДК: 930.253
Текст научной статьи Становление междисциплинарной парадигмы современного исторического знания, ее возможности и ограничения
Специфика методологических подходов, применяемых в той или иной сфере социально-гуманитарного познания, определяется решением ее основных эпистемологических проблем, пониманием предмета и проблемного поля исследования. Историческая наука, не являющаяся в этом отношении исключением, пережила во второй половине XX в. качественную трансформацию, связанную с пересмотром своего предмета, теоретического багажа и методического инструментария. Одним из главных факторов этих изменений, наряду с антро-пологизацией исторического знания, воздействием «интеллектуальных вызовов» эпохи постмодернизма, стало утверждение в исторических исследованиях принципа междисциплинарности. Названный феномен зародился и получил развитие во второй половине XIX - начале XX в. 1 под влиянием специализации наук о человеке и обществе, оформления в этот период целого ряда новых научных дисциплин (социологии, исторической и социальной психологии, антропологии, демографии и др.), продуцирования последними эффективных объяснительных моделей, методов и новых видов исторических источников.
Значение этого поворота для развития исторической науки трудно переоценить, поскольку он дал импульс постоянному обновлению и обогащению проблематики и методов исторического исследования. В этой связи И. М. Савельева и А. В. Полетаев отмечают: «Последовательные и постоянные контакты с социальными и гуманитарными науками и даже с литературой и другими видами искусства модифицировали облик истории, давали ей возможность проникать в закрытые для нее самой зоны знания, использовать новые методы, экспериментировать с историческим материалом. Благодаря такому синтезу история всегда соответствовала своему времени, т. е. по- следовательно отражала основные научные парадигмы эпохи» [1997. С. 97].
Методологическими предпосылками применения междисциплинарных методов, возникновения феномена междисциплинарной кооперации являются единство науки как способа познания природы и общества, реализация во всех ее сферах базовых эпистемологических принципов и общенаучных методов; наличие общего объекта гуманитарных и социальных наук - человека и общества (при различии их предмета); использование в смежных дисциплинах аналогичных источников и серий документальных данных. Методы их обработки, выработанные в этих дисциплинах, могут быть применены в практике историка, обогащая его исследовательский инструментарий.
Возможности и ограничения в применении методологического инструментария других наук в историческом исследовании определяются прежде всего пониманием общего и особенного в предмете и методе социальных, гуманитарных, а также естественно-научных дисциплин. Значимую роль в выработке методологических условий и принципов междисциплинарных заимствований играет трактовка характера связи между субъектом и объектом исторического познания, представления о природе и специфике истории. Природа исторического знания воплощается, в частности, в специфике исторического метода, проблема реализации которого является центральной в методологии, соединяя вопросы теории и практики исторических исследований. Метод в качестве своей важнейшей составляющей включает правила, приемы, процедуры исследования источников, определяемые, в свою очередь, теоретическими подходами, используемыми историком. Эволюция представлений об историческом методе, путях и способах критики и интерпретации источников происходила под влиянием смены научных парадигм и эпистемологических подходов в исторический науке, особенно значимо воздействовавших на ее облик в XX в.
Еще в начале XX в. было предпринято осмысление места истории в системе социальных и гуманитарных наук, начались поиски «исторического синтеза», инициированные А. Берром [Савельева, Полетаев, 2005. С. 75]. Основатели школы «Анналов»
М. Блок и Л. Февр в конце 1920-х - 1930-е гг. обосновали применение принципа междисциплинарности в историческом исследовании и положили начало систематической практике его реализации, приобретшей во второй половине XX в. широкие масштабы.
Осуществленный ими пересмотр методического инструментария определялся переосмыслением самого предмета и характера исторического исследования. Впервые в рамках профессионального исторического сообщества М. Блок и Л. Февр обоснованно переставили акценты в определении предмета истории, которая должна была превратиться из повествования о событиях и процессах в исследование человека прошлых обществ с присущими ему сознанием, поведением, образом жизни, формами деятельности. Положив начало «новой исторической науке», антропологическому повороту в развитии историографии, М. Блок определял историю как «науку о людях во времени» [1986. С. 18 ], а Л. Февр писал: «История - наука о человеке, о прошлом человечества, а не о вещах или явлениях <…>. Она использует факты, но это - факты человеческой жизни <…>. История использует тексты, но это - человеческие тексты» [1991. С. 19].
М. Блок и Л. Февр не просто постулировали необходимость обогащения инструментария исторической науки, но и сделали установку на междисциплинарность нормативным требованием исторического исследования, блестяще реализовав междисциплинарный подход в своем собственном научном творчестве. Л. Февр писал, что историк должен использовать все источники, какова бы ни была их природа, «…те в особенности, что порождены бурным расцветом новых дисциплин: статистики; демографии <…>; лингвистики <…>; психологии…». Он подчеркивал: «Постоянно устанавливать новые формы связей между близкими и дальними дисциплинами, сосредоточивать на одном и том же объекте исследования взаимные усилия различных наук - вот наиглавнейшая задача из тех, что стоят перед историей (курсив мой. - О. П.), стремящейся покончить с изолированностью и самоограничением, - задача самая неотложная и самая плодотворная. Речь идет не только о заимствовании понятий, хотя иногда оно и необходимо. Но прежде всего - о заимствовании методов и духа исследования» [Февр, 1991. С. 20]. Так, по сути, впервые в историографии была поставлена задача создания на базе обновленной истории новой интегральной науки о человеке.
Другим важнейшим аспектом нового подхода стали отказ от повествовательной истории, призыв к постановке проблем и выработке гипотез, коренное изменение отношения к объекту исследования. Изучая людей прошлого, утверждали анналисты, мы вступаем с ними в диалог, вовлекающий в историческое исследование как их ценности и другие аспекты сознания, так и систему ценностей историка [Гуревич, 1993. С. 15]. Проблематизация исторического познания предполагала обогащение перспектив его теоретического видения, рассмотрение источникового материала в новых исследовательских ракурсах, конструируемых на основе синтеза идей социальных и гуманитарных наук. Принципы и методы исследования источников, базирующиеся на понимании процесса познания прошлого как диалога историка и людей минувших эпох, использовании инструментария и достижений целого ряда наук о человеке и обществе, нашли дальнейшее развитие во второй половине XX в. в трудах последующих поколений «анналистов» (при всем различии этапов в развитии школы), представителей других направлений историографии [Поршнева, 2009. С. 36–49].
Особое значение для развития арсенала междисциплинарных методов в 1950– 1960-е гг. имела теоретическая рефлексия, порожденная формированием структуралистской парадигмы в социальных и гуманитарных науках. Возникновение научной парадигмы было связано с появлением нового исследовательского направления - структурной лингвистики, основы которой заложил Фердинанд де Соссюр. Наибольший вклад в развитие структурализма, формирование его классической версии внесли Клод Леви-Стросс [2001], М. Фуко [2000], Р. Барт [1994]. Как методология исследования социальных и гуманитарных наук структурализм базируется на представлении об определяющей роли структуры, как совокупности отношений, в функционировании социальных и культурных систем, выявлении единых структурных закономерностей некоторого множества объектов. Структура характеризуется устойчивой системой отношений между внутренними элементами, определяющей ее качественную специфику и общую природу, имеет структурные связи с более крупными социальными и культурными системами.
Значительное воздействие структурализм оказал на эволюцию школы «Анналов»: к 1950-м гг. в западной историографии победила «новая история» - история структур «большой длительности», история экономическая и социальная. В исторической науке утвердилась концепция «тотальной истории» - исследования, стремящегося дать объемную картину исторической жизни на разных ее уровнях. О «социальных глобальных структурах» писал и французский социолог Жорж Гурвич, идеи которого оказали определяющее воздействие на взгляды Ф. Броделя [Гуревич, 1993. С. 65]. Именно в творчестве Ф. Броделя, лидера второго поколения школы «Анналов», возглавившего журнал в 1956 г. после смерти Л. Февра, в наибольшей степени воплотилось создание истории структур [Бродель, 1986–1992. Т. 1–3]. Стремление последователей структурализма превратить гуманитарные науки в точные способствовало распространению в социальных и гуманитарных дисциплинах, включая историю, методов структурного анализа, моделирования, формализации и математизации, что, в частности, благотворно сказалось на развитии методики исследования исторических источников. В нашей стране структурно-семиотический подход к исследованию текстов, в том числе исторических источников, стал развиваться с 1960-х гг. после оформления московско-тартуской семиотической школы, лидерами которой были Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, Ю. И. Левин и др.
По обоснованной оценке Л. П. Репиной, в 1970 - 1980-е гг. в рамках «новой исторической науки» история стала интердисциплинарной за счет конструирования самого объекта исследования как поли / мульти-дисциплинарного, что привело к расширению предмета истории, круга источников и методов исследования, вызвало появление множества новых «гибридных» субдисциплин и значительное усложнение структуры исторической науки [2005. С. 8].
Одним из таких новых направлений, оформившихся в 1970-е гг., стала «историческая антропология», возникшая в резуль- тате изменения исторической и собственно научной ситуации, внутренней потребности истории в дальнейшем обновлении методики и проблематики. Одним из средств такого обновления стало приоритетное использование достижений социальной и культурной антропологии, а также социологии, лингвистики. М. М. Кром выделяет ряд черт, присущих исторической антропологии во всех ее трактовках. Так, сторонники этого направления единодушны в том, что касается междисциплинарного характера исторической антропологии, плодотворного взаимодействия ее с социальными науками, в первую очередь - этнологией. Далее, все они видят важную задачу исторической антропологии в открытии «инаковости» минувших эпох, непохожести их друг на друга и на наше время. Наконец, историческая антропология имеет свою специфику в сфере проблематики: особое внимание историки этого направления уделяют символике повседневной жизни, манере поведения, привычкам, жестам, ритуалам и церемониям [2000. С. 35–36].
В 1980 - 1990-е гг. под влиянием постструктуралистской парадигмы гуманитарного знания в исторических исследованиях усилился интерес к социокультурной проблематике, индивидуальному и уникальному в истории, субъективности исторических акторов, роли социальных практик и индивидуальных стратегий в функционировании и развитии общества. В рамках новых направлений в историографии, возникших под воздействием интеллектуальных вызовов эпохи постмодернизма (новой социокультурной, новой социальной, новой культурной, новой интеллектуальной истории и др.), были аккумулированы и критически переосмыслены достижения и «вызовы» смежных наук. В ответ на крайности «лингвистического поворота», отрицание постмодернистскими теоретиками научного статуса истории, в рамках исторического сообщества были разработаны концепции «исторического опыта», новой социокультурной истории и др., позволявшие плодотворно использовать «рациональные зерна» постструктуралистской теории, принципы современной философской герменевтики, лингвистики, теории языка и дискурса.
Так, парадигма «новой социокультурной истории», как пишет Л. П. Репина, предполагала интерпретацию социальных процес- сов разных уровней сквозь призму культурных представлений, символических практик и ценностных ориентаций. Наряду с освоением приемов литературной критики, внимание было привлечено к «социальной логике текста» - к внелингвистическим характеристикам дискурса, связанным с биографическим, социально-политическим, духовным контекстами, в которых был создан текст, а также с целями, интересами и мировоззренческими ориентациями его создателя [2011. С. 127]. Таким образом, перспективы нового междисциплинарного синтеза, обозначившиеся в конце XX в., были основаны на возможностях творческого освоения историками теоретических «поворотов», интеллектуальных «вызовов» и новейших тенденций в развитии гуманитарного знания.
С другой стороны, на историческое знание во второй половине XX в. оказывали мощное влияние принципиально иные парадигмы: неопозитивистская, марксистская, что обусловило утверждение к 1970-м гг. в ряде школ и направлений историографии сциентистских идеалов, представлений об истории как одной из социальных дисциплин, призванных изучать законы и механизмы общественного развития.
Это, наряду с уже отмеченным влиянием структурализма, обусловило обоснование и расширение применения в исторических исследованиях методов точных наук (математических, статистических), а затем и компьютерных технологий. Использование математических методов позволило, в частности, задействовать в более полном объеме информационный потенциал огромных массивов статистических данных, ввести их в научный оборот исторических исследований. В нашей стране во многом под влиянием системно-структурного видения функционирования общественно-исторических отношений в рамках марксистской эпистемологии сложилась влиятельная источниковедческая и методологическая школа акад. И. Д. Ковальченко [2003]. Для нее характерно особое вниманием к проблемам извлечения, обработки и анализа информации исторических источников, прежде всего массовых, к использованию математических методов в исторических исследованиях. На ее основе сложилась и действует Ассоциация «История и компьютер», представители которой плодотворно применяют математические методы и реализующие их информа- ционные технологии в исторических исследованиях.
Формирование неорационалистического направления в современной исторической науке, постановка вопроса об истории как строгой науке (в частности, в рамках когнитивно-информационной теории современного гуманитарного познания [Медушевская, 2008; Медушевский, 2009]) актуализировали поиск междисциплинарных по своему характеру научных методик, техник и инструментов, направленных на достижение обоснованных результатов исторических исследований [Мазур, 2010. С. 198–149, 488–449].
Развитие практики междисциплинарности привело в современных условиях к формированию целого ряда направлений коллективных кросс-дисциплинарных исследований: мульти-, интер- и трансдисциплинарных, различающихся по своим организационным формам и степени интеграции сотрудничающих дисциплин: от низшей ступени к высшей. Как отмечает Л. П. Репина, если под «междисциплинарностью» понималось главным образом заимствование теорий и методов других наук для решения внутридисциплинарных проблем, то «трансдисциплинарным» называется подход, при котором сама проблема исследования не может быть сформулирована и решена в границах любой из сотрудничающих дисциплин [Репина, 2011. С. 27–29]. «Трансдисциплинарными» по своей сути являются исследования в сфере исторической памяти, социальной и этнической идентичности, исторической имагологии, гендерной истории, истории эмоций и других популярных направлений современной историографии.
Таким образом, междисциплинарная кооперация истории и других дисциплин в изучении человека и общества прошлого, получившая наибольшее развитие во второй половине XX в., сегодня приобретает особое значение. Это связано с превращением истории с ее новейшими методологическими ориентациями в междисциплинарную научную сферу, интегрирующую усилия и результаты исследований разных наук о человеке, с «историческим поворотом» в развитии самих социальных и гуманитарных дисциплин. Расширение предметного поля исторических исследований, включающего вопросы, традиционно решаемые смежными науками, особое внимание к че- ловеческой индивидуальности и проблемам сознания создают предпосылки и условия для реализации задач междисциплинарного синтеза в изучении человека.
Источниковедческие подходы, адекватные современной междисциплинарной парадигме исторического знания, базируются на углубленном понимании связи между историком, источником и историческим контекстом (реальностью прошлого). Под влиянием современной гуманитарной рефлексии на первый план выходит проблема интерпретации корреляции источниковой информации и социально-исторического контекста [Керов, 2002. С. 81]. Осознание «непрозрачности» всякой социальной реальности, не имеющей прямого и непосредственного выражения в источниках, определило постановку вопроса о необходимости интерпретации источникового материала с помощью современных научных подходов и методов целого ряда наук.
Другая характерная черта современного источниковедения, тесно связанная с междисциплинарным обликом исторической науки, – понимание исторического источника как продукта целенаправленной человеческой деятельности, явления культуры [Медушевская, 1999]. В свою очередь, это ориентирует на системное изучение источников, на обращение ко всему объему произведений культуры (в широком смысле), созданных в процессе человеческой деятельности и отразивших в себе различные аспекты развития общества и личности [Данилевский и др., 2000. С. 26–27]. Особую значимость имеют источники личного происхождения, язык которых рассматривается как способ самовыражения человека. Повторяемость и устойчивость речевых практик в источниках может служить основой для более широких обобщений [Соколов, 1999. С. 73].
Одним из важнейших источниковедческих подходов в условиях междисциплинарности является принцип соответствия характера и типа используемых источников предмету исследования, а также методам их обработки (принцип «изоморфности»). Так, структурный анализ как метод исследования документов применим прежде всего к массовым источникам, так как они содержат информацию об объектах, образующих определенные системы с соответствующими структурами, о взаимодействии данных объектов. Это статистика, документы, имеющие стандартные разработанные формы или описывающие стандартные ситуации, однотипные нарративные источники, отражающие свойства массовых объектов, образующих определенную систему. Нарративные индивидуальные и массовые источники дают возможность применения интерпретативных методик, контент-анализа; массовые источники, имеющие стандартизированную форму, целесообразно исследовать также с помощью создания баз данных, способных обеспечить комплексное использование их информационного потенциала и т.д. Квантитативные методы обработки информации источников, прежде всего массовых, не утратили, несмотря на некоторый спад интереса к ним, своего значения. Квантификация, по справедливому замечанию А. К. Соколова, вовсе не противоречит дискурсу, хотя бы потому, что счет и измерение являются неотъемлемой характеристикой речевых практик и языковых конструкций [1999. С. 71]. Кроме того, квантитативный, многомерный статистический анализ, контент-анализ и другие математические методы исследования документов способны выявить скрытые, неочевидные смыслы исторических источников.
Формирование современной информационной среды обусловило углубленное внимание к специфическим источниковедческим проблемам компьютеризованного исторического исследования [Гарскова, 2010]. Все более заметное место в этом процессе занимают разрабатываемые в русле исторической информатики концепции, методы и технологии создания профессиональных тематических ресурсов. Разрабатываются стандарты описания и классификации информации исторических источников, позволяющие выполнять процедуры преобразования данных и обмена данными, более обоснованно подходить к критике источника, значительно расширить возможности источниковедческого синтеза [Там же. С. 154].
Наряду с признанием перспектив и возможностей сближения истории и других социальных наук в западной историографии уже в начале 1970-х гг. стали появляться критические оценки заимствования историей методов из смежных научных областей [Lucas Colin, 1985. P. 9–11]. Они включали утверждения, что модели и концепции одной дисциплины не должны применяться в фундаментально иных условиях другой, что поле истории не должно стать объектом экспансии других наук. Задачи новой истории, по мнению представителей школы «Анналов», были не только в том, чтобы уйти от обособленного, узко понимаемого исторического исследования, практиковать его многонаправленность, но и в том, чтобы бороться с опасностью превращения истории во что-либо иное, нежели история [Ibid. P. 10]. Последнее утверждение отражает признание угрозы утраты аутентичности истории, специфики предмета и метода исторической науки в условиях междисциплинарности, искажений результатов исторического исследования в силу некорректного использования концептуального инструментария и методов других дисциплин.
Так, специфика истории, обусловленная ценностной природой исторического знания, неповторимостью и уникальностью событий и явлений прошлого, их изменчивостью порождает проблему сопряжения теоретических подходов, методов, терминов, понятий, языка истории и смежных социальных наук. «Всякая трансляция проблем, методов, концепций изначально порождает проблему адаптации и поэтому неизбежно сопровождается их искажением и трансформацией», - отмечает Л. П. Репина, обозначая главную эпистемологическую трудность междисциплинарных заимствований [2011. С. 33].
Наиболее распространенными трудностями, обусловливающими ограничения в использовании теорий и методов смежных наук, являются проблемы ориентации в чужой дисциплине и оценки потенциала новых теорий и методов; угрозы анахронизмов, обусловленных применением теорий, ориентированных на функционирование общества одного типа (одного времени) к обществам другого времени [Савельева, Полетаев, 2005. С. 85–90], неадекватность заимствованных методов предмету, задачам и источниковой базе исторического исследования, механическое перенесение терминов и понятий социальных и гуманитарных наук при изучении социальной реальности прошлого.
Большинство исторических понятий, в отличие от понятий социальных наук, носит остенсивный (описательный) характер, тесно связано с конкретным историческим контекстом и не может применяться вне его.
При использовании понятий смежных наук следует, на наш взгляд, учитывать идею М. Вебера об идеальных типах, не утратившую актуальность, позволяющую соединить изучение общего и индивидуального в истории. Идеальные типы, или понятия, как подчеркивал М. Вебер, суть внеэмпириче-ские конструкты, которые служат для сопоставления, сравнения с ними действительности, но не отождествления с ней. Тем более, исторические явления не должны подгоняться исследователем под идеальные типы [1990. С. 389–393]. Полисемантич-ность, недостаточная строгость и однозначность исторических терминов и понятий связаны с многоликостью самой исторической действительности, различной интерпретацией исторических источников, с использованием для этого разных теоретических конструкций. М. А. Юсим отмечает, что, используя исторические понятия, «мы вовлекаем комплекс разнообразных значений, в том числе и ценностных, которые выглядят самодостаточными, не требующими пояснения. Но в действительности их надо ставить под сомнение (деконструировать)» [2008. С. 65], обращая внимание на тесную связь исторических понятий с социальными и культурными ценностями и нормами. Ценностный аспект исторических понятий и категорий отчетливо отражается в использовании в исследовательской практике историографических метафор [Вжозек, 1991; 1994]. В то же время существуют методы работы с историческими понятиями, призванные минимизировать их относительность, неопределенность, или неадекватность: терминологический анализ, методы систематизации и анализа теоретических понятий, наконец, инструментарий такого методологического направления, как «история понятий» [Козеллек, 2006; История понятий…, 2010], рассматривающего роль и смысл понятий как неотъемлемой части процесса коммуникации в прошлом и предлагающего методы реконструкции и интерпретации смыслов и стоящих за ними политических и социокультурных практик.
Таким образом, принцип междисциплинарности, как способ получения нового знания, основанный на заимствовании теорий и методов других наук для решения проблем исторического исследования, предполагает соблюдение ряда правил, главными из которых являются:
-
• обновление объекта, объяснительных моделей, инструментария исследования;
-
• глубокое освоение теорий смежных наук;
-
• сопрягаемость и комплиментарность методологических подходов;
-
• адаптация, «историзация», совершенствование методов других дисциплин в соответствии со спецификой исторической науки;
-
• адекватность заимствуемых идей, понятий и методов логике, предмету, задачам и источниковой базе исторического исследования.
Итак, изучение истории сегодня - это сфера междисциплинарных исследований, где используются теоретические и практические достижения гуманитарных, социальных и точных наук. Их освоение историками способствует обогащению их интеллектуальной культуры, совершенствованию профессионального инструментария. Подключение процедур исторического синтеза, интуиции, силы мысли и творческого воображения позволяет историку изучать индивидуальность человека другого общества и эпохи, постигать «чужую одушевленность».
INTERDISCIPLINARY PARADIGM OF THE MODERN HISTORICAL KNOWLEDGE: DEVELOPMENT, PERSPECTIVES AND LIMITATIONS
Список литературы Становление междисциплинарной парадигмы современного исторического знания, ее возможности и ограничения
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. 616 с.
- Блок М. Апология истории, или Ремесло историка: Пер. с фр. М., 1986. 256 с.
- Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв. М., 1986-1992. Т. 1-3.
- Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания//Вебер М. Избр. произведения: Пер. с нем. М., 1990. С. 389-393.
- Вжозек В. Историография как игра метафор: судьбы «новой исторической науки»//Одиссей: Человек в истории. М., 1991. С. 60-74.
- Вжозек В. Метафора как эпистемологическая категория (соображения по поводу дефиниции)//Одиссей: Человек в истории. М., 1994. С. 257-264.
- Гарскова И. М. Источниковедческие проблемы исторической информатики//Российская история. 2010. № 3. С. 151-161.
- Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. 328 с.
- Данилевский И. Н., Кабанов В. В., Медушевская О. М., Румянцева М. Ф. Источниковедение: теория, история, метод. Источники российской истории: Учеб. пособие для гуманитарных специальностей. М., 2000. 702 с.
- История понятий, история дискурса, история метафор. М., 2010. 328 с.
- Керов В. В. Отношение крайне правых к думским учреждениям предвоенного периода//Россия в XX веке: люди, идеи, власть. М., 2002. С. 80-100.
- Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003. 486 с.
- Козеллек Р. Социальная история и история понятий//Исторические понятия и политические идеи в России XVI-XX вв. СПб., 2006. 275 с.
- Кром М. М. Историческая антропология: Пособие к лекционному курсу. СПб., 2000. 80 с.
- Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 2001. 512 с.
- Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. Екатеринбург, 2010. 608 с.
- Медушевская О. М. Феноменология культуры: концепция А. С. Лаппо-Данилевского в гуманитарном познании новейшего времени//Исторические записки. М., 1999. Т. 2 (120). С. 100-136.
- Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008. 358 с.
- Медушевский А. Н. Когнитивно-информационная теория в современном гуманитарном познании//Российская история. 2009. № 4. С. 3-22.
- Поршнева О. С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических исследованиях. 2-е изд. Екатеринбург, 2009. 244 с.
- Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв. М., 2011. 560 с.
- Репина Л. П. Опыт междисциплинарного взаимодействия и задачи интеллектуальной истории//Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М., 2005. С. 5-14.
- Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. В поисках утраченного. М., 1997. 800 с.
- Савельева И. М., Полетаев А. В. «Там, за поворотом…» О модусе сосуществования истории с другими социальными и гуманитарными науками//Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации. М., 2005. С. 73-101.
- Соколов А. К. Социальная история России новейшего времени: проблемы методологии и источниковедения//Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999. С. 39-76.
- Февр Л. Бои за историю. М., 1991. 627 с. Фуко М. Археология знания. М., 2000. 416 с.
- Юсим М. А. Нормативная лексика историка//Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. М., 2008. С. 64-65.
- Lucas Colin. Introduction//Constructing the Past. Essays in Historical Methodology. Cambridge, 1985. P. 5-21.