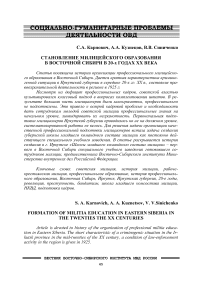Становление милицейского образования в Восточной Сибири в 20-х годах ХХ века
Автор: Карнович Сергей Анатольевич, Кузнецов Алексей Александрович, Синиченко Владимир Викторович
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Социально-гуманитарные проблемы деятельности ОВД
Статья в выпуске: 1 (72), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории организации профессионального милицейского образования в Восточной Сибири. Дается краткая характеристика криминогенной ситуации в Иркутской губернии в середине 20-х гг. ХХ в., состояние правоохранительной деятельности в регионе в 1925 г. Несмотря на дефицит профессиональных кадров, советской властью культивировался классовый подход в вопросах комплектования штатов. В результате большая часть милиционеров были малограмотны, профессионально не подготовлены. Это привело к острой кадровой проблеме и необходимости дать сотрудникам молодой советской милиции профессиональные знания на начальном уровне, ликвидировать их неграмотность. Первоначальная подготовка милиционеров Иркутской губернии проводилась но не на должном уровне, систематизированной работы не велось. Для решения задачи организации качественной профессиональной подготовки милиционеров встала задача создания губернской школы младшего командного состава милиции как постоянно действующего специального учебного заведения. В статье раскрывается история создания в г. Иркутске «Школы младшего командного состава милиции» - первого в Восточной Сибири специального учебного заведения готовившего сотрудников милиции, предшественника Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Российской Федерации
Советская милиция, история милиции, рабоче-крестьянская милиция, профессиональное образование, история профессионального образования, восточная сибирь, иркутск, иркутская губерния, 20-е годы, революция, преступность, бандитизм, школа младшего комсостава милиции, нквд, подготовка кадров
Короткий адрес: https://sciup.org/14335687
IDR: 14335687
Текст научной статьи Становление милицейского образования в Восточной Сибири в 20-х годах ХХ века
Говоря об истории и особенностях становления советской милиции, отметим, что милиция как таковая была создана Временным правительством после февральской революции 1917 г. Полиция Российской империи, которая ассоциировалась в массовом сознании с самодержавием и царизмом, была ликвидирована. Восставшие громили охранные отделения и полицейские участки по всей стране и Временное правительство, подчиняясь народному настроению, своим постановлением упразднило не только корпус жандармов, но и департамент полиции. Полиция была заменена народной милицией. Руководство милиции было сделано выборным и подчинялось органам местного самоуправления [1, с. 95].
Кроме милиции правоохранительные функции выполняли различные «народные дружины» – так называемые отряды рабочей милиции, вооруженные формирования рабочих и крестьянские вооруженные отряды в сельской местности.
После октября 1917 г. пришедшие к власти большевики также руководствовались идеей самоорганизации трудящихся и считали, что государственный и общественный порядок будет охранять сам вооруженный народ. Этот подход в полной мере отражен в постановлении Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «О рабочей милиции», которое было подписано 10 ноября (28 октября) 1917 г.
Первоначально действия новой власти привели только к практически полному разрушению ранее существовавших органов правопорядка. Советская власть достаточно быстро поняла утопичность подобного подхода к вопросу борьбы с преступностью и уже в марте 1918 г. были предприняты шаги по организации милиции на штатных началах. Вместе с тем, как было отмечено выше, «…классовый харак- тер советской милиции нашел наибольшее выражение в принципах и порядке комплектования её кадров. Юридически это получило закрепление… в инструкции НКВД и НКЮ РСФСР от 12 октября 1918 г. “Об организации советской рабоче-крестьянской милиции”. Важнейшими критериями, которым должны были отвечать люди, поступавшие на работу в милицию, были: признание советской власти и наличие активного избирательного права. Последним (в первые годы становления советской власти) пользовались только рабочие и крестьяне» [1, с.109].
В качестве иллюстрации этого положения можно привести данные по социальному составу милиции г. Иркутска на 1 января 1925 г. В «Акте о состоянии Иркутского ГАО на 15 января 1925 г.» приводятся следующие данные: «По состоянию на 1 января с.г. численность городского аппарата Народной милиции определялась в 179 человек, из которых на строевой состав приходилось 147 человек и на административно-хозяйственный состав – 32 человека, по партийному признаку состав гор. милиции распределяется в следующих цифрах: членов РКП(б) и кандидатов – 43 ч., членов РЛКСМ – 23 чел. и беспартийных – 113 чел., по классовому признаку: рабочих – 41 ч., крестьян – 100 чел., остальных – 38 чел.» [2, л. 128]. Как видим, 78,8 % милиционеров – выходцы из рабочих и крестьян.
Несмотря на крайний дефицит профессиональных кадров, особенно в уголовном розыске, классовый подход в вопросах комплектования штатов строго сохранялся и бывших сотрудников сыскных отделений на работу в советскую милицию принимали крайне редко, в исключительных случаях с согласия местных советов и партийных комитетов. Все это привело к острой кадровой проблеме и необходимости дать сотрудникам молодой советской милиции не только профессиональные знания на начальном уровне, но хотя бы низшее образование и ликвидировать их неграмотность.
Необходимость решения комплексной кадровой задачи создало реальные предпосылки для организации и развития на территории всех регионов советской России ведомственных курсов и школ профессиональной подготовки работников милиции.
Эту задачу власть начала решать с начала 20-х гг. ХХ в. Сам процесс создания системы кадровой подготовки сотрудников советской милиции продолжался всё «двадцатое» десятилетие. Проблему организации профессионального образования усложняла особенность развития милиции – частые изменения её структуры. Ряд исследователей объясняют это реализацией в рамках НКВД общегосударственных мер по режиму экономии, упрощению и удешевлению государственного аппарата, поиском лучших организационных форм. На взгляд историков органов внутренних дел В.В. Рыбникова и Г.В. Алексушина, причиной отсутствия четкого плана развития органов внутренних дел в те годы были: временность многих мер, низкий уровень образования и отсутствие опыта у самих реформаторов [3, с. 155–156].
Всех этих проблем не избежали г. Иркутск и Иркутская губерния. Более того, в Сибири и на Дальнем Востоке процессы создания профессиональных органов правопорядка осложнялись тем, что гражданская война здесь закончилась позднее чем в европейской части России, а хорошо вооруженные группы бывших белогвардейцев и недовольных советской властью скрывались в прибайкальской тайге вплоть до конца 20-х гг. Из идеологических врагов они превратились в банды, которые вынуждены были действовать исключительно уголовными методами, грабили местное население и терроризировали органы власти. Борьба с бандитизмом постоянно отвлекала силы милиции от охраны общественного порядка в населенных пунктах и мешала организовать полноценную работу по профессиональному обучению личного состава. В «Отчете Административного отдела Иркутского губисполко-ма за январь–март 1925 г.» для Народного комиссариата внутренних дел РСФСР констатировалось, что в Иркутской губернии в указанное время действовали банды: в Зи-минском уезде – банда Замащикова, в Иркутском уезде – банды Кочкина и Развозжаева [2, л. 75 об.]. Бандиты имели осведомителей среди местных крестьян, хорошо знали местность, имели в тайге стационарные базы и потому борьба с ними была крайне сложной.
Бандитизм принял настолько широкий масштаб, что, как отмечает известный иркутский историк А.П. Санников, в помощь милиции «…в 1925 г. в Иркутскую губернию был направлен воинский эшелон с эскадроном ОГПУ во главе с бывшим штабс-капитаном, кавалером четырех Георгиевских крестов и ордена Красного Знамени Петром Щетинкиным, развернувшем в крае настоящую войну с остатками боевых отрядов» [4, с. 194].
Сотрудников милиции в таких условиях, безусловно, было крайне недостаточно. Согласно статистическим сведениям по Иркутской губернии на 1 января 1925 г. в губернии проживало 634602 жителя, в том числе городского населения 136053, сельского населения 498549 человек. При этом количество милиционеров составляло: во всех уездных городах – 61 милиционер, в сельской местности 167, в г. Иркутске при его населении в 108000 человек, было всего 153 милиционера [2, л. 22]. (По ведомственным данным отраженным в «Акте о состоянии Иркутского ГАО на 15-е января 1925 г.» численность милиции на эту дату была 348 человек, в том числе в городской милиции Иркутска 179 милиционеров) [2, л. 127об.]. Разночтения здесь не случайны, так как количество работников милиции постоянно менялось.
Между тем уровень преступности был высок не только в сельской местности, но и в городах, в первую очередь в губернском цен- тре. Так, согласно «Сведениям о происшествиях по городу Иркутску» только за январь 1925 г. было зафиксировано грабежей – 4, нападений, в том числе и с целью грабежа – 7, краж – 84, побоев – 1, ранений – 2, убийств – 5, более сотни выявленных фактов самогоноварения и торговли самогоном. В этом месяце было убито в Иркутске два милиционера, один ранен [5, л. 1– 242]. В «Акте о состоянии Иркутского ГАО на 15 января 1925 г.», отмечалось, что только за октябрь – декабрь 1924 г. иркутским уголовным розыском зарегистрировано 893 уголовных правонарушения. Процент раскрываемости составил 44,2 % что, как указано в акте, «свидетельствует о неудовлетворительной работе» [2, л. 122]. Все эти обстоятельства очень остро ставили задачи как увеличения численности милиции, так и профессиональной подготовки милиционеров.
В определенной мере проблемы в деятельности милиции усугублялись проводимыми реформами и непостоянством в руководстве милиции Иркутской губернии, что порождало отсутствие преемственности и единства требований. 11 августа 1924 г. ВЦИК и СНК утвердили Положение об административных отделах в губерниях и областях. Согласно этому документу данные отделы представляли интересы НКВД в губернских советах и осуществляли руководство органами милиции и уголовно-исполнительной системы [6, с. 74]. Административный отдел Иркутского губернского исполнительного комитета и губерн- скую милицию возглавил т. Бернгардт, который проработал в этой должности всего три месяца – до середины ноября, после чего до начала 1925 г. временно исполнял обязанности начальника ГАО ГИК и милиции начальник подотдела ГАО А.А. Вимба [7, л. 113].
Однако нужно отметить, что в создавшейся ситуации проблеме повышения профессиональных знаний и начальной профессиональной подготовки руководство иркутской милиции придавало достаточно большое значение, о чем свидетельствуют документы, ныне хранящиеся в фондах Государственного архива Иркутской области. Первоначальная подготовка милиционеров проводилась, однако о систематизированной работе в этом направлении, говорить не приходится.
Для повышения квалификации комсостава городской милиции проводились еженедельные совещания строевых работников административного отдела и комсостава городской милиции с участием представителей прокуратуры и ОГПУ. С 1 ноября 1924 г. была организована подготовка рядовых милиционеров, которая должна была осуществляться путем проведения ежедневных политчасов по 77часовой ежегодной программе. В состав программы входили: правовые предметы – 34 часа, вопросы службы милиции – 30 часов, строевые занятия – 13 часов [2, л. 117]. Однако посещение этих занятий часто по разным причинам было невысоким, треть рядовых их не посещала.
Кроме первоначальной подготовки, действовала и система повышения квалификации и передачи опыта. Так, приказом начальника административного отдела ГИК и начальника милиции губернии № 88-а от 29 декабря 1924 г. первое отделение городской милиции было выделено в показное с целью обучения на его опыте милиционеров других четырех городских отделений [5, л. 232].
На местах ситуация была хуже. Подотделом милиции были разработаны и разосланы по уездам программы и учебные планы школьной и лекционной подготовки милиционеров. Однако, как было указано в акте о состоянии Иркутского ГАО данные программы и планы «в жизнь не проводились и вопросы подготовки кадров народной милиции оставались не решенными» [2, л. 117]. В этом же акте зафиксировано жалкое состояние с учебной и специальной литературой. «Литература специальномилицейская и уголовно-розыскная отсутствует во всех уездах. Юридическая, за исключением Иркутского, имеется исключительно старых, уже измененных изданий и к руководству не пригодная. Губернским административным отделом предприняты были меры рекомендации уездам выписки тех или иных пособий за их счет, но сам кроме ведомственной литературы не снабжал…» [2, л. 126 об.]. В акте констатировалась плачевная ситуация в целом, и в деле политико-просветительской подготовки сотрудников милиции, в частности. «Руководство полит- просветительской работой среди личного состава уездной милицией до настоящего времени в деятельности подотдела, как плановое явление, почти совершенно отсутствовало, и на местах никакой политико-просветительской и самообразовательной работы не проводилось. Начинания же мест в этой области тормозилось отсутствием в составе уездной милиции кадра работников, могущих самостоятельно вести политическую и просветительскую работу» [2, л. 117].
И как итог такого положения делается безжалостный вывод об уровне профессиональной подготовки личного состава милиции Иркутской губернии: «Командный состав самих Управлений У(ездной) милицией в Иркутском, Зиминском уездах полностью, а в Тулуновском – нач. домзака (начальник дома заключения) своему назначению не соответствует. Все без исключения Нач. Волмилиций [8] (начальники волостных милиций) требуют замены. В прочих управлениях уездных милиций и прочий строевой состав по своему классовому положению вполне пригоден к службе во всех уездах, но, не обладая ни специальной, ни юридической подготовкой и будучи слабым по своему общему уровню развития, требует замены их более квалифицированными работниками, или же надлежащего обучения. И вполне понятно, не обладая достаточным для сельского милиционера познаниями не только по вопросам советского строительства, но и специальными, это не дает возможности занять своё подо- бающее положение в деревне» [2, л. 126 об.].
Важнейшей проблемой был низкий образовательный уровень милиционеров. И хотя с февраля 1923 г. было запрещено принимать в милицию неграмотных, безграмотных и малограмотных было в милиции большинство. На 1 октября 1924 г. 97,4 % младших милиционеров в РСФСР было с низшим образованием и малограмотных [9, с. 178]. Иркутская губерния в этом смысле мало отличалась от прочих регионов России. В отчете административного отдела Иркутского губернского исполкома в НКВД отмечается, что в Иркутской губернии среди личного состава милиции на 1 апреля 1925 г. имеют высшее образование – 4 человека, среднее – 73, низшее образование и малограмотных – 525 человека, неграмотных – 9 сотрудников [2, л. 65]. Таким образом, 87,4 % сотрудников милиции Иркутской губернии были малограмотны.
Вопрос профессиональной подготовки не терпел более отлагательств. И это понимал назначенный начальником губернским административным отделом и начальником губернской милиции Д.В. Шленов, который вступил в должность 15 января 1925 г. Практически с первого дня работы новый начальник милиции озаботился проблемой профессиональной подготовки личного состава городской и губернской милиции и обратил на неё самое пристальное внимание.
Он начал пытаться создавать единую систему обучения сотрудни- ков милиции. Процесс обучения Д.В. Шленов взял под личный контроль. По его заданию подотдел милиции организовал регулярные проверки знаний несения службы милиционерами, которые выявили низкий уровень их профессионализма.
Уже 31 января 1925 г., через две недели после вступления в должность, Д.В. Шленов издает приказ № 114-а, в котором определяет: «С 29-го сего января с конным резервом проводить занятия с 8-ми до 10-ти часов ежедневно по строю, изучению обязанностей милиционера и политграмоте, согласно выработанных программ. Для ведения занятий конный резерв прикомандировывается к 3-му Отделению. Начальнику Отделения вменяю в обязанность произвести проверку знаний мл. милиционеров резерва, как по изучению обязанностей постовой службы, точно также по политграмоте… О результатах подготовки и дальнейших занятий с резервом мне доложить» [10, л. 123– 124].
11 февраля 1925 г. приказом № 124-а, Д. В. Шленов определяет в срочном порядке провести работу с сотрудниками городской иркутской милиции. В соответствии с приказом ежедневно за полчаса перед выходом на посты производилась проверка знаний милиционеров специально назначенными для этого старшими милиционерами. Особо подчеркивалось, что проверка должна производиться не рассказом, а практическим показом путем постановки вводных задач. Правильность несения службы должна была проверяться не менее двух раз в сутки дежурным или его помощником путем систематических проверок, в том числе ночных. Результаты проверок отмечались в контрольных постовых книжках милиционеров с указанием, какие замечания были сделаны. Начальники отделений, собрав общую сводку о результатах проверок от дежурных, ежедневно в 10 часов утра рапортом докладывали начальнику подотдела милиции тов. Урбановичу. Ответственность за проведение проверочных занятий приказом возлагалась на помощников начальников отделений милиции [10, л. 140–141].
Приказ № 125 от 12 февраля 1925 г. касался уже упоминавшегося показного первого отделения гормилиции. Приказ предписывал провести проверку знаний комсостава отделения. Определялось, «…в первом Отделении Гормили-ции, выделенном в показное, сделать проверку знаний комсостава милиционеров. Слабо подготовленных выделить в особую группу и вести с ними отдельно занятия в те же часы, но специально выделенным для этих занятий лицом. Проверку знаний Уголовно-процессуального кодекса (далее УПК) в рамках, необходимых для надзирателя, а также технику выполнения производства дознаний возлагаю на товарища Корнакова, строевую подготовку, знание постовой службы и обязанностей комсостава и милиционеров, знание оружия, умение с ним обращаться, дисциплинарный устав возлагаю на начальника подотдела милиции т. Киренского. По- верку закончить не позднее 15 числа сего месяца и о результатах таковой доложить по команде рапортом. Усилить в Отделении работу по инструктированию. В части производства дознаний, составлении протоколов обратить внимание на правильную техническую подготовку и применение УПК. Для этого комсоставу, помимо текущей работы, давать не менее одной отчетной работы в неделю по производству дознаний как по нарушению обязательных постановлений, так и по ведению судебно-следственных дел.
Проверку отчетных работ возлагаю на начальника первого отделения Гормилиции т. Скаман, которому о всех дефектах производства дознаний заносить персонально о каждом в особый журнал, форму которого получить в подотделе милиции и периодически 1 и 15 числа каждого месяца представлять в подотдел для просмотра… Наблюдение за этой работой возлагается на помощника Начальника Отделения» [5, л. 242].
Закономерно, что с именем Д.В. Шленова связана организация и открытие первого в Восточной Сибири специального учебного заведения, готовившего сотрудников милиции – «Школы младшего командного состава милиции» в г. Иркутске – предшественника Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Российской Федерации, учебного заведения которое сегодня продолжает дело профессиональной подготовки солдат правопорядка.
В «Акте о состоянии Иркутского ГАО на 15 января с.г. (момент вступления в должность Нач. ГАО отв. Шленова)», интереснейшем историческом документе, подробным образом анализировавшем состояние дел в милиции Иркутской губернии, Д.В. Шленовым были пред- ложены конкретные меры по устранению выявленных недостатков (табл. 1). Среди прочих мер, для нас наиболее интересны меры, проливающие свет на историю организации первого милицейского профессионального учебного заведения в г. Иркутске [2, л. 133 об.].
Таблица 1
Меры по устранению выявленных недостатков
|
Дефекты в работе |
Причины дефектов |
Что сделано к их устранению |
Что надо сделать |
|
А) Полное отсутствие учебной работы в уездах и слабость общей специальной и технической квалификации работников Умилиции (уездной милиции) и сельместностей в особенности |
А) Отсутствие в уездах учебных резервов, текучесть личного состава Умилиций (уездной милиции), неумение вести руководяще-преподавательскую работу по специальным вопросам, использованием имеющихся оперативных резервов для несения текущей службы. |
А) Дано категорическое распоряжение о немедленном и безоговорочном использовании оперативных резервов исключительно для учебных целей и о создании небольших учебных резервов, там где оперативных резервов не было, при чем обучение в настоящее время уже начато почти по всем уездам в открытой при ГАО школе младшего комсостава, часть мест предоставлена работникам уездов. |
А) и Б) Усиление инструктажа мест по вопросам подготовки и обязательный пропуск через уч. резервы всего наличного строевого состава; создание постоянной Губшко-лы мл. комсостава |
|
Б) Недостаточность спец. подготовки работников гормили-ции |
Б) Недостаток внимания ГАО к изысканию средств для подготовки милиции и использование существовавшего при ГАО резерва исключительно для оперативных заданий. |
Б) Открыта школа-резерв мл. ком. состава с переменным штатным составом в 30 чел. и программой обучения в 432 часа /полит. и образовательные предметы по 60 ч., строй 63 ч. и служба милиции 249 часов/ |
Как видим, школа-резерв младшего командного состава милиции в январе 1925 г. действовала. Однако школа действовала на непостоянной основе и для организации качественной профессиональной подготовки милиционеров встала задача создания губернской школы младшего командного состава милиции уже как постоянно действующего специального учебного заведения.
Инициатива Д.В. Шленова не была уникальной и самодеятельной. Она совпадала с задачей поставленной НКВД. Если до середины 20-х гг. обучение милиционеров на местах носило временный и «случайный» характер, то конец 1924 г. стал поворотным пунктом в деле подготовки советских милиционеров [11, с. 200]. Проблема подготовки милицейских кадров была актуальна по всей стране. Административно-строевой подотдел одного из отделов Главмилиции НКВД РСФСР в течение 1921–1925 гг. разработал организационные и правовые основы школьно-курсовой подготовки милиционеров. В организационную структуру профессио- нального милицейского обучения входили: школы резервов, губернские школы для подготовки младшего командного состава, школы среднего командного состава милиции. В стране формировалась система школьно-курсовой подготовки, которая включала все типы учебных заведений готовящих различные категории личного состава милиции [12, с. 105–106].
Поэтому инициатива нового начальника Иркутской милиции полностью соответствовала требованиям кадровой политики НКВД и не встретила возражений. 28 марта 1925 г. в приказе по общему отделу № 96 начальника административного отдела ГИК и начальника милиции губернии было официально объявлено о создании Губернской школы младшего командного состава милиции. Учитывая важность данного документа, приведем содержание его полностью:
«§ 2. С. 31 сего марта ввести в штат вверенного мне Губадмотдела (губернского административного отдела) школу младшего комсостава (командного состава) со следующими должностями:
|
Наименование должности |
Количество лиц |
|
Инструктор пешего строя Политрук Преподавателей Переменного состава милиционеров |
1 1 По мере действительной надобности 25 |
|
Итого: |
27 |
-
§ 3. Надзор и непосредственное руководство школой возлагается на нач. п/отдела милиции,
наблюдение: а) за выполнением правил внутреннего распорядка в школе на инструктора пешего строя, б) за выполнением учебного плана в школе на политрука.
-
§ 4. Начальнику п/отдела милиции приказываю к 2 сего апреля предоставить мне на утверждение проект положения о школе и план занятий.
-
§ 5. Зачисляются в список школы младш. милиционерами т.т. Усов Григорий, Витверко Виктор, Труфанов Иван и Галенкин Максим с 30 марта с.г.» [13, л. 177].
Таким образом мы знаем имена первых курсантов школы. Возглавил школу в соответствии с приказом начальник подотдела милиции т. Урбанович, первым политруком школы назначен Л.С. Шадхан [10, л. 366], инструктором пешего строя И.Г. Бабкин [10, л. 237].
Началась работа по организации набора в школу, подбору преподавателей, подготовка к проведению занятий. Первое помещение школы было расположено в здании административного отдела ГИК. О том, что школа открыта и функционирует с 15 апреля, Д.В. Шленов доложил в НКВД в Москву в конце апреля 1925 г. в «Отчете Административного отдела Иркутского губисполкома» [2, л. 44].
Приказом начальника АО ГИК и начальника милиции губернии № 195-а от 30 апреля 1925 г. был объявлен список курсантов первого набора школы. Всего было набрано 32 курсанта. Из них из Иркутска – 16 человек, Черемховского городского отдела милиции – 2 человека, Зиминской уездной милиции – 2 человека, Верхоленской уездной милиции – 1 человек, из работников Иркутского изолятора – 7 человек, Александровского изолятора – 4 [7, л. 37].
В начале июня 1925 г. в приказе начальника АО ГИК и начальника милиции губернии № 132 были определены функциональные обязанности работников школы:
«Инструктор пешего строя: Наблюдение за внутренним порядком школы. Обучение строю, гимнастике, преподавание уставов, обучение кавалерийскому строю, изучение оружия, как то: винтовка, револьвер, пулемет, изучение гренадерского дела, изучение стрелкового дела. Стрельба и метание гранат. Ведение хозяйственной отчетности.
Политрук: Преподавание обществоведения. Политвоспитание курсантов, ведение занятий в кружке самообразования. Наблюдение за учебной частью школы. Учет посещаемости курсантами уроков. Устройство экскурсий, агитсудов, организация и наблюдение за красным уголком. Организация стенгазеты. Ведение журнала педагогических совещаний. Секретарствование» [10, л. 266]. Преподаватели иных предметов набирались из гражданских учебных заведений на временной основе по мере надобности.
Так началась история профессионального милицейского образования в Восточной Сибири. История, которая требует своего исследователя и продолжается сегодня в стенах Восточно-Сибирского института МВД России в г. Иркутске.
Список литературы Становление милицейского образования в Восточной Сибири в 20-х годах ХХ века
- Полиция и милиция России: страницы истории/А.В. Борисов, А.Н. Дугин, А.Я. Малыгин и др. М.: Наука, 1995.
- Государственный архив Иркутской области (далее ГАИО). Ф. Р-145. Оп. 1. Ед.хр. 844.
- История правоохранительных органов Отечества: учебное пособие/В.В. Рыбников, Г.В. Алексушин. М.: Щит-М, 2008.
- Санников А.П. Бандитизм в Иркутской губернии в 1920-е годы//Силовые структуры России: сборник научных статей. Иркутск: ВСИ МВД РФ, 2007.
- ГАИО. Ф. Р-145. Оп.1. Ед.хр. 842.
- История органов правопорядка России в точных датах: хронологический справочник/Ю.Н. Моруков. М.: Объединенная редакция МВД России, 2007.
- ГАИО. Ф. Р-146. Оп.1. Ед.хр. 842-б.
- До 1926 г. существовала Иркутская губерния, которая делилась на уезды, а те в свою очередь -на волости.
- Колемасов В.Н. Организация профессиональной подготовки сотрудников милиции России в 1920-е годы//Новый юридический журнал. 2012. № 2.
- ГАИО. Ф. Р-169. Оп. 2. Ед. хр. 1.
- Токарева С.Н. Общеюридическая подготовка советских милиционеров в 1920-е годы//Вестник Воронежского института МВД России. 2013. № 3.
- Филиппова Л.Е. Формирование образовательных учреждений НКВД в период становления Советской России как часть общей кадровой политики правоохранительных органов//Вестник Владимирского юридического института. 2007. № 1(2).
- ГАИО. Ф. Р-145. Оп.1. Ед.хр. 842-а.