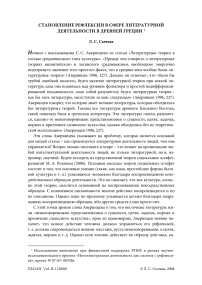Становление рефлексии в сфере литературной деятельности в Древней Греции
Автор: Сычева Людмила Сергеевна
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.2, 2008 года.
Бесплатный доступ
В рамках разрабатываемой группой новосибирских и московских исследователей теории «социальных эстафет» в статье рассматривается появление литературных теорий в работах философов Древней Греции в качестве индикатора становления рефлексии по поводу художественного творчества, что означает возникновение мощного механизма сохранения накопленного опыта и существенно изменяет характер последующей литературной деятельности.
Античные теории литературы, их формирование; литературная критика; социальная практика
Короткий адрес: https://sciup.org/147103256
IDR: 147103256
Текст научной статьи Становление рефлексии в сфере литературной деятельности в Древней Греции
С этой точки зрения слова Аверинцева о том, что восточные литературы жили «невыговоренными представлениями о сущности, целях, задачах, нормах и приличиях словесного искусства», вряд ли правомерны. Аверинцев неявно полагает, что всякое действие человека должно управляться его рефлексией, т. е. должно сопровождаться некими текстами, пусть невыговоренными, о целях, задачах, нормах и т. д. Однако если человек действует по образцу действия, ко- торое осуществляет другой человек, то он реализует и цели, сопровождающие действие-образец. Иначе говоря, появление литературной теории с позиции теории социальных эстафет – это не переход от невыговоренных представлений о целях и задачах литературного творчества к выговоренным, а переход от действий по образцам в сфере литературного творчества к действиям по тем нормам, канонам, которые содержатся в литературной теории. Именно значимость самого факта наличия литературных теорий подчеркивает Аверинцев в приведенных вначале статьи словах. Он ставит вопрос, что собой представляла литературная теория древних греков, и пишет дальше, что господствующей формой поэтики Аристотеля являются дефиниции, и из них – самая главная дефиниция – «это определение большой жанровой формы, т. е. в данном случае – трагедии» (Аверинцев 1996, 233). Аверинцев совершено прав, говоря: «Зрелая античная мысль обрела в дефиниции такой мощный механизм сохранения накопленного опыта, возникших идей, обеспечения общеобязательной однозначности употребляемых терминов… какого не имела ни одна из более древних интеллектуальных традиций» (Аверинцев 1996, 235; курсив мой – Л. С.). Действительно, наличие литературных теорий – новое важное средство для сохранения литературного опыта. Однако вряд ли можно согласиться с тем, что «современная наука начинает с дефиниции предмета: прежде чем рассуждать, необходимо договориться, о чем, собственно, мы рассуждаем» (Аверинцев 1996, 234). Скорее фактом является то, что определения предмета венчают некоторый этап развития науки, а не предваряют, и непосредственные исследования ученые ведут, действуя по образцам.
Рассмотрим подробнее, как С. С. Аверинцев описывает, что изменяется в литературном творчестве с появлением в Древней Греции литературных теорий. Он показывает, что в поэтике древнегреческой литературы происходит отработка и опробование норм, которые сохраняют значимость для европейской литературной традиции в течение двух тысячелетий (Аверинцев 1996, 146). Эти нормы подготовила и осуществила эллинская классика. Для словесной культуры предыдущих эпох (в дописьменной стадии, в литературах древнего Ближнего Востока и у архаических истоков самой греческой литературы) характерен «дорефлективный традиционализм». Эллинская классика подготовила и осуществила всемирноисторический поворот от дорефлективного традиционализма к рефлективному традиционализму, который оставался «константой литературного развития для средневековья и Возрождения, для барокко и классицизма» (Аверинцев 1996, 146). Позднеантичный эпилог классики расширил и упрочил этот поворот. Суть поворота в том, что «литература осознает себя самое и тем самым впервые полагает себя именно как литературу, т. е. реальность особого рода, отличную от реальности быта или культа» (Аверинцев 1996, 146). Благодаря работам Платона и Аристотеля это самоопределение литературы оформилось в рождении поэтики и риторики – литературной теории и литературной критики.
Так, Аристотель в Поэтике (1447а8–10) пишет, что будет говорить о поэтическом искусстве как таковом и о видах его; о том, каковы возможности каждого вида; о том, как должны составляться сказания, чтобы поэтическое произведение было хорошим; из скольких и каких оно бывает частей. Он определяет трагедию как «подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем» (1449b25). Здесь указан родовой признак поэзии – «подражание», и видовой признак трагедии – «подражание действию». Конечную цель трагедии Аристотель видел в том эмоциональном впечатлении, которое она производит на зрителя, и описывал те способы, которыми это может быть достигнуто. Он выделял в трагедии следующие шесть частей: миф, или фабулу, характеры, разумность, сценическую обстановку, словесное выражение и музыкальную композицию» (1450a10).
Три из этих шести частей (миф, словесное выражение и музыкальный аккомпанемент) упоминаются Платоном в третьей книге Государства , а характеры и разумность постоянно учитывались риторами. Однако, как пишет Т. А. Миллер, выстроенные в один ряд, эти шесть частей получили у Аристотеля существенно новую трактовку: «Если у Платона “миф”, “стиль”, “напев”, были носителями нравственного начала и анализировались по признаку тех моральных свойств, которые в них заключались, то у Аристотеля этическая сторона произведения выделилась в особую “часть”, в “характеры”. Благодаря этому остальные части освободились от “морального содержания”, т. е. стали рассматриваться как технические приемы, а не как носители нравственных качеств» (Миллер 1975, 118).
Заимствовав у Платона сравнение цельности художественного произведения с цельностью живого организма, и у риторов – их учение о вероятностной, правдоподобной аргументации и о способности слова вызывать эмоции страха и жалости, Аристотель соотнес все это с интеллектом, как со свойством познания, т. е. по-новому осветил прежние элементы в контексте новой эстетики. В итоге он сформулировал три условия хорошей трагедии.
Первое условие – «цельность» объема, потребовав от художественного произведения, прежде всего, ясности. Однако в отличие от Платона, он истолковал ясность как помощницу знания, как то, что делает вещь хорошо обозримой и легко запоминающейся.
Второе условие – поэт должен был изображать действия как правдоподобные, вероятные. Аристотель приравнял вероятностную аргументацию и философию, сказав, каждая из них исследует один и тот же предмет – «всеобщее» в отличие от единичного. Это позволило Аристотелю опровергнуть обвинение, возведенное Платоном на поэзию, – обвинение в неспособности познавать сущность вещей.
Третье требование заключалось в том, что Аристотель предписывал изображать в трагедии действия страшные и жалкие. В страшном и жалком он увидел эмоцию удивления – то чувство, которое Платон в Теэтете (155d) и сам Аристотель признавали первым толчком абстрактного знания.
Исходя из того, что главная цель трагедии – эффект страха и жалости, а также ее способность давать знание о всеобщем, Аристотель выстраивает все драматургические приемы. Главное место в «идеальной трагедии» занимала фабула (миф),
Аристотель называл ее душой трагедии и предписал добиваться трагического впечатления в самой фабуле, а не сценическими декорациями (1543b). В отличие от Платона, который резко противопоставлял «идеальное искусство» греческой литературе своего времени, Аристотель предлагал свою модель не как абстрактную схему, а как обобщение опыта классической поэзии своего времени.
Аристотель создал, как видим, новую норму сценического действия: «Он четко разделил две стороны всякого художественного произведения, его мораль, т. е. способность воспитывать человека, и его форму, т. е. те приемы, которыми пользуется писатель, чтобы придать своему сочинению эстетическую выразительность. Отделив этику от техники и рассмотрев обе эти стороны в разных трактатах, Аристотель первый осмыслил поэтическую технику не как случайную сумму приемов, а как систему, где части взаимообусловлены друг другом» (Миллер 1975, 132).
Таким образом, литературная теория как рефлексия над словесным творчеством существенно изменяет «фундаментальные компоненты объективного бытия литературы». В эпоху эллинской классики «литература осознает себя самое и тем самым впервые полагает себя самое именно как литературу, т. е. реальность особого рода, отличную от реальности быта или культа (Аверинцев 1996, 146)». Самоопределение литературы оформилось в рождении поэтики и риторики – литературной теории и литературной критики.
Изменение фундаментальных компонентов бытия литературы прежде всего касается категории жанра. На стадии дорефлективного традиционализма жанр определялся из внелитературной ситуации – культовой или бытовой. Это были фольклорные причитания, гимны, псалмы. Появление рефлексии ведет к тому, что «жанр получает характеристику своей сущности из собственных литературных норм, кодифицируемых поэтикой или риторикой» (Аверинцев 1996, 147). Иначе говоря, до эллинской классики фольклорные причитания, гимны и т. п. играли подчиненную роль, определявшуюся их значимостью в быту, в культовых действиях. Становление же трагедии как жанра, связанное с преобразованием хоровых песен, сопровождавших культ Диониса, и закрепление этого жанра в Поэтике Аристотеля обозначает появление в Древней Греции литературы как специального занятия людей. Как пишет Аверинцев, номенклатура античных жанров претерпевает «смысловой сдвиг»: например, «трагедия», по буквальному смыслу ритуальное «козлопение», отныне прежде всего стихотворное сочинение из драматического рода, правила которого сформулированы Аристотелем и которое в принципе может (как то у римлянина Сенеки) стать драмой для чтения; «эпиграмма», по буквальному смыслу «надпись» на камне или ином предмете, отныне прежде всего лирическая малая форма с определенными характеристиками, касающимися объема, метра и топики. Смысловой сдвиг означает не что иное, как перенесение центра тяжести с обслуживающей функции прежних «трагедий», «эпиграмм» на анализ того, как устроена (или как должна быть устроена) трагедия, эпиграмма как литературные формы. Здесь осуществляется рефлексивное преобразование, происходит смена референции – если раньше эпиграмма определялась как описание того, что это такое (надпись на камне), то теперь референтом становятся ее характеристики – объем, метр, топика.
Изменение претерпевает также представление об авторстве. Если раньше авторство было тождественно архаическому понятию авторитета («изречения Птаххотепа», «псалмы Давида» и т. п.), то в риторике авторство обозначает характерный индивидуальный стиль.
Греки задали, считает Аверинцев, основное направление сознательных литературных исканий очень надолго. Концепция жанра как центральная и стабильная категория теории литературы была поколеблена только в Новое время с появлением романа, своеобразного «антижанра», самим своим присутствием, как показал М. М. Бахтин, разрушавшего традиционную систему жанров.
Таким образом, мы зафиксировали тот факт, что в Древней Греции в работах философов появляются литературные теории как рефлексия над литературным творчеством. Существенно при этом, что в других культурах и литературах подобные теории не появляются.
Благодаря появлению литературной теории происходит переход от действий по образцам в сфере литературного творчества к действиям по тем нормам, канонам, которые содержатся в литературной теории. Важно, что античное учение о жанрах нормировало, по словам Аверинцева, литературную деятельность вплоть до Нового времени, когда появление романа разрушило традиционную концепцию жанра.
Обратим внимание на то, что Поэтика Аристотеля определила литературную деятельность из ее собственных оснований, в отличие от ее статуса посредника в быту или в культовых действиях, как это было прежде. Это не единственный принципиальный «поворот», осуществленный в культуре Древней Греции благодаря философии. Так, во всех развитых цивилизациях люди умели решать задачи, которые имели практическое содержание – складывать, умножать, вычислять проценты и т. д. Однако только в древнегреческой культуре возникли Начала Евклида, как система математического знания, важного само по себе, а не только как средство решения практических задач. Вероятно, нет единственной причины этого, но существенную роль сыграли философские взгляды Платона и Аристотеля, которые подчеркивали важность не утилитарных установок в Культуре.
Список литературы Становление рефлексии в сфере литературной деятельности в Древней Греции
- Аверинцев С. С. (1996) Риторика и истоки европейской литературной традиции (Москва)
- Миллер Т. А. (1975) «К истории литературной критики в классической Греции V-VI вв. до н. э.», Древнегреческая литературная критика (Москва)
- Розов М. А. (2006) Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии (Смоленск)