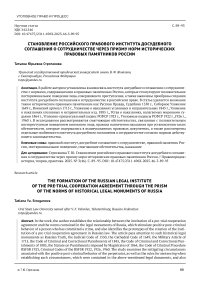Становление российского правового института досудебного соглашения о сотрудничестве через призму норм исторических правовых памятников России
Автор: Строганова Т.Ю.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 3 (46), 2025 года.
Бесплатный доступ
В работе автором установлена взаимосвязь института досудебного соглашения о сотрудничестве с нормами, содержащимися в правовых памятниках России, которые стимулируют положительное посткриминальное поведение лица, совершившего преступление, а также выявлены прообразы создания института досудебного соглашения о сотрудничестве в российском праве. В статье уделяется внимание таким историческим правовым памятникам как Русская Правда, Судебник 1550 г., Соборное Уложение 1649 г., Воинский артикул 1715 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных изд. 1885 г., Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г., Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г., Уголовные кодексы РСФСР 1922 г.,1926 г., 1960 г. В исследовании рассматриваются смягчающие обстоятельства, связанные с положительным постпреступным поведением виновного лица, правила назначения наказания при установлении таких обстоятельств, которые содержались в вышеуказанных правовых документах, а также рассмотрены отдельные особенности института досудебного соглашения о сотрудничестве согласно нормам действующего законодательства.
Правовой институт, досудебное соглашение о сотрудничестве, правовой памятник России, посткриминальное поведение, смягчающие обстоятельства, наказание
Короткий адрес: https://sciup.org/14134020
IDR: 14134020 | УДК: 343.346 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-46-3-89-95
Текст научной статьи Становление российского правового института досудебного соглашения о сотрудничестве через призму норм исторических правовых памятников России
Институт досудебного соглашения о сотрудничестве имеет многовековую историю. Изначально он возник в Средние века в Британии. «В то время существовало такое понятие, как „апелляция раскаявшегося”: преступник мог избежать смерти, если он рассказывал властям о преступлениях, совершенных другими. В дальнейшем эта практика прекратила свое существование — слишком многие оговаривали своих знакомых и даже родственников, а пока власти разбирались в их показаниях, преступники сбегали из тюрьмы» [7, c. 136] .
В XIX в. в США на базе института присяжных заседателей была закреплена подобная форма упрощенного судебного разбирательства и называлась она «сделка о признании» или «сделка с правосудием». «Апелляционный суд Нью-Йорка в одном из своих решений датировал возникновение указанной упрощенной формы отправления правосудия 1804 г. Как альтернатива громоздкому судебному следствию с участием присяжных, «сделки о признании» достаточно быстро получили распространение на территории США и части Англии. К 1900 г. около 90 % всех уголовных дел решалось путем заключения таких сделок. В 1970 г. Верховный суд США признал конституционность практики „сделок о признанииˮ, окончательно ее легализовав» [1, c. 29–31].
Сделка о признании вины являлась мощным средством упрощения уголовного судопроизводства на протяжении всей истории существования. В настоящее время институт «сделка с правосудием» применяется во многих странах мира, в частности в Италии, Испании, ФРГ, США, Канаде, Англии.
В российской истории аналогов досудебного соглашения о сотрудничестве в том виде, который закреплен в настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК РФ) и Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее — УПК РФ), не было выявлено. Однако если рассматривать досудебное соглашение о сотрудничестве как один из институтов, предусматривающих упрощенное производство, то очевидно, что правовые памятники России содержали как нормы, стимулировавшие положительное посткриминальное поведение лица, совершившего преступление, так и правила назначения наказания в случае, если такое поведение учитывалось правоприменителем.
Материал и методы
В статье использованы нормы правовых памятников России, предусматривающие учет положительного посткриминального поведения лица, совершившего преступление, и содержащие правила назначения наказания при таком поведении, а также нормы Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ, в которых закреплен институт досудебного соглашения о сотрудничестве. Автором применялись метод формальной логики, системный и историко-правовой методы.
Описание исследования
Первым историческим памятником России, в котором упоминалось о положительном постпреступном поведении виновного лица, заключающемся в добровольном признании вины, полагаем, следует считать Русскую Правду. А. Ю. Кирсанов справедливо утверждает, что Краткая редакция Русской Правды оговаривает сокращенный уголовный процесс при условии признания вины, так как подразумевалось, что дальнейший смысл судебного разбирательства при признании обвиняемого утрачивается. Напротив, при „запирательствеˮ обвиняемого требовалось предоставление свидетелей» [5, c. 9].
Е. Л. Федосеева отмечала, что «в Х веке законодательство Древней Руси содержало некоторые нормы, закрепленные в Русской Правде, свидетельствующие о возможности освобождения от наказания в связи с раскаянием. Так, виновный в краже, добровольно возвращавший похищенное законному владельцу, освобождался от ответственности, если против этого не возражал потерпевший» [12, c. 98].
В Судебнике 1550 г. такое обстоятельство, как признание вины, было закреплено, но оно для обвиняемого носило отрицательный характер. Согласно ст. 52 данного Судебника «а приведут кого с поличным впервые, ино его судити да послати про него обыскати. И назовут его в обыску лихим человеком, ино его пытати; и скажет на собя сам, ино его казнити смертною казнью; а не скажет на собя сам, ино его вкинути в тюрьму до смерти…» [2, c. 92–93]. Таким образом, если виновный признавался в преступлении, то его казнили, а если все отрицал или молчал, то оставляли в живых и назначали наказание в виде пожизненного лишения свободы. Согласие с обвинением в данном правовом памятнике России, в отличие от действующего уголовного законодательства РФ, не являлось смягчающим обстоятельством, наличие данного факта приводило к более строгому наказанию — смертной казни осужденного. Реформы, проводимые в государстве в те времена (правление Ивана Грозного), носили жесткий и устрашительный характер, поэтому о положительном поведении виновного, которое могло повлиять на смягчение наказания, не было и намека в правовых документах того времени.
Соборное Уложение 1649 г., в котором система наказания была еще более сложной и жесткой по сравнению с его правовыми предшественниками, предусматривало пытки обвиняемого во время проведения следствия. Получение информации при применении пыток достаточно сложно назвать добровольным сотрудничеством с органами, которые вели следствие, как это характерно институту досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренному действующим законодательством, поскольку по смысловому содержанию любому сотрудничеству характерны такие признаки как добровольность, совместность, слаженность, общее дело. Под тяжестью применения пыток обвиняемый мог признаться как в преступлении, которое совершил, так и в преступлении, которое не совершал. Однако, полученное подобным образом раскаяние лица, совершившего преступление, не влияло на вид или срок наказания. Очень часто в качестве наказания применялась смертная казнь. Более того, даже если, приговоренный к смерти сообщал какие-либо важные факты о других лицах, то ему ни в чем не верили (гл. XXI ст. 93. «А на которых людей языки учнут говорить с первые и з другие пытки, а с третьие пытки тех языков доведется казнить, и те языки, идучи к казни, учнут с тех людей на кого они говорили, зговаривать, и тому их зговору не верить» ) [9, c. 284]. Наказание имело главной своей целью устрашение населения и дальнейшее предупреждение совершения преступлений. В нескольких статьях Соборного Уложения прямо предусмотрено: наказать так, чтобы, на то смотря, иным «неповадно было так делать» (например, ст. 55,56,62 гл. XXI, ст. 3 гл. XXIII Уложения).
При карательном и устрашающем уклоне Воинский артикул 1715 г. содержал много прогрессивных положений, направленных на установление более гуманного отношения к виновным при назначении наказания в случае проявления ими позитивного постпреступного поведения, по сравнению с предшествующим периодом, поскольку Петр I при разработке данного правового памятника понимал несовершенство законодательства, действовавшего в России в то время. Так, 96 артикул предусматривал, что «ежели кто после своего побегу, раскаясь на дороге, сам возвратиться, и добровольно у своего офицера явится, оный по правде живота лишен не имеет быть, однакож ради его имевшего злаго замыслу по состоянию времени и по рассмотрению, шпицрутенами или иным каким наказанием наказать подобает» [10, c. 344]. В указанном положении впервые было сформулировано и закреплено такое смягчающее обстоятельство как «явка с повинной», при наличии которого виновного оставляли в живых, назначали более мягкое наказание, чем было положено за дезертирство и после исполнения наказания данное лицо продолжало нести службу в рядах действующей царской армии.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (далее — Уложение), принятое во времена правления Николая I, имело сложную, многоступенчатую систему наказания, однако в отличие от более ранних памятников права России содержало смягчающие обстоятельства, такие как изобличение соучастников преступления, признание и раскаяние в совершенном преступлении, явка с повинной. Статья 140 Раздела V «Об обстоятельствах, уменьшающих вину и наказание» Уложения предусматривала смягчающие наказание обстоятельства, в частности: « Когда виновный добровольно и прежде, нежели на него пало какое-либо подо-зренiе, явился въ судъ или же къ местному или другому начальству и вполне чистосердечно съ раскаяниiемъ сознался въ учиненномъ преступленiи; если онъ, хотя и после уже возбужденiя на счетъ его подозренiя, но вскоре, безъ упорства, по одному изъ первыхъ на допросе убежденiй или увещанiй, учинилъ съ раскаянiемъ полное во всемъ признанiе; если онъ безъ замедленiя, благовременно и также съ полною откровенностiю, указалъ всехъ участниковъ его въ преступленiи » [3, c. 111–112]. Действия, которые совершал виновный, должны были быть добровольными, чистосердечными, своевременными, а информация достоверной и полной. Такая характеристика признаков объяснялась тем, что в те годы «законодательство и практика предусматривали очень высокие требования к морально-нравственным аспектам „явки с повиннойˮ, признания и раскаяния. Отсюда и высокая значимость последствий для повинившегося» [6, c. 142]. В результате учета данных смягчающих обстоятельств суд мог заменить один вид «уголовного» наказания на другой более мягкий вид «исправительного» наказания или же виновному вообще не назначалось дополнительное наказание. В гл. IV « О смяг-ченiи и отмене наказанiй » Уложения было закреплено правило, которое позволяло сократить или смягчить наказание в роде или степени, назначаемое за совершенное преступление или проступок, при условии, если виновный признался в совершении преступления добровольно, изобличил всех своих соучастников, а также сообщил сведения о вновь готовящихся к совершению преступлениях [3, c. 116–117].
Кроме того, согласно Уложению изд. 1845 г., суд относил факт сотрудничества обвиняемого со следствием в виде изобличения соучастников и признания вины к смягчающим обстоятельствам. Соотнося с другими обстоятельствами, «сопровождающими вину, он мог более или менее уменьшить меру наказания, но, однако же, в определенной законом степени. Уменьшение наказания не было обязательно для судьи, и притом это постановление не имело значения при тех наказаниях, которые не имели степеней, как смертная казнь, или не могли изменяться в пределах степени, как, например, каторга без срока, ссылка на поселение» [11, c. 1312]. Следует отметить, что законодатель, установив возможные пределы наказания, которое можно назначить за определенное преступление, в указанном Уложении предпринял попытку ограничить судейское усмотрение при вынесении наказания, которое нередко переходило в произвол во времена действия прошлых правовых памятников России. Так, статья 141 предусматривает «по одному или нескольким из означенных в 140 статье, более или менее уменьшающих вину, обстоятельств суд, по соображении их с другими, сопровождавшими то преступление, может также более или менее уменьшать, но в определенной законами степени, меру следующего за оное наказание» 1. Срок (размер) наказания можно было уменьшать только в степени, определенной законом.
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных изд. 1885 г. остались рассмотренные нами ранее смягчающие обстоятельства, которые были предусмотрены в предыдущем Уложении изд. 1845 г. При этом правила назначения наказания стали еще более гуманными. В частности, в ст. 135 Уложения было предусмотрено, что при существовании «уменьшающих вину обстоятельств» суд мог снизить «меру следующего виновному наказания в пределах назначенной законом степени или понижать оное одною или двумя степенями; при назначении наказания за преступления и проступки печати суду предоставляется право, смотря по обстоятельствам, смягчать наказание одною или несколькими степенями и даже переходить к высшей степени ближайшего низшего рода наказаний [12, с. 92] .
Большое значение в Уложении (ст. 153) отводится «явке с повинной», при наличии которой были установлены особые правила назначения наказания, согласно которым «наказание за совершение преступления или проступка может быть смягчено не только в мере и степени, как о том сказано в ст. 135 Уложения, но даже и в размере, выходящем из пределов судебной власти». Данные правила применялись, только при наличии «явки с повинной» и совокупности иных обстоятельств, таких как полное чистосердечное признание, установление всех соучастников, а также «доставление верных и своевременных сведений, которые предупредят исполнение другого злого умысла, грозившего опасностью одному или нескольким частным лицам, или всему обществу, или государству» [12, с. 127].
Кроме того, явка с повинной могла быть признана «особо уменьшающим вину обстоятельством» (п. 23 ст. 135 Уложения) в ст. 1441 и 294 Уложения [12, с. 94].
Следует подчеркнуть, что наказание уменьшить могли не только суды. На основании ст. 775 Устава уголовного судопроизводства суд направлял представление о смягчении наказания осужденного в Правительствующий Сенат, который, если признавал нужным, то мог «ходатайствовать перед Императорским Величеством об уменьшении или перемене постановляемого законом наказания, определяя и меру предполагаемого смягчения» [12, c. 128].
Представляется, что приведенные положения Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. в достаточной степени схожи с действующими нормами УК РФ и УПК РФ, регулирующими отношения, связанные с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Сходство проявляется, прежде всего, в перечне обстоятельств, уменьшающих вину, в появлении «особо уменьшающих вину обстоятельств», которые были напрямую связаны с положительным постпреступным поведением виновного лица. Существенное же отличие между Уложением и действующими нормами права, регламентирующими институт досудебного соглашения о сотрудничестве, заключается в том, что никаких письменных соглашений с виновным о его будущих действиях органы власти не заключали, а также срок (размер) наказания определяется исключительно судом.
Из существующих правовых памятников следует обратить внимание на Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. (далее — Устав), который также содержал правила назначения наказания при наличии обстоятельств, уменьшающих вину. Так, статья 13 Устава среди обстоятельств, смягчающих вину и наказание, выделяет «признание и чистосердечное раскаяние» [3, c. 257]. При этом в данном нормативном акте отсутствует правило о том, в каком размере может быть уменьшено наказание виновному при наличии смягчающих обстоятельств. Лишь в ст. 12 Устава 1864 г. содержалось правило о возможных пределах назначения отдельных видов наказаний, таких как заключение в тюрьме, арест, наложение денежного взыскания с учетом имеющихся уменьшающих или увеличивающих вину обстоятельств. Так, «заключение в тюрьме назначается в пределах высшей и низшей меры, определяемой подлежащими статьями сего Устава; при назначении ареста, когда высший предел этого наказания положен в размере более трех дней, оно не может быть определено в размере трех или менее дней; назначение денежного взыскания, определенного законом только в одном высшем размере, может быть смягчаемо по усмотрению судьи» [3, c. 257]. В отношении иных видов наказания правила в данном Уставе отсутствовали.
Положения дореволюционного законодательства в дальнейшем частично были заимствованы ранним советским уголовным законодательством. В 1923 г. вступил в действие новый Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, который в ст. 282 закрепил положения об упрощенной форме уголовного судопроизводства, при этом в Кодексе отсутствуют положения о сокращении размера наказания при применении упрощенной формы. Данная норма предоставила суду право на переход к прениям сторон без судебного следствия в случае дачи подсудимым признательных показаний и его согласия с предъявленным обвинением.
Уголовные кодексы РСФСР 1922 г. и 1926 г. содержали перечни смягчающих обстоятельств. Однако в них отсутствовали такие обстоятельства, как явка с повинной, изобличение соучастников преступления, предупреждение совершения запланированного преступления, которые были названы в ст. 153 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных изд. 1885 г. В Уголовных кодексах РСФСР 1922 г. и 1926 г. упоминалось об исключительных обстоятельствах, но не было их перечней. Законодатель и в том, и в другом Кодексе предусматривал возможность определения меры социальной защиты ниже низшего предела наказания, предусмотренного законом, или перехода к другому, менее тяжкому роду или менее тяжелой мере социальной защиты. В Уголовном кодексе 1926 г. отсутствовало понятие «наказание»; вместо него законодатель использовал понятие «меры социальной защиты». Например, ст. 51 УК РСФСР 1926 г. содержала два варианта назначения меры социальной защиты. Во-первых, при наличии исключительных обстоятельств суд мог выбрать меру социальной защиты, предусмотренную в санкции статьи УК РСФСР, но ниже низшего предела, указанного в данной санкции. Во-вторых, при наличии определенного мотива, который необходимо было указать в приговоре, и исключительных обстоятельств суд имел право определить не предусмотренную в соответствующей статье УК РСФСР менее тяжёлую меру социальной защиты. В то время социалистическое правосознание имело огромное значение в правоприменительной деятельности. «Классовая принадлежность и социальное происхождение лица, совершившего преступление, имели решающее значение при выборе меры социальной защиты и влияли на степень общественной опасности совершенного преступления» [4, c. 10].
До конца 1950-х г. советское уголовное законодательство не включало явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления в перечень смягчающих обстоятельств. Впервые данные обстоятельства были законодательно закреплены в качестве смягчающих в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. Кроме того, согласно ст. 43 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. эти обстоятельства приравнивались законодателем к числу исключительных. Суд мог назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного законом за данное преступление, или перейти к другому, более мягкому виду наказания. Иных правил, влияющих на пределы назначаемого наказания при наличии рассматриваемых нами смягчающих обстоятельств, закон не содержал.
В Уголовном кодексе РФ 1996 г. впервые была осуществлена конкретизация правового значения как видов деятельного раскаяния в сфере назначения наказания путем включения правил, предусматривающих сокращение пределов наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств и наличии следующих смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» или п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. К смягчающим обстоятельствам законодатель отнес: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других со- участников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления и др.
Следует отметить, что в той или иной части постпреступное позитивное поведение лица, совершившего преступление, начиная с Русской Правды и заканчивая УК РСФСР 1960 г., учитывалось и, в большинстве случаев, оказывало воздействие на смягчение наказания, при назначении которого применялись специальные правила.
На современном этапе развития нашего общества потребовались более эффективные правовые средства, направленные на раскрытие и расследование преступлений, поэтому 29 июня 2009 г. в УК РФ и УПК РФ законодателем был введен в действие институт досудебного соглашения о сотрудничестве в качестве правового инструмента, способного ускорить расследование преступлений, в частности, «наиболее опасных, совершенных участниками преступных сообществ, организованных бандформирований путем привлечения правоохранительными органами к сотрудничеству лиц, состоящих в таких преступных группах».
Однако институт досудебного соглашения о сотрудничестве был неоднозначно воспринят как учеными, так и правоприменителями, поскольку имелось много неточностей и пробелов в его применении. Обозначились проблемы, возникающие при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и его реализации как в ходе предварительного расследования, так и при проведении судебного разбирательства. Недостатки рассматриваемого института состояли в отсутствии со стороны обвинения каких-либо гарантий о том, что при заключении такого соглашения и выполнении указанных в нем условий и обязательств подозреваемому реально будет снижен срок или размер наказания. Данное обстоятельство объясняется тем, что только у суда есть правомочия по решению вопроса о признании указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве обязательств выполненными и снижении на этом основании срока или размера наказания. Кроме того, громоздкость и сложность процедуры заключения такого соглашения, отсутствие надежных мер безопасности подозреваемого (обвиняемого) и членов его семьи, отсутствие учета мнения потерпевшего, большая вероятность оговора невиновных «тормозят» реализацию института досудебного соглашения о сотрудничестве в правоприменительной сфере в полном объеме. И. Л. Петрухин считает, что в российском уголовном правосудии «сделка — явление аморальное, бесчестное; это торг, компрометирующий власть, свидетельствующий о ее бессилии, неспособности раскрывать преступления» [8, c. 35]. А. С. Шаталов утверждает, что главный недостаток сделок с правосудием ˗ это возможный оговор со стороны обвиняемого любого лица с целью избежать назначения справедливого наказания [13, c. 136]. Стоит обратить внимание, что некоторые проблемы в применении исследуемого правового института были устранены законодателем, однако часть их так и осталась нетронутой, поэтому нельзя однозначно утверждать, что в настоящее время данный правовой феномен является достаточно совершенным.
Рассматривая внутреннее содержание данного правового института, следует отметить, что обстоятельством, определяющим весь смысл заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, является совершение позитивного постпреступного поведения виновного, которое в дальнейшем фиксируется правоприменителем и может быть приравнено к активному содействию следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления. При этом установление наличия указанных фактов могут повлиять на срок или размер наказания, пределы которого установлены ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ, а на также распространение на виновного мер государственной защиты, предусмотренных действующим законодательством. При применении правил назначения наказания по ч. 2 ст. 62 УК РФ верхний предел наиболее строго вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, значительно ниже (за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 62 УК РФ), чем при использовании иных специальных правил назначения наказания (за исключением, ч. 5 ст. 62 в случаях, указанных в ст. 226.9 УПК РФ, а также ч. 2 ст. 66 УК РФ). Кроме того, по усмотрению суда при заключении указанного соглашения могут быть применены правила ст. 64, 73 и 80.1 УК РФ.
Полагаем, что законодатель при создании института досудебного соглашения о сотрудничестве перенял некоторые правила, связанные с учетом положительного посткриминального поведения лица, совершившего преступление, при назначении ему наказания. Таким образом, совершение позитивного постпреступного поведения виновного лица и его учет правоприменителем при определении наказания, а также правила назначения наказания, понижающие верхний предел срока или размера наказания, а также выходящие за пределы санкции, упоминаемые в исторических правовых памятниках России, оказали влияние на становление исследуемого правового института в действующем законодательстве России. Однако также стоит уточнить, что форму в виде отдельного письменного процессуального документа, регулирующего правовые отношения между стороной обвинения и стороной защиты, российский вариант досудебного соглашения о сотрудничестве перенял от зарубежного аналога «сделки с правосудием».
Заключение и вывод
За 16 лет своего существования правовой институт досудебного соглашения о сотрудничестве занял определенную нишу в правоприменительной деятельности и был воспринят практикой достаточно положительно. Согласно информации, предоставленной Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, в 2020 г. судами Российской Федерации по первой инстанции из 530743 уголовных дел, рассмотренных по существу с вынесением приговора, 3 099 уголовных дел рассматривались в порядке гл. 40.1 УПК РФ, в 2021 г. из 566 430 уголовных дел — 3188 уголовных дел, в 2022 г. из 578 433 уголовных дел — 3 272 уголовных дел, в 2023 г. из 555 157 уголовных дел — 2 912 уголовных дел, в 2024 г. из 505148 уголовных дел — 2 707 уголовных дел. По итогам рассмотрения судами Российской Федерации уголовных дел, по которым с виновными были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, за 2020 г. осуждено 2 763 человека, за 2021 г. — 2 896, за 2022 г. — 2 988, за 2023 г. — 2 757, 2024 г. — 2 550 1.
Кроме того, следует отметить, за период, начиная с введения данного института до настоящего времени, законодателем в уголовно-процессуальные нормы, регулирующие данный институт, только дважды вносились изменения, а в уголовно-правовые — единожды.
Подводя итог, отметим, что наше государство достаточно длительное время шло к созданию и нормативному закреплению института досудебного соглашения о сотрудничестве. Данный институт стал своеобразным компромиссным вариантом совершенствования государственных институтов, который содержит в себе новые методы, направленные на раскрытие и расследование преступлений. Введение исследуемого правового института в УПК РФ и УК РФ было не только смелым, но и в полной мере обдуманным, правильным и своевременным шагом со стороны законодателя, направленным на уменьшение материальных и временных затрат при отправлении правосудия. Таким образом, влияние на становление правового института досудебного соглашения о сотрудничестве в России оказали не только зарубежные аналоги «сделки с правосудием», но и нормы правовых памятников России, регулирующие учет позитивного постпреступного поведения лица, совершившего преступление, а также нормы, содержащие правила назначения наказания при установлении смягчающих обстоятельств, связанных с таким поведением.