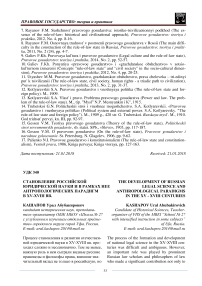Становление российской юридической науки и в рамках нее антропологических парадигм в XV-XVIII вв
Автор: Кашапов Урал Абубакирович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 1 (51), 2018 года.
Бесплатный доступ
Процесс становления и развития отечественной юридической науки в XV-XVIII вв. проходил сложно и неоднозначно. Тем не менее, важную роль в нем сыграли видные русские правоведы и философы права, внесшие значительный вклад не только в российскую, но и мировую сокровищницу правовой мысли. Юридическая наука того времени только начала получать свое оформление. Не появилось отличного от воли монарха правового текста, который нужно было толковать, сохранять усилиями профессиональных юристов. В связи с тем, что не было источников права, которые бы исходили не от государственной власти, рассмотрение споров о праве не отделялось от административного управления. Восприняв византийскую идею права, Россия не сформировала сословие, профессионально ее культивирующее. Это была добровольная, односторонняя рецепция византийского права на религиозной основе, что определило приоритет позитивного права над естественным и субъективным правом.
Юриспруденция, право, государство, личность, антропологические основания, человек
Короткий адрес: https://sciup.org/142233921
IDR: 142233921 | УДК: 340
Текст научной статьи Становление российской юридической науки и в рамках нее антропологических парадигм в XV-XVIII вв
В процессе своего становления философско-правовые взгляды в России были заложены еще на этапе возникновения раннего феодализма в устном народном творчестве, эпосе, летописях, памятниках права и литературы. В то время мировоззрение русского человека развивалось в системе традиционного права. Но необходимо все же отметить, что менталитету русского народа всегда было чуждо чисто формальное, рассудочное отношение к правовым законам, которое присуще народам протестантской и католической ветвей христианства. Например, еще в ХI веке митрополит Киевский Иларион в работе «Слово о Законе и Благодати» [11] указал на огромную пропасть между формальным законом (тенью) и благодатью (истиной), приданной отзывчивой и просветленной душе человека [21, с. 6], что уже явилось одним из первых показателей обращения к экзистенции человека.
В конце ХV в. происходит резкое повышение роли писанных источников права, значительное увеличение объема законодательного материала. Это явилось отражением тенденции к упрочению государственной власти, усилению централизации русской общественной жизни. В 1497 г. был подготовлен единый для всего русского государства Судебник. Чуть позднее появились и другие правовые сборники – Судебник 1550 г., Стоглав 1551 г., Судебник 1589 г., Уложение 1649 г. Эти документы отразили процесс создания общероссийской правовой системы. Следует отметить, что изгнанная из этих законов идея справедливости и подменившая ее идея права как таковая, прочно вошла в философию жизни россиян на общинном уровне и на уровне межличностных отношений.
Характеризуя процесс эволюции русского права в XV–ХVI вв., А. Станиславский писал, что «при таком состоянии источников права задача законоведцев стала гораздо труднее: частию потому, что материал, предлежащий их изучению, был теперь гораздо обильнее прежнего; частию и в особенности потому, что в практике приходилось часто сличать разнородные постановления законодательной власти как между собою, так и с льготными грамотами и обычаями местными; частию, наконец, потому, что обнародование законов, состоявшее преимущественно в прокликании их на торгах, было весьма недостаточно для доставления знакомства с их содержанием» [25, с. 22]. В этих условиях появилась необходимость специального преподавания и изучения законов. В одном из своих указов царь Иван IV (Гроз- ный) предписал «завести священникам в своих домах училища закона божия и гражданского». Ф. Морошкин заметил по поводу этого указа, что здесь открывается «первый признак школьной юриспруденции в России» [13, с. 111]. Этот указ послужил началом процессу правовой аккультурации и правовой социализации русского человека. «Факты показывают, однако, – отмечает современный исследователь российской юриспруденции, – что специальное изучение и преподавание права вплоть до XVIII в. сколько-нибудь заметного развития в русском обществе не получило» [26, с. 45-46]. В целом, на протяжении XV-ХVII вв. юриспруденция носила сугубо прикладной характер. Не иначе как в самом процессе практического осуществления правосудия или при составлении различного рода деловых бумаг приобреталось знание законов и умение с ними обращаться. «Русская первоначальная юриспруденция есть собственно юриспруденция дьяческая, – писал Ф. Морошкин. – Дьяк или клерк – сие таинственное, дивное существо в истории законодательства, с успехами единодержавия растет и с течением времени из карла делается великаном» [14, с. 214]. Участие дьяков в процессе осуществления правосудия специально предусматривали Судебники 1497 и 1550 гг. По словам И.И. Смирнова, «именно приказы, в частности казначеи, фактически держали в своих руках московское законодательство как в подготовительной стадии – разрабатывая проекты законов (представляемые в виде «докладов» на рассмотрение царя), так и в заключительных этапах законодательного процесса, где именно в руках казначеев находилось формирование и редактирование текста законов на основе норм царского приговора» [23, с. 352].
Что касается Запада, то важнейшим фактором ускоренного формирования юриспруденции западноевропейских стран и специализированного категориального аппарата в нем была рецепция римского права. Подобное влияние оказывал на развитие русской юриспруденции византийский вариант римского права. В России в силу того, что язык права не расходился в большей степени с народным языком, процесс институализации и эволюции юриспруденции не был связан с развитием юридического образования [26, с. 47-48]. Учебных учреждений как таковых в России до ХVII в., по словам М.Ф. Владимирского-Буданова, не было, так как «самое образование не признавалось за государственную потребность до конца ХVII в.» [4, с. 222]. Официальная церковь занималась подготовкой церковнослужителей, приходского духовенства, дьяков и подьячих. Такое образование можно было получить в приходской общине, где обучались чтению, письму, счету и «закону Божию» (по богослужебным книгам); к этому присоединялось сообщение всех сведений, которыми располагали тогдашние грамотеи: в азбуковниках того времени содержатся основные пункты вероучения, жития святых, извлечения из творений святых отцов, краткие словари, основные начала грамматики, иногда география [4, с. 222-223].
В ХVII в. в Российском государстве происходят определенные изменения – учреждается ряд учебных заведений; в них должен был изучаться целый комплекс дисциплин, выходящих за рамки области богословских наук (например, философия, иностранные языки, риторика и др.) [22]. В Москве открываются такие заведения как Андреевское братство (1649 г.), патриаршее Чудовское училище, Иоанно-Богословское училище (1666 г.). Пребывавший в середине ХVII в. в России немецкий ученый Адам Олеарий с неподдельным изумлением замечает: «В настоящее время они (русские – С.М.), – что довольно удивительно, – по заключению патриарха и великого князя, хотят заставить свою молодежь изучать греческий и латинский языки» [16, с. 404]. Подлинными же центрами просвещения и культуры православного населения российского государства были Киево-Могилянская коллегия и Славяно-греко-латинская академии. Киево-Могилянская коллегия (с 1701 г. – академия) была основана в 1632 г. митрополитом Петром Могилой. Она являлась столпом православной культуры на границе с католическим миром. Академия готовила не только богословов и церковных деятелей. Академический курс также включал ряд светских дисциплин, имевших целью осуществлять подготовку необходимых для государства специалистов в области правоведения – дипломатов, политических деятелей, государственных чиновников, правоведов и т.п. [27].

Примечательно, что прогрессивные преподаватели академии были знакомы с трудами Гуго Гроция и Самуила Пуфендорфа, придерживались естественно-правовых взглядов и на первый план выдвигали антропологические аспекты: монастику – учение о нравственности; экономику – знания о ведении хозяйства; политику – учение о государстве и праве. Преподавали в академии в разное время известные государственные и церковные деятели, ученые и философы – И. Гизель, Г. Конисский, Ф. Лопатинский, С. Яворский, Ф. Прокопович, Г. Бужинский и другие. Вторая академия – Московская славяно-греко-латинская – была основана в 1687 г. Симеоном Полоцким. Приглашенные из Константинополя католики братья Лихуды – Иоан-никий и Софроний – были первыми педагогами (отстранены по настоянию патриарха в 1694 г.). Учебные курсы читали многие преподаватели Киево-Могилянской академии, постепенно перебиравшиеся в Москву: Ф. Прокопович, С. Яворский, Г. Бужинский и другие [1]. Но все же вплоть до начала XVIII в. в русской юриспруденции господствовало религиозное мировоззрение. Церковники имели монополию на область познания и превратили все науки, находящиеся за пределами богословской догматики, во вспомогательные дисциплины, в служанок одной госпожи – теологии. Роль служанки выполняла и юриспруденция, развитие которой проходило в основном за счет ассимиляции русского обычного права с христианскими концепциями и привнесения иностранных элементов в русскую юриспруденцию. «До времени Петра I, – как отмечал А. Благовещенский, – познание законов состояло только в случайном знакомстве с существующими законами, в наружном искусстве прилагать их к встречающимся случаям и в наблюдении судебных форм и обрядов делопроизводства» [3, с. 438].
Коренной перелом наступил в эпоху Петра I, когда его преобразования положили начало становления светской науки и образованию. Это, в свою очередь, подорвало идеологическое влияние церкви на юридическую мысль. Помимо этого, обучение русских людей за границей, путешествия дворянской молодежи с целью повышения образования значительно расширили культурные горизонты русского общества, способствовали быстрому проникновению в круг ученых гуманистических и рационалистических взглядов раннебуржуазных мыслителей Западной Европы: Г. Гроция, Т. Гоббса, С. Пуфендорфа, Х. Вольфа и других. У истоков светской юриспруденции России стояли сам Петр I и его ближайший сподвижник Феофан Прокопович. Весьма оригинальную альтернативу дальнейшей преобразовательной деятельности императора предлагал Иван Посошков. В октябре 1724 г. Петр писал в Синод: «Посылаю при сем книгу Пуфендорфа, в которой два трактата: первый – о должности человека и гражданина, другой – о вере христианской, но требую, чтоб первый токмо переведен был, понеже в другом не чаю к пользе нужда быть» [24, с. 484]. Трактат С. Пуфендорфа «О должности человека и гражданина по закону естественному» был переведен на русский язык архимандритом Троице-Сергиева монастыря Гавриилом и опубликован в 1726 г., уже после смерти Петра. Произведения Самуила Пуфендорфа (1632-1694) содержали основные естественно-правовые положения и элементы теории общественного договора.
Русские мыслители конца ХVII–начала XVIII вв. Ф. Прокопович, В.Н. Татищев, И.Т. Посошков попытались в условиях оформления абсолютной монархии путем сочетания доктрины естественного права и положений священного писания идейно обосновать теорию «просвещенного абсолютизма», что уже предполагало учитывать интересы отдельного человека. При Петре I происходит существенное изменение в организационных формах процесса обучения. В 1724 г. была основана Академия наук, а при ней – первый в истории русского государства университет (философским, медицинским и юридическим факультетами), первыми профессорами которого являлись в основном иностранцы, читавшие курс права в соответствии с постулатами немецкой юриспруденции. В «Проекте учреждения Академии с назначением на содержание оной доходов», утвержденного именным указом Петра от 28 января 1724 г. (первом масштабном нормативном акте в деле создания университетов), юриспруденция называлась «искусством права» [17]. Все науки в Академии согласно документу были разделены на три класса: 1) математический, 2) физический, 3) гуманитарный – история и право. Проведение занятий на юридическом факультете поручалось академикам третьего класса. Из «юридических» дисциплин предусматривалось преподавание «права натуры» (естественного права), права публичного, политики и этики (нравоучения). Поскольку прибывшие по приглашению официальной власти для работы в Академии наук иностранные ученые представляли своими трудами в основном цикл естественнонаучного знания, а организованных форм университетского образования в первые годы функционирования Академии не было, возникла необходимость «оживить», исправить положение, в том числе и в отношении преподавания «искусства права». С этой целью был создан Регламент Академии наук и художеств 1747 г. [18]. Данным законодательным актом университет несколько обособлялся в системе Академии наук, проводилось различие между академиками, освобожденными от преподавания, и профессорами, читавшими лекции. Из двенадцати наименований наук, предписанных Регламентом для университета, к «юридическим» относились права натуральные и философия практическая и нравоучительная (ст. 45). Среди первых 16 зарубежных ученых – членов Санкт-Петербургской Академии наук, прибывших в 1725 г. в Петербург, были правовед Иоган Бекенштейн и специалист по моральной философии Христофор Гросс. Бекенштейн с 1726 г. стал академиком кафедры правоведения Петербургской академии наук. Он вернулся в Кенигсберг в 1735 г., оставшись почетным академиком Санкт-Петербургской академии наук. Большинство отечественных исследователей отводили академическому университету весьма незавидную роль в деле становления университетского (и юридического в том числе) образования. И тем не менее общий прогресс науки и культуры, упорядочение государственного управления создали благоприятную среду для поиска новых основ укрепления правового статуса личности.
В теоретическом плане вторая половина XVIII в. ознаменовалась значительными успехами в развитии русской политико-правовой мысли. Проявились и глубокие последствия петровских преобразований, и сближение с Европой, и влияние идейных течений, которые шли с Запада. Но в основе этих успехов лежали, бесспорно, те социально-экономические сдвиги, которые происходили в русской жизни.
Юридическая мысль в это время развивается бурно и плодотворно, происходит дифференциация правосознания. Наряду с консервативной идеологией выделяется в особое направление антикрепостническая просветительская мысль, открыто заявившая о себе на конкурсе Вольного экономического общества (1766 г.) и в ходе работы Уложенной комиссии (1767-1768 гг.). Указом императрицы Екатерины II от 24 января 1755 г. «Об учреждении Московского университета и двух гимназий» был утвержден «Проект об учреждении Московского университета» [20], который в литературе иногда называют первым университетским уставом. В состав университета предполагалось включить три факультета: подготовительный (философский) и специальные (медицинский и юридический). Необходимость создания юридического факультета объяснялась тем, что «...наука о правах по природе есть как бы основание всех прав и законов». Перечень предметов, изучавшихся на факультете, был определен М.В. Ломоносовым [15, с. 27]. Начало пятого параграфа Устава Московского университета было изложено в следующей редакции: «Профессоров в университете будет в трех факультетах десять. В юридическом: 1) Профессор всей юриспруденции, который учить должен натуральные и народные права и узаконения Римской древней и новой империи; 2) Профессор юриспруденции российской, который сверх вышеописанных должен знать и обучать особливо внутренние государственные права; 3) Профессор политики, который должен показывать взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей между собою, как были в прошедшие века и как состоят в нынешнее время» [15, с. 32]. На юридическом факультете читались следующие курсы лекций: естественное право, народное право, всеобщее положительное право, римское право, история римского права, политика, общая энциклопедия, история русского права, практическое законодательство российское, философия. Эпизодически читалось морское и военное право. Государству, имевшему обширное еще не системати-

зированное законодательство, требовались грамотные специалисты, знатоки национального права. Манифестом 15 декабря 1764 г. предписывалось создать на юридическом факультете Московского университета и в Кадетском корпусе "классы российской юриспруденции"; тем самым отменялась система подготовки гражданских чиновников при Сенате и коллегиях [18].
Однако правовое образование шло с трудом. Так, в 1765 г. на правовом отделении обучался только один студент. В 1779 г. при Московском университете по инициативе ректора созданы дворянские классы. Изучение права стало обязательным элементом дворянского образования. В 1783 г. дворянские классы были преобразованы в Благородный пансион. Первым профессором юридического факультета Московского университета стал австриец Филипп Генрих Дильтей, «заключавший в себе одном долгое время весь факультет правоведения и читавший лекции почти на всех европейских языках, кроме русского. Ему обязана Россия первыми образованными юристами» [14, с. 225]. Ф.Г. Дильтей (1727-1781) – доктор прав Венского университета, с 1756 г. в Московском университете читал курс естественного права, вел курс истории русского права, а также права военного, морского и уголовного. Профессор Ф.Г. Дильтей пользовался заслуженным авторитетом и популярностью в Москве. Его лекции посещали не только студенты, но и многие жители Москвы. По свидетельству современников, на москвичей большое впечатление произвела прочитанная профессором публичная лекция о роли права в жизни общества. Будучи не готовым к преподаванию внутреннего российского права, Дильтей принялся за изучение законодательства. В 1764 г. по поручению профессорской конференции он составил план преподавания на юридическом факультете. По его мнению, юридическая наука могла преподаваться лишь после законченного гуманитарного (философского) образования, в противном случае изучение права могло бы растянуться на 10-12 лет. Дильтей учитывал, что на факультете только один профессор (он сам), а потому предлагал следующий порядок преподавания дисциплин: 1) всеобщее или естественное право и право народное (как основа и фундамент всех прав); 2) установления римского права (здесь автор предлагал рассматривать российские законы с целью демонстрации их согласованности и, наоборот, противоречия с римским правом, т.е. отследить рецепцию); 3) право уголовное, право вексельное (как теория, так и российское законодательство); 4) право российское, обращенное в законоведение; 5) государственное право. Дильтей настаивал «на обязательной регулярной присылке» всех русских законов и просил передать ему двух студентов, уже занимавшихся изучением права, для оказания помощи в ознакомлении с российским законодательством и проведения его частной инкорпорации [7]. Основные сочинения Дильтея: «Первые основания универсальной истории с сокращенною хронологиею в пользу обучающегося российского дворянства» В 3-х ч. (М., 1762); «Начальные основания вексельного права, а особливо российского со шведским» (М., 1768); «Диссертация о наследованиях юридических или о дедукциях судебных дел» (М., 1781); «Собрание нужных вещей для сочинения новой географии Российской Империи» (М., 1781). В 1777 г. Дильтей издал учебник по истории русского права, а в 1779 г. – учебник по русскому праву и процессу для судей, который в соответствии с традициями того времени имел подробное название: «Исследование юридическое о принадлежности для суда месте, о судебной власти, о должности судейской, о челобитной и доказательстве судебном». Дильтей одним из первых поставил вопрос о необходимости публикации законов и указов и об ознакомлении с действующим законодательством широких масс населения. «Скрывать законы..., – писал он, – есть обыкновение канцелярий российских, не говорю всех, но некоторых, как я уже и сам довольно опытом узнал» [6, с. 2].
В 1767 г. юридический факультет Московского университета, состоявший из двух профессоров (Дильтея и Лангера), пополнился русскими учеными – С.Е. Десницким и И.А. Третьяковым, направленными в свое время для получения образования и подготовки к профессорскому званию в Англию в университет Глазго. По прибытии они были проэкзаменованы по всеобщей юриспруденции при участии Обер-секретаря III Департамента Сената и прочитали пробные лекции, заслужив одобрительные оценки профессорской коллегии [8].
Решением конференции профессоров Десницкому было поручено преподавание римского права «с применением к русскому праву отдельных законов», а Третьякову – истории права, сначала естественного, а затем – римского с древностями [9]. Иван Андреевич Третьяков
(1736-1776), защитив докторскую диссертацию в 1767 г. в Глазго (Шотландия), вернулся в Россию и с 1768 г. до конца жизни работал профессором права в Московском университете, преподавая юридическую науку русским студентам. Третьяков в своих произведениях пытался решать государственно-правовые проблемы своего времени в духе идеалов Просвещения и гуманизма. Научное творчество Третьякова оказало большое влияние на духовную жизнь мыслящих людей России второй половины ХVIII в. Перу ученого принадлежат: «Слово о происшествии и учреждении университетов в Европе на государственных иждивениях» (1768 г.); «Слово о римском правлении и о разных оного переменах» (1769 г.); «Рассуждения о причинах изобилия и подлинного обогащения государств как у древних, так и нынешних народов» (1772 г.).
Большую роль в становлении университетской правовой науки сыграли также русские правоведы: В.Т. Золотницкий, З.А. Горюшкин, А.П. Куницын. По существу, они выполняли миссию просветителей и сыграли большую роль в становлении и развитии правоведения в России. Излагая достижения западной юриспруденции, русские юристы не могли не чувствовать внутреннюю потребность излагать собственные идеи, отражавшие особенности теории и практики отечественного правоведения. «Удивительно, – писал Десницкий, – что в России до сих времен никакого почти особливого старания к отечественной юриспруденции прилагаемо не было» [5, с. 24].
С конца 60-х гг. XVIII столетия, когда юридический факультет обогатился преподавательскими кадрами из россиян, удалось обратить особое внимание на изучение российского законодательства. В частности, в предписании куратора университета Адодурова директору университета от 29 ноября 1767 г. прямо указывалось на необходимость следить за тем, чтобы на лекциях юридического факультета показывалось и «употребление российского права» [10]. Приверженцем естественно-правовых взглядов был В.Т. Золотницкий. Его работа «Сокращение естественного права, выбранное из разных авторов для пользы Российского общества» (СПб., 1764) была поистине первенцем русской юридической литературы и имела огромное значение для формирования системы теоретических юридических категорий. Одним из способных учеников С.Е. Десницкого был В. Новиков. Он стал первым русским автором, издавшим в 1790 г. учебное пособие по праву: «Театр судоведения, или чтение для судей и всех любителей юриспруденции, содержащее достопримечательные и любопытные судебные дела, юридические исследования знаменитых правоискусников и прочие сего рода происшествия, удобные просвещать, трогать, возбуждать к добродетели и ставить полезное и приятное времяпрепровождение». В яркой публицистической манере В. Новиков утверждал, что право должно играть в жизни людей и общества такую же социально-инструментальную и дидактическую роль, как и литература. Преподавание русского права в Московском университете в тот период ограничивалось военными и морскими артикулами, а первые примитивные учебники по праву компилятивного характера были изданы только в последнем десятилетии ХVIII в., что позволило сделать вывод об отсутствии в России того времени самостоятельной национальной юридической науки западного уровня [2, с. 259]. Это было вполне естественным, ибо по объективным причинам к описываемому моменту не могло сложиться национальное правоведение «западного уровня», университетское образование находилось в стадии становления, российская правовая наука носила «рецептивный» характер, заимствуя у Западной Европы основные правовые идеи с доминантой доктрины естественного права.
В начале ХIХ столетия идеи Десницкого о праве были восприняты видным представителем русского правоведения – Захаром Аникеевичем Горюшкиным. Долгое время (с конца 80-х гг. ХVIII в. до своей смерти в 1821 г.) он пользовался большой популярностью в Москве, сначала как чиновник, готовый помочь правильно составить и направить куда следует проше-
ние или челобитную, а потом как один из самых любимых профессоров Московского университета, где с 1786 г. по 1811 г. преподавал курс практического законоведения и истории русского законодательства. Горюшкин не получил никакого систематизированного образования, был «самоучкой». Право он изучал, служа в канцелярии Московского губернатора, а затем чиновником юстиц-коллегии. Как и Десницкий, Горюшкин доказывал, что недостаточно одного практического знания, и для России вредно преувеличивать значение иностранного законодательства. «Убеждение его состояло в том, что теоретическое познание о законах отечественных необходимо оплодотворять изучением истории и древностей» [25, с. 37]. Итогом практической, научной, преподавательской деятельности Горюшкина стало издание им четырехтомного труда «Руководство к познанию Российского законоискусства» (СПб., 1811-1816), длительное время бывшего главным пособием для всех изучавших российское право. Впервые в России Горюшкиным были составлены образцы юридических документов. Он уделял большое внимание не только форме, но и содержанию юридического документа, языку, стилю его написания, что способствовало развитию юридической техники, общей и правовой культуры. Главной целью преподавания правовых дисциплин Горюшкин считал необходимость формирования у обучаемых профессиональной этики, понимания роли и места юриста в обществе как неподкупного слуги закона. Эти традиции сыграли большую роль в становлении русских правоведов, которые подготовили и провели в России реформы 60-х годов ХIХ в.
Список литературы Становление российской юридической науки и в рамках нее антропологических парадигм в XV-XVIII вв
- Абрамов А.И. Философия в духовных академиях (традиции платонизма в русском духовно-академическом философствовании) / Вопросы философии. 1997. № 9. С. 138-155.
- Аннерс Э. История европейского права (пер. со швед.) / Ин-т Европы. М.: Наука, 1994.
- Благовещенский А. История метод законоведения в XVIII в. / Журнал Министерства народного просвещения. 1835. Ч. VI. С. 375-441; Ч. VII. С. 42-52.
- Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.
- Десницкий С.Е. Слово о прямом и ближайшем способе к изучению юриспруденции, в публичном собрании императорского московского университета.. говоренное.. июня 30 дня 1768 года. М., 1768.