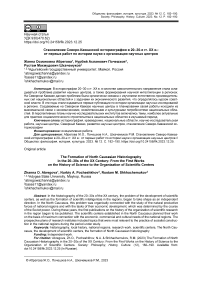Становление северо-кавказской историографии в 20-30-е гг. ХХ в.: от первых работ по истории науки к организации научных центров
Автор: Абрегова Ж.О., Почешхов Н.А., Шхачемуков Р.М.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
В историографии 20-30-х гг. XX в. в качестве самостоятельного направления стала складываться проблема развития научных центров, а также формирования научной интеллигенции в регионах. На Северном Кавказе данная проблема была органически связана с изучением естественно-производительных сил национальных областей и с задачами их экономического развития, что определялось курсом советской власти. В эти годы стали издаваться первые публикации по истории организации научных исследований в регионе. Создаваемые на Северном Кавказе научные центры в планировании своей работы исходили из максимальной связи с экономическими, хозяйственными и культурными потребностями национальных областей. В перспективные планы научно-исследовательских институтов включались темы, наиболее актуальные для практики социалистического строительства в национальных областях в изучаемый период.
Историография, краеведение, национальные области, научно-исследовательская работа, научные центры, северный кавказ, развитие научных центров, становление северо-кавказской историографии
Короткий адрес: https://sciup.org/149144743
IDR: 149144743 | УДК: 930(470.62) | DOI: 10.24158/fik.2023.12.25
Текст научной статьи Становление северо-кавказской историографии в 20-30-е гг. ХХ в.: от первых работ по истории науки к организации научных центров
В 20-е годы вопросы планирования научно-исследовательской работы и подготовки кадров научной интеллигенции находили все более широкое освещение в различного рода публикациях. Это было связано прежде всего с освоением практического опыта становления советской науки. В качестве важнейших направлений совершенствования научных исследований в национальных областях Северного Кавказа выдвигались задачи изучения естественно-производительных сил и планирования научных исследований (Алиев, 1928: 44).
В 1927 г. был издан сборник «Научные работники и научные учреждения Северо-Кавказского края», ставший первой и практически единственной попыткой изучения характера и принципов объединения научных работников края в профсоюзные организации1. Сборник интересен тем, что в нем довольно подробно характеризовались первые объединения научных работников края: Юго-Восточная комиссия улучшения быта ученых (ЮВКУБУ) и Северо-Кавказское краевое бюро секции научных работников.
Составители сборника сделали попытку отразить основные направления культурно-просветительной и общественной деятельности членов секции, показать их непосредственное участие в хозяйственном и культурном строительстве, создании и руководстве научно-исследовательскими организациями, такими как Северо-Кавказское бюро краеведения. В сборник были включены извлечения из резолюций заседаний секций, отразившие рост лояльности и политической сознательности научных работников2.
Наряду с общим обзором в сборник входили важные справочные материалы: пофамильные списки научных работников с указанием года рождения, места работы, должности, адреса; таблица возрастного состава научных работников; перечень высших учебных заведений, в том числе и созданных в национальных областях3; указатель научно-исследовательских учреждений, входивших в Северо-Кавказскую ассоциацию, позволяющий выделить научные центры, занимавшиеся разработкой проблем, непосредственно связанных с изучением производительных сил, истории и культуры народов Северного Кавказа4.
Интересные обобщенные материалы по организации научно-исследовательской работы в национальных областях Северного Кавказа пошли в первые статистические сборники, подготовленные экономико-статистическим сектором Госплана СССР5. В таблицы были включены сводные данные по всем автономным республикам и областям Северного Кавказа, с выделением сведений по Дагестану. Статистические материалы отражали самые разнообразные показатели: количество научных и специальных библиотек, распределение научных учреждений по типам (исследовательские институты, лаборатории, опытные станции, архивы), среднее число научных работников и денежных средств на одно учреждение, экспедиции по изучению производительных сил, экономики и культуры края. Составители сборника, проанализировав вопросы финансирования, организацию экспедиционной работы, пришли к выводу, что «из всех местностей РСФСР наиболее притягательным для экспедиций являлся Северо-Кавказский край и притом как по изучению производительных сил, так и по изучению экономики и культуры»6. К этому же периоду относилась публикация первой специальной статьи Г. Кокиева, которая давала анализ сложившейся на Северном Кавказе системы подготовки научных кадров: направление горцев в аспирантуру, прикомандирование их в качестве практикантов и т. п. (Кокиев, 1930: 24-25).
В начальный период становления и развития научно-исследовательской работы основная часть научной интеллигенции формировалась вокруг краеведческих организаций. Эта тенденция нашла отражение и в литературе: стержневой идеей публикаций стали вопросы организации, структуры и координации деятельности краеведческих научно-исследовательских организаций и центров, ставших наиболее распространенным типом научных учреждений1.
В опубликованных работах предпринимались попытки объяснить первостепенное развитие именно этого научного направления. К определяющим факторам бурного развития краеведения У. Алиев относил подъем общекультурного уровня населения, определивший рост национального самосознания, организацию научными центрами страны историко-этнографических экспедиций в эти районы, повышение внимания общественных организаций к культурно-экономическим и национально-бытовым проблемам горских народов (Алиев, 1928: 42–43).
Перечисленные в работе У. Алиева типы краеведческих учреждений дают общее представление о складывании системы научно-исследовательских учреждений, включавших Северо-Кавказскую ассоциацию научно-исследовательских институтов, Северо-Кавказский горский научно-исследовательский институт краеведения, краеведческие общества и музеи (Алиев, 1928: 44–46).
В связи с районированием Северо-Кавказского края первостепенное значение приобрела деятельность координационных организаций. Проведенная реорганизация, укрупнение краеведческих научно-исследовательских организаций, повышение их роли в научных разработках способствовали повышению интереса к их деятельности, появлению специальных брошюр и статей. Одной из первых публикаций стала статья М.Л. Ямпольского, написанная на основе проведенного в крае учетного анкетирования краеведческих организаций – краеведческих институтов, научно-краеведческих обществ, музеев, бюро краеведения. В ней впервые были зафиксированы все краеведческие организации, что способствовало повышению уровня информированности об их истории, структуре и деятельности (Ямпольский, 1927: 63–73).
Вновь к этому вопросу М.Л. Ямпольский возвращается в специальной статье, посвященной деятельности Северо-Кавказского бюро краеведения, созданного в феврале 1926 г. Центральное место в ней занимали организационные вопросы и методы работы бюро. Особое внимание автор уделял секциям изучения естественно-производительных сил, организационно-методической, музейной, школьного краеведения, студенческой, экскурсионной, историко-археологической и этнографической. Вопросы организационного характера, основные направления деятельности секций широко освещались на страницах специальных центральных и краевых периодических изданий2.
Наиболее широкое освещение в литературе получили такие формы работы Северо-Кавказского бюро краеведения, как проведение первого совещания краеведов (май 1926 г.), издание «Бюллетеня Северо-Кавказского бюро краеведения», учет действующих на территории края ор-ганизаций3.
Особенности административно-территориального и экономического деления края определили жизненную потребность в координационных центрах. Однако, несмотря на все их значение, эта проблема до настоящего времени не нашла должного освещения в работах историков. Изучение ее фактически свелось к написанию статей, отражавших отдельные этапы деятельности, экспедиционную и издательскую работу Северо-Кавказской ассоциации научно-исследовательских институтов4. Написаны они были видным ученым, возглавлявшим эту организацию, профессором Северо-Кавказского университета В.П. Вельминым.
В целом публикации 20–30-х гг., отражавшие историю создания Северо-Кавказского горского научно-исследовательского института краеведения, дали общее представление об основных направлениях его деятельности. Однако важное значение этого научного учреждения для становления научно-исследовательской работы в регионе позволяет ставить задачу всестороннего изучения его деятельности в рамках специального исследования.
Отличительной особенностью трудов этого периода стала систематизация фактов, выявленных в результате непосредственных, личных наблюдений очевидцев и участников событий. Они, как правило, отражали внешние стороны явлений, не раскрывая их сущности, и тем не менее подобное эмпирическое накопление фактов стало весьма важным шагом к их научному анализу (Шеуджен, 1983: 44–45).
В историографии особое место занимала деятельность научно-исследовательских институтов краеведения и обществ, созданных в национальных областях края1. Именно вокруг них проходила концентрация немногочисленных научных сил. Их организация рассматривалась в работах первого периода как важнейший итог развития национальной культуры. «В области выявления и разработки элементов осетинской национальной культуры имеются следующие результаты, – писал А.П. Хасиев, – …создан Осетинский научно-исследовательский институт краеведения, ведущий дело изучения Северной Осетии…» (Хасиев, 1928: 53). В литературе дано описание основных направлений деятельности этого типа научных учреждений. Ими велась разработка естественно-экономических и культурно-исторических тем, публикация научных работ, осуществлялась подготовка кадров, создавались специальные музеи и библиотеки. Периодически издаваемые «Известия» стали наиболее действенными каналами научной информации.
В опубликованных работах, как правило, подчеркивалась зависимость научных исследований в национальных областях Северного Кавказа от особенностей развития сети научных центров, наличия подготовленных кадров. Сотрудниками институтов были опубликованы первые работы по истории народов региона2.
Немаловажное значение имела публикация методических материалов и путеводителей3. Краеведческими обществами было предпринято переиздание ряда работ дореволюционных авторов, ставших библиографической редкостью4. Общее представление об основных направлениях научно-исследовательской, учебно-методической и популяризаторской деятельности в эти годы дает список публикаций Северо-Кавказского краевого национального издательства за 1925–1928 гг. В него вошли 386 работ на языках народов Северного Кавказа5.
Научно-исследовательская и издательская деятельность краеведческих институтов уже в 20-е гг. стала предметом специального изучения6. У. Алиевым приводились интересные факты, связанные с участием Северо-Кавказского краевого национального издательства в международных выставках советской книги и обращением зарубежных университетов и институтов (Кельна, Парижа, Будапешта и др.) с просьбой о присылке им литературы, опубликованной на языках народов Северного Кавказа (Алиев, 1928). В перспективные планы научно-исследовательских институтов включались наиболее актуальные для практики социалистического строительства темы. В частности, Северо-Кавказский краевой горский научно-исследовательский институт занимался изучением кустарно-ремесленной промышленности, форм кооперации, национальных языков, разработкой их грамматик и словарей.
Для становления этой проблемы в литературе определяющее значение имело отразившееся в документальных публикациях стремление выявить взаимосвязь повышения идейно-теоретического уровня научных работников и результативности их труда. В качестве одной из первостепенных задач повышения эффективности исследовательской работы по изучению культуры и экономики национальных областей отмечалась необходимость углубления ее идеологической направленности на основе марксистской методологии1.
Общее представление о характере и основных результатах деятельности научных работников дают систематически публиковавшиеся в качестве приложений к сборникам научных трудов указатели опубликованной научными организациями литературы. В 1928 г. подобный указатель включал 53 названия, в 1929 г. – 58 и в 1930 г. – 75. В сфере научных публикаций преобладали работы в сфере естественно-экономического характера (медицинских, биологических, почвоведческих, геологических)2.
Среди публикаций особого внимания историков культуры заслуживает сборник статей, подготовленный сотрудниками секции культуры Северо-Кавказского научно-исследовательского института местной экономики и культуры3. В него вошли статьи по экономической истории, этнологии, этнографии и лингвистике народов Северного Кавказа. Интересна статья профессора П.Н. Черняева «Из истории кавказоведения», посвященная деятельности лингвистов и этнографов Кавказа ХIX в. П.К. Услара и Л.Г. Лопатинского. В ней весьма наглядно отразились сильные и слабые стороны начального периода становления науки. Бесспорно, интересно само обращение автора к данной теме, четко выраженная позиция в отношении научного наследия, стремление показать прогрессивные моменты, положительные результаты развития дореволюционного кавказоведения. Статья затрагивала многие актуальные проблемы школьного строительства и проводившейся реформы письменности к первым изысканиям в этом направлении П.К. Услара.
Особое внимание П.Н. Черняев уделял деятельности передовой национальной интеллигенции или, как он пишет, «научным деятелям из числа туземцев», «туземной интеллигенции», принимавшей непосредственное участие в работе по составлению алфавитов и словарей. Среди них он назвал Кази Атажукина, участвовавшего в разработке кабардинского алфавита, сделавшего несколько переводов русских сказок и песен; Айдемира Чиркеевского, работавшего над аварской письменностью и составившего на этом языке книги «О пользе чтения», «Аварские сказки и песни», «Аварская азбука»; Абдуллу Омар Оглы, оказавшего помощь в работе над ка-зикумухской грамматикой и составившего первый учебник арифметики; Магомета Ширданова, сделавшего несколько переводов с арабского на кабардинский язык; Алхаса Домуглова, горячо поддерживавшего идеи народного образования (Черняев, 1928: 21). Хотя далеко не со всеми оценками их деятельности можно согласиться, интересно стремление автора определить место дореволюционной интеллигенции в развитии национальных языков и литературы, установлении связей с русской демократической культурой.
Наряду с прогрессивными взглядами в статье нашло отражение характерное для буржуазной историографии преувеличение «просветительской» деятельности различных обществ, в частности, Кавказского отделения Русского географического общества, открытого под председательством «самого М.С. Воронцова» и, более того, деятельности царских администраторов и чиновников на Кавказе, «принимавших живейшее участие» «в деле распространения грамотности между горцами» (Черняев, 1928: 6, 21). Подобная позиция автора не явилась чем-то исключительным. Марксистско-ленинские методологические принципы с большим трудом утверждались в сознании старой научной интеллигенции, часть которой, так и не сумев овладеть ими, отошла от исследовательской деятельности. В 1930 г. в статье, посвященной итогам работы Северо-Кавказского горского научно-исследовательского института, ставился вопрос о безыдейности и аполитичности отдельных исследований, заключавшийся в недостаточном овладении частью интеллигенции марксистско-ленинской методологией научных исследований (Ситковский, 1930: 58).
Конечно, к оценке литературы, опубликованной в 20–30-е гг., нельзя подходить с современными мерками. Становление марксистско-ленинской методологии – сложный и длительный процесс, требующий не только теоретического осмысления, но и навыков практического использования приемов и методов в конкретных исследованиях. Вполне закономерно, что на этапе становления советской науки допускались неверные, заведомо ошибочные толкования отдельных фактов и процессов. Подавляющее большинство изданий этого периода отражали лишь началь- ный этап становления методологических принципов. Потребность в национальных кадрах «достаточно квалифицированных и достаточно связанных со своими нацобластями, а также владеющих марксистским методом» (Ситковский, 1930: 58) оставалась весьма острой и требовала четкого соблюдения классового, партийного и национального принципов при направлении в аспирантуру (Ситковский, 1930: 59).
Интересно, что уже в публикациях первых лет уделялось внимание актуальности исследования истории и этнографии народов Северокавказского региона. «У огромного числа освободившихся после Октября народов, – писал С. Сиюх, – помимо отсутствия письменности, литературы, есть еще и другое несчастье, это – отсутствие писанной истории. Мало этого. У них нет и источников, по которым можно было бы восстановить картины своего исторического пути, своей многообразной жизни» (Сиюх, 1930: 78). В такой ситуации усиливалась актуальность изучения и сохранения памятников материальной и духовной культуры «для истории, для науки, а самое главное – для практического использования при новом культурном строительстве» (Сиюх, 1930: 77).
Широкое обращение исследователей к историческому прошлому народов Северного Кавказа (археологии, этнографии, морфологии, фольклору) в значительной степени объясняется отсутствием их научной разработки в дореволюционное время, повышением национального самосознания народов. Конечно, их изучение не давало немедленного практического выхода, но в дальнейшем именно они явились базой, фундаментом для развития целых научных направлений.
В начале 30-х гг. в ряде партийных документов были подведены первые итоги развития научно-исследовательской работы на Северном Кавказе. В качестве наиболее значительных результатов выделялись достижения в изучении вопросов истории и языкознания горских народов, успехи в подготовке научных кадров: открытие в Северо-Кавказском институте реконструкции сельского хозяйства, Горском научно-исследовательском институте и других вузах края (Андреев, 1930: 30).
К основным недостаткам организации научных исследований были отнесены: невысокие темпы научно-исследовательской работы, отсутствие рациональной системы планирования, учитывающей потребности развития экономики национальных областей.
В историографии 20–30-х гг. наиболее обстоятельно изученной оказалась деятельность учителей и научных работников. По-видимому, это объясняется их особой ролью в национальных республиках и областях Северного Кавказа. Учителя были той группой интеллигенции, которая наиболее близко стояла к истокам решения таких всеобъемлющих задач, как повышение общеобразовательного и культурного уровня трудящихся. Труд научных работников, по сравнению с другими творческими группами интеллигенции, был более результативным и непосредственно сориентированным на решение практических задач подъема экономики и культуры национальных районов.
Однако было бы неверным свести изучение деятельности интеллигенции только к этим профессиональным группам. В работах по истории культурного строительства приводились данные о численности, социальном составе и деятельности культпросветработников, агрономов, врачей. Были опубликованы первые статьи о подготовке технических, журналистских и других кадров, отразившие возрастание их роли в практике кадровой политики (Хаджиев, 1930). Этим определялся и круг поставленных тогда автором вопросов: расширение контингента учащихся местных национальностей в учебных заведениях, упрочение материально-учебной базы специального образования, укомплектование квалифицированными преподавательскими кадрами и т. п.
На современном этапе развития историографии ощущается острая потребность в анализе обширной и разноплановой литературы, изданной по истории формирования и деятельности интеллигенции в национальных республиках и областях Северного Кавказа. Необходимость подобного обобщения определяется значением опыта формирования интеллигенции в условиях многонационального государства, общим уровнем разработки этой темы на общесоюзном материале историками, философами, социологами, правоведами, накопленным опытом её изучения в национальных районах Северного Кавказа.
На первом этапе развития историографии была создана основа для последующей разработки вопросов истории науки и научных кадров. Однако эти потенциальные возможности до настоящего времени в полной мере не реализованы. Науковедение, как специальная отрасль исторических знаний в национальных районах Северного Кавказа, так и осталась на стадии становления. Исследовательская работа в этой области практически свелась к спорадическому включению этих сюжетов в общие исследования по культурной революции и формированию интеллигенции. Х.-М. Хашаев отмечал, что в период с 1924 по 1940 гг. научно-исследовательская работа, проводившаяся Дагестанским научно-исследовательским институтом истории, языка и литературы, «ограничилась в основном выявлением и сбором документальных архивных мате- риалов» (Хашаев, 1959: 6). В работе А.И. Алиева научно-исследовательская работа первого десятилетия в основном сводилась к экспедиционной деятельности. «В начальный период существования Советского государства на таких национальных окраинах, как Дагестан, – писал он, – где совершенно отсутствовали кадры научных работников, исследовательская работа носила характер научных экспедиций, организуемых Академией наук и центральными ведомствами»1.
Анализ конкретно-исторических материалов свидетельствует о том, что, действительно, проведение экспедиций в Дагестане и других национальных районах Северного Кавказа получило широкое развитие. Но следует возразить А.И. Алиеву и сказать о том, что экспедиционное изучение края осуществлялось не только центральными научно-исследовательскими организациями, но и краевыми: Горским научно-исследовательским институтом, Северо-Кавказским государственным университетом, а с 1924 г. – и Дагестанским научно-исследовательским институтом, т. е. в сферу активной научной работы вовлекались научные силы края и национальных районов. Так, Северо-Кавказским государственным университетом только в 1925–1926 учебном году было организовано и проведено 5 научных экспедиций по изучению производительных сил национальных областей (Ефременко, 1927). Конечно, проведение в 40-е гг. организационных мер, в частности, создание Дагестанского филиала АН СССР, положительно сказалось на уровне научных исследований в республике. Однако и в предшествующие годы вопрос о развитии «дагестанской научно-исследовательской базы» силами только приезжих научных работников (Ха-шаев, 1959: 7) не ставился, а делалась ставка на создание научных центров и подготовку национальных научных кадров.
Овладение историками Северного Кавказа основными принципами марксистско-ленинской методологии, организация научных центров, подготовка кадров способствовали повышению теоретического уровня исторических исследований, углублению в сущность процессов, происходивших в духовной жизни народов. По мере развития историографии выделились новые, все более сложные явления в культурно-историческом процессе, требовавшие глубокого изучения и теоретического обобщения. Успешному осуществлению этой задачи способствовала всесторонняя разработка проблем культуры и национальных отношений в произведениях В.И. Ленина, документах КПСС и Советского правительства, широкая пропаганда ленинских идей национальнокультурного строительства, развернувшаяся с первых лет Советской власти.
Стремление к осмыслению общих закономерностей и специфических особенностей осуществления культурной революции в условиях Северного Кавказа позволило уже в 20-е гг. наметить ряд важнейших теоретических проблем, продолжающих сохранять актуальность и в наши дни: взаимосвязь задач социально-экономического, политического и культурного развития, ускорение темпов культурного строительства ранее отсталых народов в условиях социализма, особенности культурного строительства народов этого региона, определение этапов культурной революции и др. Уровень их освоения историками в известной степени определяется широкой публикацией ленинских произведений.
Наиболее ярко это отразилось в стремлении проанализировать с классово-партийных позиций общие закономерности и специфические особенности культурной политики и практики на Северном Кавказе.
Прогрессивные сдвиги в развитии историографии проявились в движении от первых публикаций к созданию монографических исследований по истории культурной жизни в отдельных республиках и областях Северного Кавказа, стремлении обобщить опыт решения этой задачи в регионе, разработке отдельных локальных тем. Развитие историографии привело к четкому определению круга исследовательских тем, во многом идентичных общей проблематике, сложившейся в советской культурологии, и в то же время отражающей специфику ее изучения в национальных районах.
Первостепенной задачей, по-видимому, является преодоление наметившегося разрыва между уровнем современной постановки проблемы, ее разработкой в советской историографии и накопленным конкретно-историческом материалом.
Список литературы Становление северо-кавказской историографии в 20-30-е гг. ХХ в.: от первых работ по истории науки к организации научных центров
- Алиев У. Книгоиздательское дело на национальных языках Северного Кавказа (Итоги за 3 года и перспективы) // Революция и горец. 1928. № 2. С. 42-47.
- Андреев А.А. Социалистическая реконструкция Северо-Кавказского края и задачи краевой партийной организации: Речь на 3-м пленуме С.-К. краевого комитета ВКП(б) 13-I-30. Ростов н/Д, 1930. 45 с.
- Ефременко Л.М. Северо-Кавказский государственный университет в 1925-1926 академическому году // Известия Северо-Кавказского государственного университета. 1927. Т. 1. (XII). С. 112-191.
- Кокиев Г. Проблема подготовки научных кадров для горских областей Северного Кавказа // Революция и горец. 1930. № 8. С. 24-25.
- Ситковский Е.О. О некоторых итогах работы и задачах Горского научно-исследовательского института // Революция и горец. 1930. № 3. С. 58-59.
- Сиюх С. Неотложная задача // Революция и горец. 1930. № 3. С. 77-78.
- Хаджиев А. О подготовке кадров для национальной печати // Революция и горец. 1930. № 6-7. C. 133-138.
- Хасиев А.П. Хозяйственное и социально-культурное строительство Северной Осетии: (По материалам Осплана). Владикавказ, 1928. 60 с.
- Хашаев Х.-М. Вклад ученых Дагестана в советскую науку. Махачкала, 1959. 26 с.
- Черняев П.Н. Из истории кавказоведения // Вопросы культуры: сб. статей. Ростов-н/Д., 1928. С. 5-42.
- Шеуджен Э.А. Советская историография национально-культурного строительства на Северном Кавказе. Ростов/Д, 1983. 139 с.
- Ямпольский М.Л. Краеведческие учреждения на Северном Кавказе // Вопросы просвещения. 1927. № 3. С. 63-73.