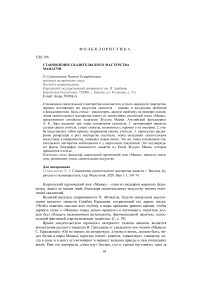Становление сказительского мастерства манасчи
Автор: Субакожоева Чолпон Темирбековна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Фольклористика
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
Становление сказительского мастерства исполнителя устного народного творчества, процесс постижения им искусства сказителя - важная и актуальная проблема в фольклористике. Цель статьи - рассмотреть данную проблему на примере становления сказительского мастерства одного из талантливых сказителей эпоса «Манас», представителя китайских кыргызов Жусупа Мамая. Английский фольклорист А. Б. Лорд выделяет три этапа становления сказителя: 1. начинающий манасчи, слушая своего учителя, узнает сюжеты, знакомится с героями и их именами, 2. учеба представляет собой процесс подражания своему учителю, 3. происходит расширение репертуара и рост мастерства сказителя, певец овладевает сказительским искусством в совершенстве, усваивает новые песни. Эти же этапы становления сказительского мастерства наблюдаются и у кыргызских сказителей. Это подтверждают факты биографии знаменитого манасчи из Китая Жусупа Мамая, которые приводятся в статье.
Фольклор, кыргызский героический эпос «манас», манасчи, сказитель, исполнение эпоса, сказительское искусство
Короткий адрес: https://sciup.org/148316620
IDR: 148316620 | УДК: 398
Текст научной статьи Становление сказительского мастерства манасчи
Субакожоева Ч. Т. Становление сказительского мастерства манасчи // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 3. С. 69–74.
Кыргызский героический эпос «Манас» – один из шедевров мирового фольклора, дошел до наших дней, благодаря сказительскому искусству многих поколений сказителей.
Великий писатель современности Ч. Айтматов, будучи свидетелем выступления великого манасчи Саякбая Каралаева, потрясенный его даром, писал: «Чтобы охватить мыслью всю глубину и ширь предания древних времен, чтобы держать слово о «Манасе» перед лицом прошлого и настоящего, сказитель должен был обладать недюжинным интеллектом, феноменальной памятью, колоссальной фантазией и артистическим талантом» [1, с. 19].
Ярким свидетельством огромного актерского таланта манасчи являются впечатления русского писателя В. Гроссмана от увиденного им чтения «Манаса» С. Каралаевым: «Он не играет, не актерствует, а вновь и вновь, должно быть, видит битвы и пиры Манаса, горестно плачет, смеется, торжествует, гневается, когда в душе и в мозгу его возникают и меркнут видения правды и лжи отошедших веков. Речь его напориста, слова идут быстро, густо, строки неутомимо, одна за другой набегают на слушателя, и их сильный, упругий, ритмичный удар сливается подобно рокоту волн...» [2, с. 219–220].
Большой научный интерес вызывает важная и актуальная проблема становления сказительского мастерства манасчи, процесс постижения им искусства сказителя.
Цель статьи – рассмотреть данную проблему на примере становления сказительского мастерства одного из талантливых сказителей эпоса «Манас», представителя китайских кыргызов Жусупа Мамая.
На эту проблему обратил внимание видный английский исследователь фольклора А. Б. Лорд в своей теории сложения и бытования эпического текста. Он выделяет три стадии развития певца.
На первой стадии юноша очень любит «слушать песни старших, узнает сюжеты, знакомится с героями и их именами. Он начинает узнавать поэтические темы, и чем больше он их слышит, тем острее он эти темы чувствует. В то же время он впитывает ритм пения и в некоторой степени также ритм выражения мыслей в песне».
Вторая стадия, согласно А. Б. Лорду, наступает, когда исполнитель решается спеть перед аудиторией. На второй стадии учеба представляет собой процесс подражания, когда певец воспроизводит технику своего учителя или учителей. Идет процесс подражания и усвоения путем слушания и долгих самостоятельных упражнений.
На третьей стадии, указывает А. Б. Лорд, происходит расширение репертуара и рост мастерства сказителя, певец овладевает сказительским искусством в совершенстве, он оттачивает то, что уже знает и усваивает новые песни [3, с. 35–39].
Этот путь становления сказительского искусства проходили и все киргизские манасчи.
Традиционный сюжет эпоса, мотивы и напевы, формульные выражения каждый начинающий сказитель усваивал от своих талантливых учителей, уже получивших широкое общественное признание своими многолетними выступлениями перед взыскательной народной аудиторией. Ученики сопровождали по кочевьям своего учителя, месяцами и годами слушая их сказ.
Так, один из исследователей «Манаса» кыргызский писатель, литературовед, переводчик Т. Байджиев писал: «Выдающийся Саякбай Каралаев, исполнявший в зрелом возрасте все части трилогии “Манас”, “Семетей”, “Сейтек”, в юные годы сопровождал знаменитого иссык-кульского сказителя Чоюке. Известный сказитель Шапак учился у аксакала Балыка, Сагымбай – у своего родного брата Алишера, Алмабек – у своего старшего брата Дыйканбая, Багыш Сазанов – у знаменитого Тыныбека. Не было случая, чтобы манасчи не имел своего конкретного учителя. Художественная манера исполнения, лексика, стиль, мелодия, а порою даже жест и мимика учителя перенимались учениками, а те, в свою очередь, передавали свои традиции грядущим поколениям» [4, с. 7–29].
После этапа ученичества каждый манасчи, посвятивший свою жизнь исполнению эпоса, зарабатывал свой хлеб профессией сказителя, переезжал из аила в аил по всем регионам, собирал вокруг себя слушателей, которые давали оценку его выступлению. При этом сказитель прислушивался к оценкам и замечаниям аудитории, совершенствуя свое исполнение, обогащая художественное содержание и исполнение эпоса.
Наиболее талантливые сказители создавали свой вариант эпоса, развивая традиционный сюжет, обогащая своими выразительными художественными средствами, вдохновенным исполнением. Поэтому вариант каждого выдающегося сказителя эпоса отличался своими отличительными чертами, своей самобытностью.
Все три этапа становления сказительского искусства, выделенные А. Б. Лордом, можно проследить и на примере жизненного и творческого пути самого крупного манасчи современности Жусупа Мамая.
Творческая лаборатория Жусупа Мамая раскрыта в статье, принадлежащей перу самого Жусупа Мамая «Как я стал рассказывать “Манас”». Она дает представление о его становлении как манасчи, раскрывает вехи его биографии, содержит ряд чрезвычайно важных для исследователей сказительского мастерства манасчи эпических традиций, для понимания того, каким образом они слагают, усваивают и передают свои эпические сказания.
В этой статье сам манасчи Жусуп Мамай рассказал о том, как он учился сказыванию Манаса»: Я у брата Балбая научился… благодаря Балбаю я стал рассказывать «Манас»… Когда никого рядом не было, Балбай проверял, как я выучил «Манас», которому он меня обучил. Он делился своим знанием, разными подходами к рассказыванию «Манаса». Когда описываешь поле сражения, голос должен быть грозным, выражение лица подходящее; когда читаешь нравоучение, нужно приводить басни, загадки, через них говорить о добре и зле; когда от лица женщины, голос должен соответствовать женскому. Любой сказитель «Манаса» должен уделять особое внимание слову, жестам, голосу, – такое знание я от Балбая получил… То, что я рассказываю о Манасе, мой брат Балбай собрал из разных источников. Я постоянно читал эти рукописи родителям, сам интересовался и смог запомнить все наизусть. С 1978 года я стал вспоминать, восстанавливать утраченные места, дополнять и в настоящее время существует 8 поколений «Манаса»… Вот так и выглядит мое учение» [5].
При общей схожести этапов сказительского ученичества, выделяемых А. Б. Лордом, в становлении искусства киргизских сказителей имеются свои особенности.
Так, киргизский исследователь мнемонической культуры киргизов Н. Усе-нова обращает внимание на одну особенность в становлении киргизского сказителя. По ее мнению, преемственность в передаче кыргызского сказительского мастерства закреплялась особым ритуалом и посещением святых мест, что было необходимым для приобретения полноценного статуса сказителя. По ее словам, «преемственность заключалась не только в усваивании полного текста эпического наследия, но и в передаче ученику акта творчества под воздействием высших духовных сил… в момент активной творческой потенции сказителей, оживляющих священные тексты в определенной аудитории… Поэтому ученичество у кыргызских сказителей предполагало не столько заучивание текста, сколько наблюдение за процессом художественного перевоплощения…, вхождение в трансовое состояние, без которого немыслим доступ к священному тексту эпоса «Манас» [6, с. 110].
Важным моментом в овладении профессией киргизского манасчи является видение молодым сказителем вещего сна. В истории сказительства эпоса «Манас» существует традиция объяснения сказителями своего тяготения к эпосу и его исполнение покровительством духов предков или героев эпоса, вещим сновидением.
Объяснение своего таланта и наитием свыше является традиционным явлением в фольклористике. На это явление обратил внимание еще В. В. Радлов, отметивший, что свое исполнительское призвание сказители объясняют наитием свыше.
Кыргызский манасовед С. Мусаев считает, что «факт сновидения мог сыграть свою роль в выборе сказителем его профессии, ибо вполне вероятно, что всякому молодому талантливому человеку, заветным желанием которого было стать настоящим манасчи, сон вполне мог привидеться в дни, когда он был поглощен мыслями об эпосе. Сновидение могло усилить веру такого человека в собственные возможности, дать толчок ищущему выход таланту» [7, с. 48].
Киргизский философ А. Салиев дает, на наш взгляд, правильное понимание феномена сновидений у талантливых манасчи. По его словам, «в ходе непрерывно происходящих в скрытом, глубинном плане ума конструктивных движений записанные в мозгу вместе с соответствующими мыслями эмоциональные напряжения способствуют формированию совершенно новых образов, которые при определенных случаях всплывают «наверх» в виде грез (фантазирование), то в виде сновидений, то в виде галлюцинаций… Юношу потрясали легенды о героях и творцах эпопеи, осаждали ее образы, преследовали услышанные или еще не услышанные голоса знаменитых сказителей, а перед глазами вставали толпы чутких слушателей… Было бы удивительно, если бы не посещали его сны и даже галлюцинации. И хотя он еще с колыбели жил в обстановке преклонения перед «Манасом», а может быть, даже внимая великому сказителю и, таким образом, уже исподволь зрели его творческие силы, все же сны или галлюцинации, как некие сверх переживания, становились толчком, дававшим ход вдохновению. И поскольку тут был не простой исполнитель, повторявший заученные тексты, а поэт, который создавал новый вариант, естественно, с этими видениями и связывал он начало своего творчества» [8, с. 298].
Думается, что можно согласиться с этим мнением, так как при акте скази-тельства талантливые манасчи испытывали высокий духовный подъем, входили в транс, жили теми событиями, о которых они рассказывали.
Как и другим великим манасчи, Жусупу в десятилетнем возрасте также привиделся вещий сон: «Вечер, сгущаются сумерки. Перед ним появился всадник без седла на гнедой лошади, темнокожий мужчина с пухлыми губами. Жусуп схватил поводья лошади, в этот момент незнакомец показал рукой вперед и говорит: «Ой, сынок, запомни все хорошо, посмотри на них». Мальчик смотрит в указанную мужчиной сторону и видит двух воинов в кожаных нагрудниках, сидящих на сивых лошадях и смотрящих на запад. За ними - еще два воина, один на рыжей, другой на бледно-рыжей лошади. Тут к нему подходит первый всадник, тот, что с пухлыми губами, и рассказывает Жусупу: «Один из двух, что впереди, это Манас, другой - Бакай. Один из двух, что позади, это Алмамбет, другой - Чубак. Сам я сын Ырчы. Позади нас - Ажыбай...». Жусуп оборачивается, смотрит назад, что- бы увидеть Ажыбая - и тут сон оборвался, мальчик проснулся взволнованный, весь в поту».
Второй этап постижения сказительского искусства начался с первого выступления Жусупа в качестве манасчи перед большой аудиторией состоялось в возрасте 22 лет. Это произошло зимой 1940 г. во время строительства торгового пути из Китая в Киргизию. Однажды, известные сказители Жусуп и Жумакун исполнили свои любимые фрагменты из эпоса «Манас». Устав слушать одно и то же, Жусуп подхватил во время паузы выступление Жумакуна и досказал эпизод «Печаль Алманбета». Три ночи подряд он исполнял «Манас» и постепенно дошел до кончины героя. О своем дебюте Жусуп Мамай вспоминал: «Я не выдержал, слушая одни и те же, уже знакомые всем тексты, и возразил им, сказав, что не так надо исполнять «Манас». Затем, соперничая с ними, решил показать свое мастерство».
Слушатели были восхищены его талантом, выразительностью голоса и оригинальной манерой исполнения. Их покорили правдивость и точность образов, выразительность голоса и оригинальная манера исполнения. С тех пор исполнение эпоса «Манас» стало делом жизни Жусупа Мамая, и он стал признанным манасчи.
На третьем этапе сказитель постоянно добавлял в своих выступлениях новое, по-новому рассказывал об известных событиях, находил новые эпитеты и сравнения и довел свой рассказ о жизни потомков Манаса до восьми поколений. Слава о нем разлетелась среди всех китайских киргизов. Джусуп Мамай , знал не только классический вариант эпоса, трилогию «Манас», «Семетей, «Сейтек», но сберег и донес до нас историю последующих пяти поколений потомков Манаса в виде самого полного варианта кыргызского народного эпоса-океана о Манасе, состоящего из 8 частей: «Манас», «Семетей», «Сейтек», «Кененим», «Сейит», «Асылбача-Бекбача», «Самбилек», «Чигитей». В Китае издано 18 томов эпоса в его варианте.
Жусуп Мамай был творцом, исполнителем, хранителем, и собирателем эпоса. Обладая феноменальной памятью, выдающимся поэтическим талантом и глубокими знаниями истории и культуры своего народа, великолепными артистическими данными, он сохранил для потомков 8 частей эпоса «Манас», внеся тем самым выдающийся вклад в сохранение исторического и культурного наследия киргизов. Трудно переоценить его огромный вклад в сохранение и передачу из поколения в поколение словесного сокровища кыргызов.
Список литературы Становление сказительского мастерства манасчи
- Айтматов Ч. Он знал миллион строк океаноподобного "Манаса" // Айтматов Ч. Статьи, выступления, диалоги, интервью. М.: Изд-во АПН, 1988. 384 с.
- Гроссман В. Поездка в Киргизию // Год XXXI. Альманах первый. М., 1948. С. 219-220.
- Лорд А. Б. Сказитель. М.: Изд. фирма "Восточная литература" РАН, 1994. 368 с.
- Байджиев Т. Семетей - сын Манаса // Великий киргизский эпос "Манас". Кн. 2. "Семетей". Бишкек, 1999. С. 7-29.
- Субакожоева Ч. Манасчи Жусуп Мамай. Бишкек, 2017. 24 с.
- Усенова Н. Мнемоническая культура кыргызов. Бишкек, 2017. 162 с.
- Мусаев С. Эпос "Манас". Фрунзе: Илим, 1979. 205 с.
- Салиев А. Из психологического мира манасчи // Кыргызский героический эпос "Манас", "Семетей", "Сейтек". Манасоведение: хрестоматия. Ч. 2. Бишкек, 2017. 415 с.