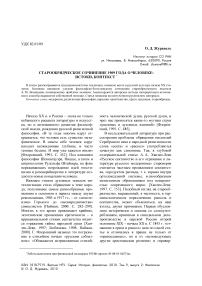Старообрядческое сочинение 1909 года о человеке: истоки, контекст
Автор: Журавель Ольга Дмитриевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются традиционалистские тенденции, имевшие место в русской культуре начала XX столетия. Основное внимание уделено философско-богословскому сочинению старообрядческого писателя А. М. Запьянцева, посвященному проблеме человека. Анализируются авторские методы интерпретации источников и способы выражения собственной позиции. Статья написана на неизученном рукописном материале.
Модернизм, религиозная философия, народное христианство, ереси, традиция, старообрядцы
Короткий адрес: https://sciup.org/14737223
IDR: 14737223 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Старообрядческое сочинение 1909 года о человеке: истоки, контекст
Начало XX в. в России – эпоха не только небывалого расцвета литературы и искусства, но и интенсивного развития философской мысли, рождения русской религиозной философии. «В те годы многим вдруг открывается, что человек есть существо метафизическое. В самом себе человек вдруг находит неожиданные глубины, и часто темные бездны. И мир уже кажется иным» [Флоровский, 1991. С. 452]. Под влиянием философии Шопенгауэра, Ницше, а затем и антропологии Рудольфа Штейнера, на фоне переживающих возрождение идей гностицизма и розенкрейцерства в литературе создаются новые концепции человека.
Важным этапом духовных поисков интеллигенции стало обращение к теме народа, получившее самые разнообразные проявления в основном в период между двумя революциями, 1905 и 1917 гг., – от «демоте-изма» Горького до «неонародничества» символистов [Пайман, 2000. С. 282–299]. Многих в это время привлекают крайние, экзотические проявления еретичности – в иррациональной стихии сектантства видится отражение тайны народной души [Хан-зен-Леве, 1997; Любимова, 1998; Пайман, 2000]. Г. Флоровский называл это погружение в стихийное начало «русским соблазном»: «Обнажается встревоженная стихий- ность человеческой души, русской души, и чрез нее проносятся какие-то мутныя струи душевных и духовных влияний» [Флоров-ский, 1991. С. 485].
В исследовательской литературе при рассмотрении проблемы обращения писателей Серебряного века к народной религиозности слова «секта» и «раскол» употребляются зачастую как синонимы. Так, в глубокой содержательной статье А. А. Ханзен-Леве «Русское сектантство и его отражение в литературе русского модернизма» староверие считается частным проявлением сектантства, «продуктом распада, т. е. взрыва внутри ортодоксальной системы, и своеобразным метастазным образованием под поверхностью современного мира» [Ханзен-Леве, 1997. С. 153]. Подобный взгляд на старообрядчество, выраженный, в частности, в терминологическом неразличении раскола и сектантства, может объясняться, на наш взгляд, двумя причинами. Первая обусловлена исторически и связана со словоупотреблением, принятым в синодальном делопроизводстве в царской России второй половины XIX – начала XX в. С 1845 г. «отпавшие в ереси и раскол» шли по одной статье и отличались в правах не только от «православных», но и от «исповедующих другие христианские религии» и «привер-
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 08-01-00274а).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 2: Филология © О. Д. Журавель, 2010
женцев нехристианских религий» [Клюкина, 2001. С. 45]. Радикальные ответвления старообрядчества причислялись властями к наиболее вредным и опасным «раскольническим сектам» и жестко преследовались вплоть до Манифеста 17 апреля 1905 г. о свободе вероисповедания и Указа о старообрядческих общинах 17 октября 1906 г. [Поздеева, 1995; Клюкина, 2001].
Вторая причина неразборчивого употребления терминов коренится в мифотворчестве самих литераторов. В процессе создания индивидуального авторского мифа могли контаминироваться этиологически разнородные черты народной религиозности, воспринимаясь зачастую сквозь призму ницшеанских категорий, соловьевской со-фиологии; в экстатике сектантских обрядов виделись проявления дионисийско-оргиастических культов. Примером подобного синкретизма может служить, например, образ блоковской Фаины из «Песни судьбы» – загадочной героини, наделенной одновременно и чертами раскольницы, бежавшей из горящих скитов, и хлыстовской «богородицы» («цыганская» составляющая дополняет образ, выражающий стихийность русской души). Вслед за Блоком в критических и научных интерпретациях этого образа, как и при обсуждении темы блоковского «ере-тизма» в целом, старообрядчество и сектантство также не разграничиваются [Любимова, 1998; Приходько, 1999. С. 45–46].
Между тем староверие и сектантство различаются по меньшей мере по двум принципиально важным параметрам. Первый и, как представляется, основной – отношение к книжному наследию. Известно, что сектанты, в особенности хлысты, вызывавшие наиболее оживленный интерес интеллектуальной элиты Серебряного века, считали, что правду можно найти только путем откровения, а не через книжную премудрость [Ханзен-Леве, 1997. С. 160–162], что «буква убивает дух животворный» [Эн-гельштейн, 2002. С. 187]. «Письменность сектантами радикально отклоняется, и на ее место ставится “чистая, ненаписанная Книга”» [Ханзен-Леве, 1997. С. 160–162]. Старообрядчество же, выражая консервативные тенденции в русской культуре, ориентировано на сохранение древнейших книжных традиций – от Священного Писания и Предания до ранневизантийского и древнерусского книжного наследия. Причем по мере развития старообрядчества круг «книжных авторитетов» постоянно пополнялся – как за счет европейской и южно-русской «учености» [Гурьянова, 2007], так и за счет сочинений писателей-старообрядцев разных поколений.
Второе принципиально важное отличие сектантов от старообрядцев связано с отношением к личностному началу «истинно верующих». Если сектантство стремилось к деперсонализации, достигавшей апогея в процессе оргиастических ритуалов, то в старообрядчестве такого обезличивания не происходило. Частным проявлением процессов, противоположных деперсонализации, является, на наш взгляд, то, что литература староверия знает множество имен писателей, обладавших неповторимым индивидуальным стилем, хотя в силу вековых преследований со стороны властей, а также связанной с ними герметичности старообрядческой субкультуры имена их чаще всего становятся известны за пределами мира ста-роверия лишь благодаря разысканиям ученых. Отметим также, что старообрядчество привлекало внимание представителей русского «философского ренессанса» (Вл. Соловьева, С. Булгакова, Н. Бердяева, Н. Лос-ского, П. Флоренского, Г. Федотова и др.) именно как важнейшее явление духовной истории, как часть «русской мыслительной традиции» [Смирнов, 1999].
Одним из представителей народностарообрядческой интеллигенции эпохи Серебряного века можно считать писателя и полемиста Александра Михеевича Запьян-цева. Его имя совсем недавно открыто в науке [Клочкова, 1999. С. 226–238], а сочинения продолжают поступать в рукописные собрания в ходе археографических поисков 1. А. М. Запьянцев – автор ряда трудов полемического, догматического, эпистолярного и философско-богословского характера. Е. С. Клочкова на основе анализа полемического сочинения «Двухъдневная беседа…» охарактеризовала его как талантливого полемиста, обладавшего красноречием, талантом книгочея и умением логически мыс-
1 Семь сочинений, гектографически изданных с 1901 по 1912 г. в с. Толбы и в г. Балахны, называет лить. Анализ литературы, цитируемой в одном только проанализированном сочинении, свидетельствует об обширности библиотек староверов, включавших и древние рукописные книги, и старопечатные издания, и научные труды по истории старообрядчества [Клочкова, 1999. С. 229–231].
В 1909 г., как раз в тот год, когда Андрей Белый пишет роман «Серебряный голубь», воссоздавая в нем мрачный быт хлыстов как проявление глубинной стихии народной жизни, А. М. Запьянцев в собственной типографии в с. Толбы Сергаческого уезда Нижегородской губернии печатает на гегто-графе свое сочинение «Что есть челов h къ и какое он получи от Бога благородие» 2. В нем, приводя аргументы из Священного Писания и Предания, виртуозно демонстрируя навыки работы с книжными источниками, он выстраивает свою концепцию человека как образа и подобия Божия.
А. М. Запьянцев возглавлял в своем селе общину староверов-самокрестов. Самокре-сты (самокрещенцы) выделились в конце XIX в. из спасовского согласия, одного из самых радикальных в старообрядчестве [Старообрядчество, 1996. С. 249; Клочкова, 1999; Боровик, 2005]. Спасовцы (другое название – нетовцы) [Зеньковский, 1995. С. 472–477; Мальцев, 2006. С. 409–418], разделяя общее для всех староверов-беспоповцев учение о господстве в мире с 1666 г. антихриста, царствующего как духовно (в качестве духа зла), так и «чувственно» (в виде человеческих воплощений – представителей церковных и светских властей), отказались не только от священства, но и от всех таинств, не признавая их выполнение возможным без церковной иерархии. Единственной возможностью спасения для последователя этого учения оставалось, помимо нравственного жития, только крестное знамение и личная молитва, обращенная к Исусу Христу: «яко Той есть Спаситель наш и Архиерей и всех приходящих к Нему и верующих во Нь крестит Духом Святым»
[Мальцев, 2006. С. 416]. Приходящих от «никонианской церкви» спасовцы принимали без перекрещивания, поскольку отрицали в современных условиях и таинство крещения. Именно этот пункт был опровергнут теми спасовцами, которые обосновали отдельный «толк» и стали называться само-крестами. Они перекрещивали «иноверных», в остальном же самокресты разделяли установки спасовцев, включая допустимость браков. Споры с поморцами-безбрачниками, которые велись на протяжении столетий со стороны спасовцев, были продолжены ста-роверами-самокрестами, в том числе яростным последователем «естественного закона» А. М. Запьянцевым 3.
Концепция человека, лаконично выраженная в сочинении «Что есть челов h къ…», оказывается тем краеугольным камнем, на котором зиждется идеологическая постройка староверов-самокрестов, своеобразным смысловым центром всей идейно-художественной системы творчества Запьянцева.
Сочинение невелико по объему и оформлено как миниатюрная брошюра: 8 листов гектографической тетрадки, украшенных заставками и декоративными рамками. Все листы, кроме 1-го, имеют по 18 строк. Гектограф отпечатан с автографа и передает характерный полууставный почерк А. М. Запьянце-ва, сохраняющего даже в графике традиции древнеславянской письменности. Композиционно текст строится по той же схеме, что и другие его сочинения. Первый лист – своеобразный титул книжки:
«Что есть челов h къ 4
и какое онъ получи от Бога благородие.
Составлено
Александромъ Мих h евичемъ Запьянцевымъ, села Толбы, Сергаческаго у h зда Нижегородской губерни».
Имя автора значится и в конце сочинения – он вовсе не стремился, как древнерусские писатели, к анонимности. Более того,
Е. С. Клочкова отмечает в его характере черты «самолюбования и гордыни» – правда, гордится А. М. Запьянцев прежде всего своей начитанностью и умением вести споры на богословские темы, а также библиотекой, где хранились раритеты [Клочкова, 1999. С. 230–231].
Начало сочинения вместе с концовкой, в которой подводятся четкие выводы и вновь, еще более точно, указаны «выходные данные» 5, образуют своеобразную композиционную раму, в которую заключено основное содержание. Оно предваряется «изв h ще-ниемъ», из которого становится ясно, что не праздный литературный интерес сподвиг Запьянцева написать это сочинение: « М но-гия книгочеты и называемые учители тол-куютъ и поучаютъ протчихъ людей, что церковь не может быть безъ священства, того ради мы теперь зд h сь поставимъ на точку зр h ния перв h е всего самого челов h ка и посмотримъ на него, како Господь Богъ сотвори его, и что ему дарова во время его сотворения, пусть ето увидятъ» (л. 2).
Далее, приводя цепь аргументов, старообрядческий писатель доказывает, что человек, от создания наделенный всеми качествами, необходимыми для спасения, не нуждается более ни в каких посредниках между собой и Богом. Основные аргументы А. М. Запьянцева – цитаты, взятые из авторитетных источников, умело, где надо, сокращенные и нанизанные на продуманную линию авторской логики. По сути дела, труд А. М. Запьянцева – ловкая компиляция, составленная из фрагментов чужих текстов. В этом он отнюдь не нарушает традиций словесности, на которую ориентируется во всем своем творчестве. Для средневековой литературы «цитация есть смысл, способ и форма ее существования» [Герасимова, 1993. С. 314; Журова, 2005]. Компилятивными являются и некоторые сочинения, цитируемые Запьянцевым в этом памятнике, например, Пандекты Никона Черногорца, византийского автора XI в. (л. 7 – 7 об.).
Для старообрядческих писателей цитация изначально была важнейшим приемом, что обусловливалось установкой старообрядческой культуры на традиционализм. Цитирование становилось одним из способов аккумуляции древнерусского рукописно- книжного наследия [Поздеева, 1988; Беляева, 1990]. Систематизированные подборки выписок делали уже ранние расколоучители [Гурьянова, 2008], в дальнейшем на этом фундаменте авторитетной аргументации строилось все здание старообрядческой идеологии [Гурьянова, 2007. С. 260–291; Демкова, Титова, 2008]. Накопленный материал использовался и в качестве основы для создания авторских сочинений. Научные исследования последних лет выявляют особые методы работы старообрядческих книжников с цитатами, бережное и умелое обращение с книжными источниками [Гурьянова, 2007; 2008].
Внимательная работа с текстом источника была свойственна и А. М. Запьянцеву. Большинство его цитат имеет точное указание на главу, лист или страницу (если использована книга новой печати). Сравнение же их с источниками цитирования убеждает в абсолютно точном воспроизведении той части текста, что используется автором. Он старается следовать за источником, не ошибаясь ни в единой букве, однако берет из него только те фрагменты, что нужны ему для доказательства своей мысли. Те места в цитате, где он делает сокращения, всегда отмечены многоточием. Разумеется, в итоге такового выборочного цитирования, совмещения в одном абзаце, а то и предложении разных цитат создается совсем иной текст, выражающий иногда весьма произвольную авторскую интепретацию текста исходного.
Главная тема сочинения «Что есть челов h къ…» – человек как образ и подобие Божие – является основополагающей в христианской антропологии. Известной цитатой из Библии открывается центральная часть сочинения. « И рече Богъ: “Сотворимъ челов h ка по образу нашему и по подобию 6” …И сотвори Богъ челов h ка по образу Божию, сотвори его, мужа и жену, сотвори ихъ 7, и благослови ихъ Богъ, глаголя: “Рас-титеся и множитеся, и наполните землю, и господьствуйте ею 8” (Бытия, гл. 1)».
Как видим, для построения этого фрагмента взяты только части трех библейских стихов, 26-го, 27-го и 28-го 1-й главы Книги Бытия. Отброшен не нужный для авторского замысла текст о человеке как владыке тварного мира, птиц, рыб и зверей. Полученная компиляция предельно сжато повествует о творении человека Богом по образу своему и о заповеди «множиться» (последнее важно в плане полемики с идейными противниками – «бракоборами»).
Далее следует экзегетическая часть сочинения. Истолковывая лаконичную библейскую контаминацию, писатель-старообрядец базируется на солидном фундаменте литературы. Начало истолкования создает впечатление живой беседы с читателем: « С отворимъ человека по образу нашему и по подобию… Кто глаголя и к кому слово?… Да ув h си, яко отецъ сотвори, чрезъ Сына, и Сынъ созда Отеческим хот h ниемъ, и прославиши Отца въ Сын h , и Сына в Дус h Свят h мъ, тако общее былъ еси д h ло…» (л. 2 об.) Лишь в конце абзаца автор укажет источник цитирования – им является Беседа св. Василия Великого «На шестодневное» [Сборник переводов Епифа-ния Славинецкого, 1665. Л. 34 об., 35]. Не исказив ни единой буквы в цитируемом тексте, автор опять-таки выделяет текст, подводящий к важной для него мысли: в творении человека принимал участие не только Бог-Отец, но и два других члена Троицы, Исус Христос и Святой Дух, следовательно, уже в акте творения человек получил всю полноту божества.
Следующие цитаты подтверждают мысль об изначальном богоподобии человека. Здесь автор счел уместной идею трихотомии человеческого существа, включающего «умъ, слово и духъ, три же не-разд h лная и равна» (л. 2 об.). Человек является, следовательно, не только подобием Бога-Отца, в нем самом отражен образ св. Троицы. Источник цитаты – Слово 2-е на Пасху св. Григория Богослова [Там же. Л. 441 об.]. Далее эта мысль о подобии трех начал в человеке святой Троице подтверждается большой точной цитатой из Кати-хизиса Лаврентия Зизания 9.
Метод аналогий, используемый старообрядческим писателем, позволил выйти на важнейшие для него проблемы. Так, деторождение уподобляется акту творения, и здесь цитируется книга Мефодия Патарско-го, оспаривавшего в свое время крайние по- явления аскетизма. «И теперь Богъ образу-етъ человhка, то не дерзко ли отвращаться от деторождения 10, которое не стыдится совершать самъ Вседержитель своими чистыми руками? 11» (л. 4).
Приводятся цитаты из Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Феодора Студита, Иоанна Дамаскина, Никона Черногорца о богоподобии человека, свидетельствующие о том, что он – царь, бог, престол Божества. Весьма полезен оказался для писателя-старовера и опыт ранневизантийского мистика, основателя исихазма св. Симеона Нового Богослова, учившего, что главное в христианской вере – личный непосредственный опыт богообщения, а вера – «даръ всеблагаго Бога, его же дарова намъ естественно» (л. 6). Дважды – в контексте другой цитаты и непосредственно – приводится евангельский текст « С е бо Царствие Божие внутрь васъ есть» (Лк 17: 21). Используются, опять же с сокращением, усиливающим основной смысл, и цитаты из посланий апостола Павла коринфяном: « Н е в h сте ли, яко храмъ Божии есте, и Духъ Божии живетъ въ васъ…храмъ бо Божии святъ есть, иже есте вы» (Апостолъ зач. 128)» 12. Отточием в середине цитаты действительно помечается сокращение части текста – автор вновь создает новый библейский текст на основе двух разных, хотя и близких по местоположению в Новом Завете цитат. И рядом следующая, близкая по смыслу: « В ы бо есте церкви Бога жива» 13.
Суммируя смысл цитатной подборки, автор подводит в конце сочинения итог: «Итакъ, человhкъ есть образъ Божии, церковь Божия, имhетъ въ себh Царствие Божие и престолъ». В контексте деятельности наставника общины самокрестов это означало, что имеются весьма веские основания, не имея священников, церкви, самостоятельно, без чьего бы то ни было посредни- чества, обращаться к Богу. Залог спасения, как и вера 14, – в самом человеке 15.
С точки зрения ортодоксальной христианской антропологии легко увидеть изъян, допущенный в построениях А. М. Запьянце-ва. Он обходит в своем сочинении догмат о грехопадении, в соответствии с которым человек, созданный по образу и подобию Божию, утратил первоначальную благодать. Соответственно редуцируется и христоло-гический аспект, без которого немыслима христианская антропология [Епископ Александр, 1990. С. 17]. Упомянув об участии Исуса Христа при творении и засвидетельствовав таким образом свое убеждение в превечном существовании Святой Троицы, автор затем ничего не говорит об искупительной жертве, Адам так и остается у него без Нового Адама. Между тем тезис о бого-подобии означает в христианском учении прежде всего возможность, вектор восхождения [Лосский, 1991. С. 89]. «Главное назначение и призвание человека – восходить от земного к небесному, от человеческого к божественному <…> Будучи Богом по своему потенциалу, человек должен достичь такой степени богоуподобления, при которой он станет всецело обоженным» [Иеромонах Иларион, 1998. С. 313].
Тем не менее в старообрядческой среде А. М. Запьянцев равных себе по умению вести полемику не находил, и его книги, провозглашавшие высокое назначение человека, пользовались там большой популярностью. А. М. Запьянцев был известен далеко за пределами общины и даже Нижегородской губернии. В сложных ситуациях догматических споров его приглашали в другие согласия [Очерки истории…, 2000. С. 93], а сочинения его достигали Сибири и Алтая 16.
Антропософия А. М. Запьянцева имеет свою традицию не только в святоотеческой и ранневизантийской, но и в самой старообрядческой литературе. В поморском согласии, с которым полемизировал писатель, почти за два века до его труда были написаны большое сочинение «О человеке» Андрея Денисова и основанное на нем произведение на ту же тему его брата Семена («Что есть человек, яко возвеличил еси его? Словеса сия суть человека истиннаго и непо-рочнаго, в главе 7-й написанная») (подробнее см.: [Журавель, 2008. С. 71–85]). В духе времени (сочинения датируются 1720-ми гг.) используя пышную стилистику барокко, опираясь на несколько философских категорий, почерпнутых из «Великой науки» Раймунда Люллия (доброта, великость, разум, сила, слава и др. – в них усматривались силовые творящие начала Бога, и они легли в основу денисовской концепции человека), братья Денисовы создали гимн человеку, проникнутый пафосом восхищения, удивления, восторга перед дивным созданием Божиим. Использовался примерно тот же багаж цитат из Священного Писания и Предания, из творений Григория Богослова и Иоанна Златоуста, но культурный контекст барочной эпохи требовал иного подхода. Тем не менее обращение к теме человека в старообрядческой литературе представляется нам достойным внимания.
Концепция человека, сформулированная А. М. Запьянцевым, являет собой и параллель, и антитезу построениям «высокой литературы» Серебряного века. Человек, являющий собой «образ Божий, церковь Божию…», в плане «большого» культурного диалога противостоит как горьковскому Человеку с его «печатью ницшеанства», так и «маленькому» человеку Ф. Сологуба или Л. Андреева. Мечтая о сближении с народом, Блок с грустью констатировал непреодолимость черты между народом и интеллигенцией. А народная интеллигенция на другом полюсе русской культуры начала XX в. продолжала искать свои пути к истине, идя давно проторенными тропами.
уставного характера, составленный А. М. Запьянце-вым [Рукописи XVI-XX вв.…, 1998. С. 211–212 – 16/90-г, копия сборника]
THE OLD-BELIEVE WORK OF 1909 ABOUT THE PERSON:
SOURCES, THE CONTEXT