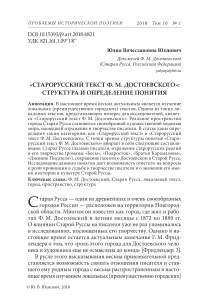"Старорусский текст Ф. М. Достоевского": структура и определение понятия
Автор: Юхнович Юлия Вячеславовна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.16, 2018 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время весьма актуальным является изучение локальных (преимущественно городских) текстов. Одним из таких локальных текстов, представляющих интерес для исследователей, является «Старорусский текст Ф. М. Достоевского». Реальное пространство города Старая Русса становится своеобразной художественной моделью мира, нашедшей отражение в творчестве писателя. В статье даны определения таким категориям, как «Старорусский текст» и «Старорусский текст Ф. М. Достоевского». С точки зрения структуры понятие «Старорусский текст Ф. М. Достоевского» вбирает в себя следующие составляющие: Старая Русса глазами писателя, отражение старорусских реалий в его творчестве (романы «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», «Дневник Писателя»), сохранение памяти о Достоевском в Старой Руссе. Исследование данного понятия дает возможность ответить на вопросы о роли провинции в судьбе и творчестве писателя и о значении его имени в истории и культуре Старой Руссы.
Ф. м. достоевский, старая русса, локальный текст, город, пространство, структура
Короткий адрес: https://sciup.org/14749049
IDR: 14749049 | УДК: 821.161.1.09?18? | DOI: 10.15393/j9.art.2018.4821
Текст научной статьи "Старорусский текст Ф. М. Достоевского": структура и определение понятия
С тарая Русса — один из древнейших и очень своеобразных городов России — расположен на территории Новгородской области. Многим он известен как город, где жил и работал Ф. М. Достоевский в летние месяцы с 1872 по 1880 гг. О влиянии Старой Руссы на писателя уже не раз упоминалось в исследованиях, посвященных его творчеству. Однако в настоящее время остается актуальным замечание Г. М. Фридлендера о том, что «роль этого города для Достоевского-человека и художника еще не осмыслена до конца» [Фридлендер: 3].
В русле этого высказывания весьма привлекательной представляется возможность связать отношения писателя и ставшего ему родным города с весьма распространенным в настоящее время изучением локальных (преимущественно городских)
текстов. Актуальность заявленной темы подтверждается современной исследовательской практикой. Понятие «текст» притягивает внимание литературоведов, социологов, культурологов, вызывая дискуссии, попытки по-новому взглянуть на это понятие, получившее дополнительные значения в различных контекстах: «провинциальный текст», «столичный текст», «локальный текст».
Одним из таких локальных текстов, представляющих интерес для исследователей, является «Старорусский текст Ф. М. Достоевского». Реальное пространство города Старая Русса становится своеобразной художественной моделью мира, нашедшей отражение в творчестве писателя. Старорусский текст в данном случае предстает как знаковая система, в которой заложена определенная информация, некий культурный код. М. М. Бахтин писал: «Если понимать текст широко — как всякий связный знаковый комплекс», текст — это «мысли о мыслях, переживания переживаний, слова о словах, тексты о текстах. <…> Где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления» [Бахтин: 297].
Интерес к исследованию культурного пространства города обозначился еще в 20-х гг. XX в. Это, в первую очередь, работы Н. П. Анциферова «Душа Петербурга» (1922), «Петербург Достоевского» (1923), «Пути изучения города как социального организма. Опыт комплексного подхода» (1926). В последней автор, используя экскурсионный метод исследования, дает описание городской среды через проникновение в ее образ, определяя тем самым ее специфическую природу (данный метод частично был использован нами в характеристике культурного пространства Старой Руссы).
Понятие «локальный текст» все чаще идентифицируется с городским текстом. В этом направлении довольно распространенными стали исследования столичных текстов (главным образом московского и петербургского). В. Н. Топоров в своей фундаментальной работе «Петербургский текст русской литературы» описывает произведения русской классической литературы с точки зрения отражения в них петербургских реалий. Например, в системе художественного языка Ф. М. Достоевского Топоров выделяет следующие формальные критерии петербургского текста: «внутреннее состояние» (отрицательное — «тоска, скука, хандра, сплин <…>, бред, полусознание, беспамятство, болезнь, <…> одиночество» и т. п.); «природа» (отрицательное — «закат (зловещий), сумерки, туман, дым, пар, муть, <…> духота, <…> вонь, грязь…; <…> положительное — солнце, луч солнца, заря, <…> Нева, море, <…> острова, берег» и т. д.); «фамилии, имена» (Германн, Пиковая дама, Медный Всадник, Петр, Павел и Александр I, Евгений, Акакий Акакиевич, Раскольников, Голядкин и мн. др.) [Топоров: 60–62, 65]. Таким образом, выстраивается знаковая система, складывающаяся в единый код Петербурга. Вслед за исследованиями петербургского текста появляется ряд работ, посвященных феномену других локальных текстов: московского, новгородского, сибирского, тверского, а также изучению провинциальных городских текстов1.
В исследовании локальных текстов подчеркивается уникальность того или иного культурного пространства в ряду ему подобных через описание его специфики как текстуально оформленного целого. Однако, по мнению М. В. Строганова, «построение локального текста принадлежит не самому жителю данного пространства, но его исследователю, который складывает свой (изучаемый им) локальный текст из обрывочных и подчас вполне самостоятельных и независимых друг от друга знаков» [Строганов: 7].
И. С. Абрамовская в статье, посвященной проблеме локального текста, допускает, что «в литературе локальный текст создается не только представителями места, которое является предметом рефлексии, а чужаками — путешественниками, литераторами, оказавшимися по разным причинам причастными жизни этого места. Взгляд со стороны, по-видимому, выделяет из общего потока жизни явления с исторически сложившейся, устойчивой репутацией “знаковости” и символичности для данного пространства» [Абрамовская: 139].
Таким образом, локальный текст формируется из многочисленных знаков, текстуально оформленных, складывающихся в единую систему и связанных с определенными представлениями о каком-либо пространстве как жителей (взгляд изнутри), так и исследователей, литераторов и т. п. (взгляд извне).
Обращаясь к локальному Старорусскому тексту2, можно выделить одну из его структурных доминант — «Старорусский текст Ф. М. Достоевского». Это понятие условно можно разделить на три составляющие: Старая Русса глазами Достоевского (знакомство писателя с городом и его реакция на особенности старорусского быта); Старая Русса в творчестве писателя (отражение старорусских реалий и элементов Старорусского текста в произведениях Достоевского: романах «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», в «Дневнике Писателя»); сохранение памяти о писателе в Старой Руссе после его смерти (определение значения имени Достоевского для Старой Руссы).
Первая составляющая обращена к личным впечатлениям Достоевского, к тому биографическому материалу, который представлен главным образом в письмах, а также в мемуарах его жены и дочери. По сути, это весь спектр впечатлений писателя от Старой Руссы, начиная с его первых посещений города (с 1872 г.) и заканчивая последними проведенными в нем днями.
Условно знаки Старорусского текста Достоевского можно разделить на следующие группы. Это — персоналии : люди, с которыми был знаком и встречался писатель в Старой Руссе (священники Иоанн Румянцев и Иоанн Смелков, подполковник А. К. Гриббе и его племянница А. Г. Елисеева, генерал Е. И. Леонтьев, актриса курортного театра А. П. Орлова, мещанка А. И. Меньшова, директор старорусского курорта А. А. Рохель и его супруга Екатерина Прокофьевна, петербургский журналист П. А. Гайдебуров и др.)3; топографические и топонимические знаки : обозначение маршрутов Достоевского по Старой Руссе и мест, где он бывал (напр., лавка Плотникова, старорусский курортный парк, Торговая площадь, улица Дмитриевская и проч.).
Изучение старорусского периода жизни и творчества Достоевского в семиотическом аспекте предполагает и отдельное рассмотрение фактов старорусского быта писателя с точки зрения описания его пребывания в Старой Руссе по дням и даже по минутам: засыпал — просыпался, общался с детьми и супругой, обедал, встречался со знакомыми, занимался литературными делами, совершал прогулки по старорусским улицам. Это исследование весьма перспективно: результатом его может стать создание хроники старорусского периода жизни и творчества Достоевского.
Обращение к биографическим материалам писателя позволяет определить знаковую составляющую понятия «Старорусский текст Достоевского» и особенную, специфическую природу некоторых произведений этого периода («Братьев Карамазовых», «Бесов», «Подростка»), в которых обозначена тема провинциального города. Например, в «Братьях Карамазовых», где одним из прообразов романного городка Скотопригоньевска становится Старая Русса. В романе одна категория знаков имеет отношение к реально существующему городу (Торговая (Базарная) или Соборная площадь, лавка Плотниковых, улица Дмитриевская); а другая — носит символический характер: трактир (как место исповеди Ивана Карамазова, во время которой произнесена знаменитая фраза о слезинке ребенка), храм, расположенный рядом с кладбищем, где похоронен Илюша Снегирев, монастырь, камень, у которого Алеша Карамазов говорит последние слова об Илюше. Эти сакральные знаки Достоевский вводит в текст романа не случайно: он пытается осмыслить идею нравственного очищения человека. Итак, провинциальный город в «Братьях Карамазовых» предстает как особый мир со своим символическим содержанием, которое направлено на выражение авторской концепции Достоевского.
Отметим примеры изображения провинциального города у Достоевского, обозначив некоторые топографические и топонимические особенности романного городка Скотопригонь-евска в соотнесении со старорусскими реалиями. Выделим старорусские локусы — это подгородный монастырь (СпасоПреображенский мужской монастырь (основан в 1192 г.) или монастыри в окрестностях города, о которых мог знать Достоевский); дом Федора Павловича Карамазова (дом отставного подполковника А. К. Гриббе в Мининском переулке, который приобрели Достоевские в 1876 г.); путь от дома Федора Павловича до дома Катерины Ивановны Верховцевой
(Георгиевская улица, соединяющая Мининский переулок, где находилась старорусская дача писателя, с Торговой площадью); улица Большая (Великая улица, находилась недалеко от Торговой площади и пересекала улицу Георгиевскую); улица Михайловская (Пятницкая, пересекающая улицу Георгиевскую и ведущая к курортному парку); «грязная, длинная лужа» (речка Малашка / Порусья); мостик, где произошла встреча Алеши с мальчиками (небольшой мост через реку Малашку на Пятницкой улице назывался Никольским); улица Озерная (улица Ильинская, на которой располагался курортный парк); Дмитриевская улица (располагалась недалеко от дачи Достоевских, параллельно Георгиевской улице, упиралась в Пятницкую улицу); Соборная площадь (Торговая / Базарная); лавка Плотниковых (находилась на Торговой площади); дом Грушеньки Светловой (дом А. И. Меньшовой, старорусской мещанки, знакомой Достоевских, которая жила на набережной реки Перерытицы, недалеко от Торговой площади).
Также важно обратить внимание на то, что некоторые герои «Братьев Карамазовых» имеют своих прототипов из Старой Руссы: Грушенька Светлова (прототип — А. И. Меньшова), кучера Андрей и Тимофей (их услугами часто пользовался Достоевский), П. И. Плотников (старорусский купец, лавку которого любил посещать писатель).
Особая роль в романе принадлежит старорусским протодеталям: пейзажи, элементы интерьера, соотнесение реальной жизни писателя в Старой Руссе с романной, «скотопригоньев-ской» жизнью и т. п.
Отдельные приметы Старой Руссы есть в «Дневнике Писателя» и в личной переписке Достоевских. В июне 1876 г. Федор Михайлович работает над очередным выпуском «Дневника Писателя», одна из глав которого посвящена памяти Жорж Санд. После его публикации в Старую Руссу приходят письма из Киева, Нижнего Новгорода, Рязани, Новгорода, Москвы. Многие корреспонденты спешат поделиться своими впечатлениями о прочитанном, выразить пожелания в отношении дальнейшей тематики издания. В это время писатель находится на лечении в немецком городке Бад-Эмсе, и его супруга, Анна Григорьевна, исправно сообщает ему о корреспонденции, которая приходит на их старорусский адрес. Однако писатель тревожится о том, что не успеет подготовить очередной выпуск в срок и торопится вернуться в Старую Руссу, где ему хорошо работалось.
После возвращения Достоевского из Германии на свою старорусскую дачу он меняет тон повествования второй части июльского выпуска «Дневника Писателя». Писатель возвращается к рассуждениям о роли России в мировом историческом процессе. Также Федор Михайлович высказывает одну из своих сокровеннейших мыслей о том, что русский человек с детства должен быть ближе к своим истокам, уважать свою семью и иметь свой клочок земли: «Человечество обновится в Саду и Садом выправится — вот формула»4. Поэтому для писателя принципиально важным оказывается то, что он и его семья имеют возможность почувствовать атмосферу домашнего тепла. И это ощущение дома дала Достоевским Старая Русса.
У семьи Достоевских в Старой Руссе складываются определенные привычки, традиции, связанные с той средой, где они живут. Работать в уединении старинного русского городка писателю комфортнее, нежели за границей. Поэтому именно в Старой Руссе были написаны знаменитые главы «Дневника Писателя», содержащие рассуждения о характере и душевных качествах русского человека.
В старорусской переписке Достоевского мы находим не только бытовые подробности, но и сведения, связанные с историей того или иного произведения. В письме к К. П. Победоносцеву от 19 мая 1880 г. Достоевский сообщает: «Приехал же сюда в Руссу не на отдых и не на покой: должен ехать в Москву на открытие памятника Пушкина…» (301, 156). В Старой Руссе Достоевский усиленно работает над текстом знаменитой «Пушкинской речи». Он осознает, что ему предстоит сказать «свое слово» в память о гениальном поэте, наряду с такими известными современниками, как И. С. Тургенев, А. Ф. Писемский, А. Н. Островский, И. С. Аксаков и др. Выступив на Пушкинском празднике, Достоевский пишет жене в Старую Руссу: «…Аня, <…> никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она <речь>! <…>
Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил — я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить » (301, 184). Фундаментальная идея творчества Достоевского — идея национального духа русского человека, — раскрытая в «Пушкинской речи», впоследствии зазвучит с новой силой в «Братьях Карамазовых».
Заканчивая работу над «Братьями Карамазовыми», своим итоговым произведением, писатель вновь торопится в Старую Руссу. 29 апреля 1880 г. в письме к Н. А. Любимову Достоевский признается: «…через неделю уезжаю с семейством в Старую Руссу и в 3 месяца кончу весь роман . <…> Не мог же написать теперь к майской книжке потому, что здесь буквально не дают писать, и надо скорее бежать из Петербурга» (301, 151).
В переписке Ф. М. Достоевского старорусского периода, связанного с созданием «Братьев Карамазовых» (1879–1880), перед нами открывается «творческая лаборатория» писателя. Так, в письмах к Н. А. Любимову от 10 мая 1879 г. и от 11 июня 1879 г. раскрываются идейное содержание произведения, характеры некоторых персонажей, задачи, которые ставил перед собой автор. В письме к обер-прокурору Святейшего Синода К. П. Победоносцеву от 19 мая 1879 г. Достоевский также комментирует главную мысль кульминационной книги романа — «Pro и contra»:
«Богохульство это взялъ какъ самъ чувствовалъ и понималъ сильнѣй, т. е. такъ именно какъ происходитъ оно у насъ теперь въ нашей Россiи у всего (почти) верхняго слоя, а преимущественно у молодежи, т. е. научное и философское опроверженiе бытiя Божiя уже заброшено, имъ не занимаются вовсе теперешнiе дѣловые соцiалисты <…>. За то отрицается изо всѣхъ силъ созданiе Божiе, мiръ Божiй и смыслъ его . <…> Такимъ образомъ льщу себя надеждою что даже и въ такой отвлеченной темѣ не измѣнилъ реализму»5.
В этом же письме Достоевский, как бы подтверждая свои слова конкретным примером, взятым из старорусской действительности, упоминает об офицере Дубровине, который служил в 86-м пехотном Вильманстрандском полку, квартировавшем в Старой Руссе: «Здесь, когда я приехал, разговаривали об офицере Дубровине (повешенном)…» (301, 67).
В. Д. Дубровин был организатором и руководителем одного из военно-революционных народовольческих кружков, которые стали появляться в Петербурге в 1877–1878 гг. Приехав в Старую Руссу, он создал запрещенный кружок, в который вошли солдаты Вильманстрандского полка, крестьяне уезда, горожане-староруссцы. 16 декабря 1878 г. Дубровина арестовали. При обыске у него был обнаружен комплект запрещенных книг и его тетрадь «Записки русских офицеров-террористов за 1878 год», где была изложена подробная программа борьбы с самодержавием. В тюрьме Дубровин пытался покончить с собой, а на суде вел себя буйно. Однако его сумасшествие не было доказано. В. Д. Дубровин был казнен 20 апреля 1879 г. в Петропавловской крепости. Руководствуясь «живым примером», Достоевский рассуждает о таком типе людей, как Дубровин: «…мы говорим прямо: это сумасшедшие, и между тем у этих сумасшедших своя логика, свое учение, свой кодекс, свой бог даже и так крепко засело, как крепче нельзя» (301, 67).
В романах «Бесы» и «Подросток» также можно обнаружить некоторые образы, отсылающие к старорусским реалиям. Например, в третьей части «Бесов», в главе «Окончание праздника», есть упоминание о соборном протопопе, возможным прототипом которого мог стать служивший в Воскресенском соборе Иван Смелков, старорусский знакомый Достоевского (см.: [Рейнус: 20]). В письме к Анне Григорьевне от 28 мая 1872 г. (время работы над третьей, заключительной, частью романа «Бесы») Достоевский сообщает: «Мы с Румянцевым ходили сегодня утром к протопопу (Ивану Смелкову) с визитом. <…> Протопоп казался очень довольным моим посещением, но мне кажется, он в 10 раз хуже нашего Румянцева» (29 1 , 239).
В одном из эпизодов «Подростка», в рассказе Макара Ивановича Долгорукого о судьбе купца Скотобойникова, содержится описание провинциального городка Афимьевска, в образе которого угадываются черты Старой Руссы. К одной из них можно отнести описание городской набережной в сцене гибели ребенка, побоявшегося смерти меньше, чем сурового наказания за невольный проступок:
«А по набережной там бульвар идет, старые ракиты стоят, место веселое. Сбежал он вниз к воде, люди видели, сплеснул руками, у самого того места, где паром пристает <…>. А место это широкое, река быстрая, барки проходят; на той стороне лавки площадь, храм божий златыми главами сияет. И как раз тут на перевоз поспешала с дочкой полковница Ферзинг — полк стоял пехотный» (13, 317).
В данном описании обнаруживаются приметы старорусского Красного берега. Подтверждением этому может служить следующее описание Красного берега, данное М. В. Горбаневским и М. И. Емельяновой: «Набережная Красный берег застраивалась особняками богатых купцов XIX в., берег был засажен липами (липовые бульвары 1832–1834 гг.), где любили гулять местные жители, на Красном берегу размещалась Уездная Земская управа, царский Путевой дворец, фабрика акционерного общества “А. М. Лютер”, лесопильный завод Де Бука, до начала ХХ в. вдоль набережной был городской сад. Вероятно, в его наименовании слились одновременно оба значения старинного прилагательного красный — “красивый” и “главный, парадный”» [Горбаневский, Емельянова: 49]. Добавим, что с Красного берега открывался замечательный вид на Воскресенский собор, также рядом находилась пароходная пристань. Таким образом, впечатления Достоевского от города Старая Русса нашли отражение в созданных им городских пейзажах романа «Подросток».
В понятие «Старорусский текст Ф. М. Достоевского», помимо совокупности фактов, связанных с биографией и творчеством писателя, входят сведения об увековечении памяти Федора Михайловича в Старой Руссе с конца XIX в. до наших дней. Сюда относятся деятельность вдовы писателя по сохранению памяти о нем (открытие церковно-приходской школы имени Достоевского6), история Музея Достоевского, а также определенные городские реалии (места и названия), связанные с именем писателя.
В настоящее время Старую Руссу часто называют городом Достоевского. Именем писателя названы улицы и учреждения; в доме Федора Михайловича находится музей; планируется создание литературной экспозиции, посвященной роману «Братья Карамазовы»; в памятных местах установлены мемориальные знаки и таблички; есть памятник Достоевскому. Подчеркнутый интерес к личности и творчеству писателя подтверждают и статистические данные. Например, старорусский Дом-музей Ф. М. Достоевского ежегодно посещают более двадцати тысяч человек. Имя Достоевского по-прежнему является знаковым для истории и культуры Старой Руссы.
Таким образом, «Старорусский текст Ф. М. Достоевского» представляет собой совокупность многочисленных знаков (старорусских локусов, имен героев, протодеталей, особенностей старорусского пейзажа и др.), текстуально оформленных в единую систему, связанных с впечатлениями Достоевского о Старой Руссе и о том, какое отражение эти впечатления нашли в его творчестве. Старая Русса для Достоевского стала не только постоянным местом летнего отдыха. В этом городе писатель, находясь в кругу своей семьи, мог ощутить душевное спокойствие, здесь приступы эпилепсии становились реже, здесь Достоевский имел возможность работать в уединении, вдали от столичной суеты. Постепенно небольшой провинциальный городок становится для писателя родным. В Старой Руссе он создает свои зрелые произведения (романы «Бесы», «Подросток», некоторые главы «Дневника Писателя», «Пушкинскую речь») и подводит итог творческой биографии.
Дата поступления в редакцию: 10.11.2017
“DOSTOEVSKY’S TEXT OF STARAYA RUSSA”:
Received: November 10, 2017
Date of publication: March 31, 2018
Список литературы "Старорусский текст Ф. М. Достоевского": структура и определение понятия
- Абашев В. В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. -Пермь: Изд-во Пермского гос. ун-та, 2000. -404 с.
- Абрамовская И. С. Проблема «локального текста» в русской литературе XIX века (на материале Новгородского текста)//Записки Филиала РГГУ в г. Великий Новгород. -Великий Новгород: Виконт, 2010. -Вып. 8: Историко-культурный и экономический потенциал России: наследие и современность: материалы международной научно-практической конференции. -С. 218-225.
- Ахметова М. В. Образ Мурома в сознании горожан . -URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/ahmetova8.htm (05.11.2017).
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. -М.: Искусство, 1986. -445 с.
- Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты/сост. В. В. Абашев, А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян. -М.: Языки славянской культуры, 2004. -672 с.
- Горбаневский М. В., Емельянова М. И. Улицы Старой Руссы. История в названиях. -М.: Медея, 2004. -384 с.
- Деткова Н. Ю. Малый провинциальный город как текст культуры//Вестник Челябинского государственного университета. -2009. -№ 18 (156). -Философия. Социология. Культурология. -Вып. 12. -С. 63-69.
- Клочкова Ю. В. Образ Екатеринбурга/Свердловска в русской литературе (XVIII -середина XX вв.): автореф. дис.. канд. филол. наук. -Екатеринбург: Уральский гос. ун-т, 2006. -24 с.
- Коркунов В. В. Кимры в тексте. -М.: Академика, 2015. -248 с.
- Люсый А. П. Крымский текст в русской литературе. -СПб.: Алетейя, 2003. -314 с.
- Москва в русской и мировой литературе: сб. ст. -М.: Наследие, 2000. -303 с.
- Москва и «московский текст» русской культуры: сб. ст. -М.: РГГУ, 1998. -224 с.
- Москва и «московский текст» в русской литературе начала XX века. IX Виноградовские чтения: материалы международной научной конференции (Москва, 11-12 ноября 2005 года). -М.: МГПУ, 2007. -122 с.
- Новгородский край в русской литературе: (очерки). -Великий Новгород: Изд-во Новгородского гос. ун-та, 2009. -927 с.
- Осипова Н. В. Вятский провинциальный текст в культурном пространстве (к вопросу о вятской самоидентификации)//Бинокль. -2002. -№ 16 . -URL: http://binokl-vyatka.narod.ru/B16/osip.htm (05.11.2017)
- Рейнус Л. М. Три адреса Достоевского. -Л.: Лениздат, 1985. -80 с.
- Сибирский текст в русской культуре: к 400-летию Томска и 125-летию первого университета Сибири. -Томск: Сибирика, 2002. -270 с.
- Сорочан А. Ю. Тверской край в литературе: образ региона и региональные образы. -Тверь: Изд-во Батасовой, 2010. -172 с.
- Строганов М. В. Литературное краеведение: учебное пособие для учителей средних школ и студентов филологических факультетов. -Тверь: Научная книга, 2007. -143 с.
- Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы. -СПб.: Искусство-СПБ, 2003. -617 с.
- Тюпа В. И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы//Сибирский филологический журнал. -2002. -№ 1. -С. 27-35.
- Фридлендер Г. М. Достоевский и Старая Русса//Достоевский и современность: сборник тезисов выступлений на «Старорусских чтениях». -Новгород, 1991. -Ч. I. -С. 3-7.
- Юхнович В. И. Культурное пространство Старой Руссы (аспекты изучения локального текста). -СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2011. -135 с.
- Юхнович Ю. В. Старорусские соседи Ф. М. Достоевского//Неизвестный Достоевский. -2017. -№ 2. -С. 96-109 . -URL: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1499856938.pdf (05.11.2017).
- Ярышева (Андрианова) И. С. Воплощение мечты Достоевского: церковно-приходская школа в Старой Руссе, устроенная трудами его жены//Достоевский и современность: материалы XXIII Международных Старорусских чтений 2008 года. -Великий Новгород, 2009. -Ч. II. -C. 180-203.
- Ярышева (Андрианова) И. С. Создание школы иконописи в Старой Руссе: об одном неосуществленном замысле А. Г. Достоевской//Достоевский и современность: материалы XXV Международных Старорусских чтений 2010 года. -Великий Новгород, 2011. -C. 319-321.