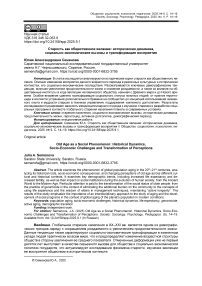Старость как общественное явление: историческая динамика, социально-экономические вызовы и трансформация восприятия
Автор: Семенова Ю.А.
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 9, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется анализируются исторические корни старости как общественного явления. Описано изменение восприятия данного возрастного периода в различных культурных и исторических контекстах, его социально-экономические последствия. Рассматриваются ключевые демографические тенденции, включая увеличение продолжительности жизни и снижение рождаемости, а также их влияние на общественные институты в ходе эволюции человеческого общества, начиная с Древнего мира и до Нового времени. Особое внимание уделено трансформации социального статуса пожилых людей: от практик геронтоцида в контексте устранения дополнительного бремени на сообщество до концепций использования жизненного опыта и мудрости старших в техниках управления, поддержания «активного долголетия». Результаты исследования подчеркивают важность междисциплинарного подхода к изучению старения и разработке социальных программ в контексте глобального старения населения планеты в современных условиях.
Старение населения, социально-экономические вызовы, историческая динамика, продолжительность жизни, геронтоцид, активное долголетие, демографический переход
Короткий адрес: https://sciup.org/149149195
IDR: 149149195 | УДК: 316.346.32-053.9 | DOI: 10.24158/spp.2025.9.1
Текст научной статьи Старость как общественное явление: историческая динамика, социально-экономические вызовы и трансформация восприятия
,
Настоящее исследование посвящено рассмотрению старости как социального феномена, постоянно подвергающегося изменениям в восприятии членов общества ввиду эволюции человеческого коллективного сознания под влиянием социоэкономических условий разных эпох.
Старость в научном дискурсе . В историографической традиции существуют разные подходы к изучению старости.
Одни исследователи делают акцент на рассмотрении демографических проблем и вызовов, анализе материальной составляющей пенсионера, что предполагает определение численности пожилых людей, их географического распределения, условий проживания, семейного статуса, социального обеспечения и медицинского обслуживания, описание ведения ими домашнего хозяйства (Ромашова, 2017: 190). В связи с этим демографическое старение рассматривается такими учеными через изменение возрастной структуры населения в условиях прогресса человеческого общества и исторической эволюции общества (Сапожникова, 2007).
Другие исследователи концентрируются на анализе культурных репрезентаций старости и ее гендерных различиях (Thane, 2003: 93), рассматривают данное явление в культурно-историческом контексте разных эпох и раскрывают его содержательные смыслы (Овсянникова , 2016: 150).
Социально-экономическая оценка старости предполагает, прежде всего, определение ее границ и опирается на периодизацию жизни индивида и типа его возраста (биологический, социальный и психологический). При этом наблюдается зависимость от стратегии построения и функционирования важных сегментов экономики и социальной сферы (образование, здравоохранение, пенсионная система) (Козлова, Секицки-Павленко, 2022), что оказывает влияние на интенсивность прироста удельного веса пожилых людей в общей массе населения1 (Доброхлеб, Барсуков, 2017: 89) и различается для каждой территории и исторического периода.
Старость в возрастных классификациях человеческой жизни . Для исследования динамики численности и социально-экономического положения пожилых людей необходимо рассмотрение возрастных классификаций более подробно. Так, ученые выделяют разные периоды и границы этапов жизни человека (в том числе и старости), которые основываются на актуальной для каждого периода картине мира и предопределяют предметную направленность, субъективный характер и степень детализации каждой из предложенных периодизаций (Барсуков, Калачи-кова, 2020).
Если говорить о среднем возрасте начала старости в исторической ретроспективе, то большинство исследователей указывают на 60 лет, однако единого мнения в их среде все же не наблюдается. Так, например, В.Н. Барсуков, О.Н. Калачикова, рассматривая историю типологизации старости, отмечают, что самый ранний возраст начала старости был обозначен Л. Ашофом в начале XX в. – 45 лет, а самый поздний – указан в классификации П. Флуранса (середина XIX в.) и составлял 70 лет (Барсуков, Калачикова, 2020: 37).
Также просматривается оценочное отношение к периоду старости в различных классификациях – например, в древней китайской (до н.э.), которая основывалась на национальной социально-культурной парадигме и почтении к преклонному возрасту. Старость, согласно ей, имела несколько этапов, первый начинался с 50–60 лет и воспринимался как «последний период творческой жизни» (Козлова, Секицки-Павленко, 2022: 445), а возраст с 60 до 70 лет считался «желанным», после которого наступала сама старость (Санников, 2010: 371).
С.А. Лишаев, рассматривая возрастную классификацию Пифагора, обнаружил, что древний ученый возраст в 60–80 лет (обозначенный как «зима») идентифицировал в негативном ключе, характеризуя человека, достигшего его, как «старого и угасающего» (Лишаев, 2015: 172). Следует сказать, что периодизация философа носила описательный характер и была метафорично представлена им как смена времен года, без рассмотрения социально-экономического положения пожилого человека.
Положительную оценку старость получила в классификации М. Рубнера (конец XIX в.): начинаясь с 70 лет, она обрела в его трактовке определение «почтенной», при этом критерием деления человеческой жизни на этапы выступали особенности энергетических процессов, происходящих с субъектом в разные возрастные периоды1.
Новый взгляд на старость реализовался в концепции «третьего» возраста П. Ласлетта (вторая половина XX в.). Вслед за геронтологом Б. Нейгартеном (Neugarten, 1974), который писал о «молодых стариках» и «старых стариках», он выделил этапы «молодой старости» – 60–65 лет и «мудрой зрелости» – 65 лет и старше, что предполагало успешное социально-экономическое развитие «молодых стариков», которые желают и способны продолжать свою профессиональную деятельность (Laslett, 1994).
Таким образом, мы можем констатировать, что, несмотря на неодинаковую продолжительность жизни человека в различные исторические периоды, границы начала возраста старости всегда приблизительно одинаковы, а оценочные суждения о содержании данного периода отличны. В связи с этим внимания заслуживает исследование возрастной структуры обществ и трансформации восприятия старости в культурно-историческом контексте, что, в качестве следствия, предопределяло и социально-экономическое положение старших возрастных групп.
Эволюция восприятия старости в человеческом обществе . Изменения возрастной структуры общества, наблюдавшиеся в истории, трансформировали роль и место пожилого человека в нем. Исследователи подчеркивают тот факт, что общественное восприятие старости, а соответственно, и ее социально-экономическое положение, эволюционировало от геронтоцида к «обществу всех возрастов», где старость стала рассматриваться как один из главных факторов устойчивого социально-экономического развития (Барсуков, Калачикова, 2020: 44).
Первобытный социум являлся «обществом без стариков» – об этом свидетельствуют археологические раскопки (Россет, 1981). По мнению венгерского ученого Г. Ашади, рассчитавшего коэффициент дожития, на возраст 40–44 лет приходилось 0,01 % населения, а пики смертности наблюдались в период 0–5 лет и 20–30 лет (Acsádi, Nemeskéri, 1970). Основной причиной этого было насильственное лишение жизни людей, что происходило в результате стычек с животными, битв за добычу, а также в ходе ритуальных убийств (Урланис, 1978) и сознательного умерщвления стариков (Krzywicki, 1968).
Согласно мнению ученых, в период позднего палеолита (40–13 тыс. лет до н.э.) и мезолита (13–4 тыс. лет до н.э.) доживали до возраста 50–60 лет около 2–2,5 % людей (Vallois, 1960).
По данным А.В. Богданаш, изучение поволжских могильников периода энеолита позволяет зафиксировать наличие общей тенденции – большой смертности детей и доживаемости до старческого возраста преимущественно мужчин (Богданаш, 2020: 222). Данное обстоятельство объяснялось наличием более комфортных социальных условий для представителей мужского пола, в отличие от женщин, которые демонстрировали пик смертности в более ранних возрастных когортах – 15–19 и 25–29 лет, что обуславливалось родовой нагрузкой и большей открытостью организма для влияния отрицательных природных факторов (Хохлов, 2010: 133). Тем не менее следует подчеркнуть низкое социально-экономическое положение именно старших возрастных групп вследствие ограниченности общественных и личностных ресурсов для поддержания их самостоятельного функционирования и в связи с утратой полезности для основной группы. И только с освоением огня, то есть с переходом на среднюю ступень дикости, когда за стариками, наряду с женщинами, закреплялась функция его сохранения, их положение в обществе улучшилось (Морган, 1935), хотя практики геронтоцида сохранялись еще длительное время, постепенно приобретая форму современной дискриминации по возрасту.
Сведений о возрастной структуре и социально-экономическом положении пожилых граждан в период античности значительно больше, чем в первобытный период. Исследователи, изучающие продолжительность жизни этого исторического времени, отмечают увеличение ее верхней границы до 22–38,5 лет, однако в связи с использованием разных методов в подсчетах цифры, представленные ими, разнятся. Тем не менее нас в большей степени интересует причина, которая позволяла человеку доживать до условной для того времени старости, что свидетельствовало бы о трансформации социально-экономической системы, включавшей в себя на правах полноправных членов граждан преклонного возраста.
Как отмечает Дж. Энджел, рост средней продолжительности жизни на 7 лет (Angel, 1947: 18) фиксируется благодаря переходу от родоплеменного строя к соседской общине, основанной на семейно-клановых принципах, устранению части внешних причин смертности, а также ввиду улучшения санитарно-гигиенических условий, что позволило повысить статус и качество жизни старшего поколения.
В это же время в культурах Древней Греции и Древнего Рима отношение к пожилым людям трансформируется кардинально – до их почитания. Цицерон указывал, что опрометчивая молодость сменяется дальновидностью, стойкостью характера, накопленным опытом пожилых людей, что может позволить обществу сохранить активность в политической и военной деятельно-сти1. В понимании Сенеки старость представала как этап человеческой жизни, являющийся «полезным для мудрого человека» и полным наслаждений, если уметь ими распоряжаться2. Страбон указывал, что «пользуются доверием люди <…> старейшие и наиболее опытные»3. Как следствие, формирование высших органов власти в рассматриваемых культурах – герусии и сената – основывалось на возрастном цензе и имело итогом совет старейшин, заложив основы новой формы правления – геронтократии, «власти стариков», репрезентированной не только в мире реальном, но и в мифологическом.
Так, в древнегреческой мифологии наблюдается «главенство отцов» и переход к патриар-хатному укладу жизнедеятельности общества. Верховный бог, глава Олимпа Зевс, являясь отцом многих богов и героев, олицетворял в те времена высшую власть – он становится литературно-мифологическим символом геронтологической государственности (Меликова, 2014: 29).
Отмеченная религиозная традиция распространилась и на жизнь светскую, реализуясь в моральных устоях и тесно связанных с ними первых законодательных нормах. Данными практиками подчеркивалась значимость возраста и сопутствующего ему ценного опыта, который приходил к людям, прожившим долгую жизнь; значимо было также умение «зрить в корень» причинно-следственных связей и на основе этого направлять действия других членов общества в нужное русло. То есть, мы можем утверждать, что в античный исторический период наблюдалась максимизация реализации социально-экономического потенциала пожилых людей в сравнении с предшествующим этапом развития человеческого общества, что было обусловлено не изменением качественных характеристик представителей старшего поколения, а общественно-экономическими условиями социальной реальности, позволяющими им их раскрыть.
Однако в этот период времени продолжительность жизни и общее состояние здоровья людей все же были на уровне более низком, чем тот, которого смогла достичь современная медицина. Большинство пожилых людей были хронически больны, а это в свою очередь требовало со стороны их общины/рода осуществления постоянного ухода за старшим поколением. Подобное поведение по отношению к пожилым родственникам характерно в большей части для оседлых сообществ. В этот же период демонстрация заботы и почтения к старшим членам сообщества от молодежи постепенно становилась паттерном, на основе которого дети формировали отношение к родителям. Таким образом, традиции и устои межпоколенческой помощи передавались от старших к младшим.
Однако, несмотря на изменившийся в античности взгляд на старость, Страбон отмечал, что в отдельных регионах все еще сохранялась традиция избавления от стариков, которая реализовывалась через отравление, скармливание собакам, поедание пожилых людей, умерщвление голодной смертью1. Современные исследователи подчеркивают, что геронтоцид являлся одной из первых крайних форм возрастной дискриминации (Барсуков, Калачикова, 2020: 46).
Следующая историческая эпоха – Средневековье. По данным исследователей (Valaoras, 1956; Acsádi, Nemeskéri, 1970), она характеризовалась снижением количества пожилых людей в связи с эпидемией чумы в XIV в., большим количеством войн, а также неудовлетворительными санитарными и экономическими условиями, которые удерживали среднюю продолжительность жизни человека на уровне 26–28 лет, хотя иногда этот показатель варьировался и включал возрастные рамки с 17 до 35 лет (Russel, 1948). По данным Г. Ашади, на территории Европы в период Средневековья только 6 % людей достигало возраста 60 лет, что считалось редкими случаями долгожительства (Acsádi, Nemeskéri, 1970).
Как отмечает А. Арьес, старшее поколение в средневековом обществе выполняло определенную функцию, характеризующую их социально-экономическое положение. Это был возраст домоседства, чтения книг и молитв, а также отречения от дел (Арьес, 1999: 316).
Также имели место редкие случаи геронтоцида, что можно признать пережитками прошлого, поскольку зафиксированы исторические факты о попытках пресечения в обществе подобной практики. Так, А.А. Котляровский, описывая традиции умерщвления стариков, упоминает спасение одного из них старейшиной Левин фон Шулеберг от группы вендов, желающих его убить (Котляревский, 1874). Несмотря на сохранившуюся практику, большинство развитых стран оценивали геронтоцид как негуманную форму общественных отношений.
В Новое время появляется больше информации о динамике населения в связи с зарождением демографической науки. Уже в XVII в. функционировали первые таблицы смертности Дж. Граунта (1660-е гг.) и Э. Галлея (1687–1691), который рассчитал показатель дожития до 60 лет – 24,2 %. В XVIII в. его значения во Франции, Голландии и Швеции поднялись до 30 %, а в XIX в. в развитых странах – до 35–40 % (Россет, 1968). В начале XX в. во Франции, Швеции и Ирландии увеличилась доля населения старше 60 лет, которая стала превышать 10 % (Барсуков, Калачикова, 2020: 47).
Вместе с трансформацией возрастной структуры общества менялся и социально-экономический статус пожилого человека, он стал более нейтральным – произошел переход от «уважаемого старца» к «человеку в возрасте» или «хорошо сохранившимся женщине или мужчине» (Арьес, 1999: 416).
Таким образом, в Новое время феномен старости стал рассматриваться через призму демографических, экономических и культурных изменений, позволяющих воспринимать его как социальное явление.
Несмотря на произошедшие изменения и в восприятии пожилых людей, и в трансформации их статуса, в литературе встречаются упоминания о все тех же практиках геронтоцида и в Новое время, характерных для неразвитых стран. Так, в записках путешественника Д.Н. Бухарова обнаруживается описание обычая кочевников лопарей (саамов), которые, прежде чем оставить больного или пожилого человека на произвол судьбы, сооружали для него шалаш и оставляли немного питья и еды1, что могло создавать иллюзию возможности сохранения жизни.
Особенностью завершения исторической эпохи Нового времени в так называемых развитых странах (Швеция, Англия, Германия) является регулярное проведение переписи населения, которое позволяло контролировать изменение возрастной структуры общества и отвечать на вызовы времени.
Заключение . В прошлом отношение к пожилым людям сильно менялось: от прямого их уничтожения (геронтоцида) до признания старости как ценной и полноценной стадии жизни, обладающей собственным потенциалом и ресурсами. Сегодня же перед нами стоят новые трудности: возрастающая доля пожилых людей в населении создает дополнительную нагрузку на экономику, а изменения на рынке труда требуют адаптации. Поэтому нужно постоянно совершенствовать социальные программы поддержки пожилого населения и проводить более глубокие исследования в этой сфере, чтобы эффективно решать возникающие проблемы, касающиеся финансового обеспечения пенсионеров, их доступа к медицинской помощи, социальной интеграции и возможности участия в общественной жизни. В целом, необходим комплексный подход к проблеме, учитывающий все нюансы демографических изменений и их влияния на сферы жизни общества.