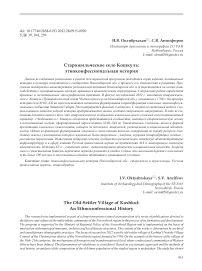Старожильческое село Кошкуль: этноконфессиональная история
Автор: Октябрьская И.В., Анцифиров С.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.
Бесплатный доступ
Данное исследование реализовано в рамках долговременной программы подготовки серии изданий, посвященных истории и культуре полиэтничного сообщества Новосибирской обл. в процессе его становления и развития. Программа поддержана министерством региональной политики Новосибирской обл. и осуществляется на основе взаимодействия с муниципальными музеями, архивами и краеведческими структурами. Содержание работ определяют архивные и экспедиционные этнографические практики. В фокусе исследований 2022 г. находится старожильческое с. Кошкуль (Троицкий сельский совет Чистоозерного р-на Новосибирской обл.), основанное в 1700 г. На примере истории селаXVIII-XXI вв. прослеживаются механизмы формирования и трансформации локальных этноконфессиональных сообществ Западной Сибири. Рассматривается феномен «чалдонов». С опорой на системный подход, с использованием методов устной истории предпринимается анализ состава старожилов микрорайона. В ходе исследования делается вывод о том, что старожильческое сообщество изначально имело сложный многокомпонентный характер. «Чалдонами» в с. Кошкуль обозначали представителей сообщества, имеющего старожильческую основу и полиэтничный состав, сформированный переселениями XVIII-XIX вв. Квазиэтноним «чалдоны» являлся формой презентации локального самосознания, которое не исключало этнической, региональной и национальной идентичности. Одним из факторов формирования локального самосознания являлась конкуренция по поводу ресурсов (свободных земель), участниками которого изначально были старожилы - чалдоны, кержаки (старообрядцы), позднее -российские переселенцы. Интеграция сибирских сельских сообществ в региональную, имперскую административную инфраструктуру и в сферу влияния Русской православной церкви на протяжении XIX в. нивелировало локальную идентичность. История ХХ в. - советская эпоха - актуализировала этнические и национальные ценности. За время своего существования Кошкуль переживал периоды расцвета и упадка. Сейчас это маленькая деревня с населением чуть более 100 человек и многовековым опытом адаптации к меняющимся условиям.
Этноконфессиональная история новосибирской обл, старожилы и переселенцы, русская православная церковь, старообрядцы
Короткий адрес: https://sciup.org/145146382
IDR: 145146382 | УДК: 39, | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0915-0920
Текст научной статьи Старожильческое село Кошкуль: этноконфессиональная история
В современной российской гуманитарной науке в особое направление выделяются региональные исследования. Данная работа выполнена в рамках программы изучения этноконфессио-нальной истории Новосибирской обл. Ее цель – воссоздать судьбу с. Кошкуль (Троицкий сельский совет Чистоозерного р-на Новосибирской обл.), выявив особенности самоопределения сибиряков-старожилов. Работа опирается на полевые изыскания авторов с использованием методов устной (повседневной) истории.
В ходе исследования удалось установить, что деревня Кошкуль возникла на берегу одноименного озера в 1700 г. и стала четвертой по старшинству после поселений Юдино, Канавы и Редкого. По преданию, они были основаны в конце XVII в. ссыльными казаками на землях, входивших в зону расселения барабинских татар. Полагают, что сюда были высланы из России участники первого стрелецкого восстания 1682 г. [Вялкова, 2017].
Издавна земли вокруг оз. Кошкуль были пригодны для животноводства, которое дополняли огородничество, охота и рыбалка. Когда-то в этих местах появились русские казаки: «Был такой первопроходец – казак Кошка, к нему-то и стали подселяться остальные» (ПМА, 2022). С именем казака Кошки народная традиция связала название озера – вслед за гидронимом «присвоив» право на территорию. Существовали и другие истории, обыгрывающие название деревни. По одной из версий, в обозначении озера и поселения было использовано слово «кош», широко известное в южнорусских землях. Вероятно, восходящее к тюркской первооснове, в казачьей русской среде оно обозначало «общину, стан, поселение, угодья, пастбища» и проч. Перенос слова на сибирский ландшафт, вероятно, был частью стратегии адаптации пришлого населения к пространству, маркированному тюркскими гидронимами. В ходе освоения происходила реинтерпретация иноэничной карты. Местные жители переводили название озера «Кошкуль» как «Овечье озеро», имея ввиду овечьи пастбища. В аутентичной татарской (тюркской) версии оно означало 916
«Птичье». Именно эта версия утвердилась, когда к 300-летию деревни был изготовлен юбилейный стенд. На нем значилось: Кошкуль («Птичье (Куш) озеро (куль)») 1700 г. основания (ПМА, 2022).
На рубеже XVII–XVIII вв. первопоселенцы Кошкуля осваивали ресурсы неизведанного края. Со временем линия домов, которую теперь называют «Старый Кошкуль», протянулась по краю озера, обогнув его дугой. Когда-то за ней располагалась еще одна улица; но следы ее поросли травой и память о былой застройке стерлась. Со временем на южном конце деревни, почти в полутора километрах от нее возник отдельный выселок – «Новый Кошкуль». Сохранилось предание, по которому Новый Кошкуль был основан сыном крепкого крестьянина, пожелавшим жениться на батрачке. В благословение от разгневанного отца он получил лишь топор. Этим топором стал рубить избу из дуба и в его дупле нашел клад, которого хватило на дом, работников, на скот и прочее обзаведение. К нему стали подселяться другие жители – «Вот и получилось, что в Старом Кошкуле – чалдоны, а в Новом Кошкуле – богачи» (ПМА, 2022).
В легендарной истории Кошкуля реальность корректировалась фольклорными мотивами. Документов, подтверждающих древность села, по мнению местных краеведов, не сохранилось. Возможно, это было связано с тем, что поселение неоднократно меняло административную при-надлежно сть. Известно, что во второй половине XIX в. деревня (с постройкой церкви в 1881– 1887 гг. – село) входила в Юдинскую вол., которая до 1876 г. относилась к Омскому, а с 1876 – к Тю-калинскому окр. Тобольской губ.; с 1887 г. – к Каинскому окр. Томской губ.
В 1887 г. Юдинская вол. насчитывала 49 деревень и 16 523 душ обоего пола. В 1895 г. в ее пределах переселенцами из Харьковской и Курской губ. была основана д. Троицк/Троицкое. С 1896 г. (в период массовых переселений) волость была разделена на две. Собственно, в Юдинской осталось Кошкульское сельское общество. В 1918 г. был организован Татарский у. Омской губ., куда вошла
Юдинская вол. В 1921 г. в составе уже Каинского у. она была переведена во вновь созданную Новониколаевскую губ. В 1923 г. административный центр Юдинской вол. был переведен в пос. Чистоозерное. Преобразования продолжались с созданием Сибирского края, затем в 1937 г. – Новосибирской обл.
Архив Юдинской вол., к которой долгое время относилась деревня/село, был, по рассказам старожилов, вывезен в г. Омск в 1920-е гг. Он занял «примерно два десятка саней». Грузившие архив мальчишки (ставшие к моменту рассказа стариками), якобы, своими глазами видели грамоты за подписью Петра I и другие бумаги, в которых за местными жителями закреплялись земля, право рыбной ловли и торговли. В дальнейшем следы этого архива, как полагают, затерялись (ПМА, 2022).
В результате часть событий из истории Кошкуля восстанавливается лишь на материалах устной традиции. Местные жители рассказывают, что первопоселенцами в здешних местах были казаки – выходцы с Дона. Это отразилось в их самоназвании: «Мы – чалдоны, а через поле в Троицком – хохлы». В объяснении этого имени жители Кошкуля предлагают разные версии: «челдон – человек с Дона», «чалдоны – люди с Чала и Дона» (ПМА, 2022).
В Западной Сибири были известны и другие «народные этимологии» этого имени: чалдоны/ челдоны пили много чая; приехали на чалых лошадях; плыли на челнах/чалах/чалдонках; говорили, «чёкая» и т.д. При расхождениях во взглядах сибиряков на происхождение квазиэтнонима «чалдоны» им обозначали «старинных людей». Однако некоторые сельчане – из тех, кто называл себя чалдонами, – приехали в Кошкуль уже в начале ХХ в. В документах они значились украинцами, что не мешало им называть себя «чалдонами»: «Старики говорили, что здесь мы чалдоны больше любим чай, а там, в Троицком – хохлы, они любят борщ» (ПМА, 2022). Для специалистов этимология слова «чалдоны» до настоящего времени оставалась неясной. Ее обсуждали с конца XIX в.: не исключали связи с гидронимами или топонимами; рассматривали монгольские и калмыцкие параллели (оценивали их как случайные); обсуждали исторические сюжеты и т. д. [Аникин, 2000; Бардина, 1995; Бережнова, 2008; Фурсова, 2002; и др.].
В развитии дискурса о чалдонах-старожилах заслуживают внимания исследования, посвященные отдельным группам населения Сибири XVI– XVII вв., среди которых выделяли челядников (от др. русс. «челядь» – рабы, слуги, домочадцы и проч.) – тех, кто находился в услужении и сопровождал местную знать. Согласно царским указам, на службу в сибирские города начала XVII в., кроме прочего, отправляли литву и шляхту, кото- рых на местах верстали в дети боярские. С ними были челядники и гайдуки – их велено было верстать в конные казаки. Челядников еще в 1660-е гг. как особую группу упоминали в окладных книгах Енисейска, Томска, Мангазеи [Соколовский, 2000; Бережнова, 2008].
В XVIII в. после петровских реформ структура сибирского общества менялась; вслед за этим менялись таксоны, обозначающие его социальные страты. Исследователи полагают, что со временем слово «челядник» могло трансформироваться. Единичное существительное от «челеди» (один из них), по мнению М.Л. Бережновой, могло звучать как челедoн – челдон/чалдон. Постепенно слово обрастало дополнительными смыслами, подчеркивающими обособленность чалдонов. Так стали называть старожилов Сибири [Бережнова, 2008].
Безусловно, эта версия (как и другие) имеет гипотетический характер. Но на материалах истории с. Кошкуль именно она представляет наибольший интерес. Здесь к чалдонам себя относят первопоселенцы Куликовские – возможно, выходцы из польско-литовской служилой знати. Подтверждением является история, которая передается в семье из поколения в поколение: «Дед Матей имел три сына, – рассказывает Ф.П. Куликовская. – Один сын правил в Молдавии, другой в Восточной Польше, в Литве и Латвии имел земли; а третьего сына дед отправил к русскому царю. И русский царь за непослушание сослал то ли самого этого сына, то ли уже его сына в Сибирь. В Кошкуле ему понравилось, тут он и остался. Жена у него была полячка, от нее было десять детей – пять выжило. Она умерла, и тут в Сибири Куликовский взял сибирячку, от той тоже было десять детей. И мы все знаем, что у нас две ветви – одна от польской жены, а другая – от русской. Я от русской ветви. И мы всегда знали про свой род, но при советской власти это не слишком удобно было». Подтверждением этой легендарной истории является родовой герб, якобы, присланный семье из Польши (ПМА, 2022).
Известно, что с чалдонами в Кошкуле соседствовали кержаки. Специалисты считают, что этот этноконфессиональный таксон возник от названия р. Керженец (левый приток Волги), где было много староообрядческих скитов. Кержаками старообрядцев называли на Русском Севере, в Поволжье, на Урале и в Сибири. Вероятно, в Кошкуле когда-то проживали старообрядцы поморского согласия.
По рассказам стариков, за улицей Старого Кош-куля в давние времена тянулась цепочка заброшенных кержацких кладбищ. В настоящее время известен лишь один из таких участков – на северной оконечности села. Старожилы помнят, что еще в 1970-е гг. там отчетливо были видны несколько могил, которые опахивали при сельхозработах; другие оказались под огородами. «Деревенские мальчишки, играя по окраинам, натыкались на черепа и приносили их домой. Мама увидела на колу череп и как закричит: “Быстро унесите и положите где взяли!” А те оправдывались тем, что черепа-то кержацкие; не осознавали, что это их собственные предки» (ПМА, 2022).
Можно предположить, что кержаки первыми пришли в окрестности Кошкуля; с появлением казаков составили обособленную часть поселения; а позже переселились на новое место – в 1851 г. недалеко от Кошкуля появилась д. Заячья, до начала ХХ в. известная как поселение старообрядцев – поморов. Оба эти селения входила в Кошкульское сельское общество Юдинской вол.
Будучи едины на административном уровне, в повседневных практиках чалдоны и кержаки существовали обособлено. И сегодня жители Кошку-ля, уже не вкладывая в слово «кержак» конфессиональные смыслы, используют его для обозначения скаредного человека, живущего особняком. Чалдонами они обозначают представителей местного локального сообщества, имеющего старожильческую основу и полиэтничный состав, сформированный переселениями XVIII–XIX вв. (ПМА, 2022).
Известно, что до 1880-х гг. в Кошкуле не было церкви. И это, вероятно, соответствовало старообрядческим и, отчасти, казачьим традициям, в которых общинная жизнь и богослужебные практики могли реализоваться вне храмов. Во второй половине XIX в. (в пореформенный период) с появлением переселенцев религиозная жизнь в Кошку-ле и окрестностях активизировалась. В 1881 г. здесь началась постройка православного храма. Он был заложен на возвышенности между Старым и Новым Кошкулем. В 1887 г. церковь во имя Казанской иконы Божьей матери была освящена. Ее описание, как и описание села, сохранилось благодаря трудам священника И. Голошубина. В справке, подготовленной для Омской епархии Русской православной церкви в 1914 г., он привел сведения о с. Кошкуль-ском Томской губ. Каинского у. Юдинской вол., расположенном в 281 верстах от епархиального центра в г. Омске и в 25 верстах от волостного правления. Однопрестольная деревянная на каменном фундаменте церковь (с колокольней) была построена в нем усердием прихожан. К содержанию храма они относились заботливо. Особо чтимых икон в нем не было [Справочная книга, 1914, c. 498–500]. Приход объединял 7 селений; его население составляло 2 279 душ мужского пола и 2 317 душ женского пола и из них: в Кошкульском – 970 душ общего пола; в деревнях Заячьей (в 8 верстах) – 228 душ общего пола и в Троицкой (в 4 верстах) – 1 132 душ общего 918
пола и т.д. Население в основном относилось к старожилам; в Троицкой жили переселенцы из разных губерний России. Старообрядцы поморской секты были известны в 3 деревнях (включая Заячью) в количестве 280 чел. [Там же].
Зажиточные крестьяне Кошкуля сеяли хлеб от 20 до 40 дес., бедняки – от 1–5 дес. Молочное хозяйство велось удовлетворительно. Ярмарок в селе не было. В д. Заячьей имелись два кирпичных завода и две лавки. В Кошкуле – три мелочных лавки и казенная винная. За медицинской помощью прихожане обращались в Юдинское. В селе находилось министерское училище; в нем ежегодно обучали до 30 мальчиков и 10 девочек. По приходу в среднем за год совершали: 347 крещений, 73 брака и 193 погребения. Пасхальное хождение с иконами бывало в Кошкуле практически по всем домам. Крестные ходы на полях с молебнами проходили повсеместно. Съезжие праздники отмечали: в Троицкой – 8 ноября, в Кошкульском – 1 января, в Заячьей – 2 февраля и т.д. [Там же].
Информацию И. Голошубина подтверждают данные переписи 1916 г., согласно которым, Кош-куль состоял из 194 дворов и имел 920 чел. населения. Существенное влияние на его структуру оказало переселенческое движение в Сибири, усилившееся в 1890-е гг. с постройкой железной дороги. Накануне политических перемен Кошкуль был значительным по численности, многонародным и социально стратифицированным поселением.
События революции и гражданской войны изменили привычный ход бытия. Окрестности Кош-куля стали зоной противостояния Красной армии и колчаковских частей. После установления Советской власти крестьянская жизнь в Кошкуле возвращалась в прежнее русло. По переписи 1926 г. здесь имелось 207 хозяйств и проживало 975 чел. В селе работали школа, маслозавод и торговая лавка; действовала ферма, основанная в 1924 г. в составе 30 хозяйств с населением в 90 чел.
Во времена коллективизации в этих ме стах были созданы два хозяйства – Новокошкульский колхоз «Веселое поле», в котором развивали овцеводство, и Старокошкульская с/х артель «Великий Октябрь», где разводили крупный рогатый скот. В 1930 г. был образован Троицкий сельский совет. В 1940 г. в него включили Кошкульский сельский совет с деревнями Старый и Новый Кошкуль*.
В 1920–1930-е гг. проводилась активная советизация сибирской деревни. Но несмотря на социальные и культурные перемены до 1941 г. в Кошкуле сохранялась церковь, и жители пытались восстановить ее деятельность. В 1938 г. местный церковный староста М.М. Беляев написал письмо Председателю Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинину с требованием вернуть храм, превращенный в склад для зерна, и исправить все разрушения. Переписка продолжилась на уровне Новосибирского областного и районного партийного и советского руководства. В итоге инициатор протеста не пострадал (М.М. Беляев дожил до глубокой старости); но и церковь не была спасена (ГАНО, ф. Р-1418, оп. 1, д. 2). Ее разрушили в 1941 г. с началом войны. «Помню хорошо, как церковь ломали, – рассказывала Ф.П. Куликовская (1933 г.р.). – Нас не спрашивали. Пришли машины из райцентра. Ломали деревянные стены, грузили на машины и сразу же увозили в район, или еще куда. Дядя Тузов пришел с фронта на костылях, ему выдали те иконы, которые на материи были написаны, он их взял, отнес домой, там тетя Лена их вываривала, чтобы краска с них сошла и делала из них портки ребятишкам – девять детей у них было» (ПМА, 2022).
В 1930–1940-е гг. сибирская деревня, как и вся страна, переживала тяжелые времена. Похозяй-ственные книги с. Кошкуль 1940–1943 гг. (сохранившиеся в местном архиве) зафиксировали значительные потери, связанные с репрессиями и мобилизацией. В них были указаны 126 хозяйств и 461 жителей в Старом Кошкуле. Сократилось население Нового Кошкуля. Многие были арестованы, или переселены. К 1943 г. из Старого Кошкуля выбыло до четверти зарегистрированных хозяйств. К 1945 г. на фронтах Великой Отечественной войны погибли более 100 сельчан. Их фамилии скорбным списком были запечатлены на Монументе Памяти в районном центре Чистоозерное: Гостевы, Беляевы, Чардынцевы, Куликовские, Тихомандриц-кий и др. (ПМА, 2022).
Накануне и в годы войны существенно изменился национальный состав села: из 461 чел. русских было 385, немцев – 39, украинцев – 37. По воспоминаниям стариков, здесь также проживала семья Имагава – из сахалинских японцев. Как рассказала Л.И. Гостева (1952 г.р.): «Всяких наций было много. Куликовские – поляки, они хоть и писались как русские, но мы все знали, что поляки, что выслали их сюда из Польши еще при царе. Дмитриевы – эстонцы, Гостевы – русские сибиряки, Райские и Бойкины – украинцы, Куцы тоже приехали с Украины, но уже позже в 1939-м. А вот Савельевы – те казаки. Еще были татары – шесть семей жило татарских. Но это уже попозже. Дружно жили очень. Когда наши соседи Кулагины в середине 1960-х уезжали на Кубань, мы все рыдали. И до сих пор с ними общаемся» (ПМА, 2022).
Общие беды, как и общие радости, сближали людей. Хотя представления о различиях сохранялись, окказионально принимая характер противостояния, которое актуализировало когда-то значимое разделение на старожилов и переселенцев, на чалдонов и «рассейских». «Дружно жили в самом селе, – объяснял ситуацию С.И. Клюкович (1964 г.р.), – а между селами драки были, что ты! Я из Ново-Песчаного, а жену здесь взял (в Кошку-ле – Авт. ). Вот она стоит – так я за нее и под нож ходил, и под топор, и не одно ребро у меня сломано, и прозвище-погоняло у меня самое первое было «Лом», потому что мне ломом зуб выбили. На машинах собирались – это 1976–1978 гг. Помню, дрались – так, что стенка на стенку на берегу озера. А кто побеждал? В конце побеждала всегда бутылка. И все-таки знали совесть в драке, если упадешь, пинать тебя никто не будет» (ПМА, 2022).
И хотя рецидивы социальной архаики периодически случались в с. Кошкуль на протяжении 1950–1970-х гг., оно развивалась, как и все сельские сообщества, по законам плановой экономики, ориентируясь на социалистические ценности советского государства. В 1950 г. хозяйства «Веселое поле» и «Великий Октябрь» объединились в колхоз им. Н.С. Хрущева, который позже был переименован в «Рассвет». В 1958 г. он вошел в колхоз им. С.М. Кирова, который существовал на протяжении многих десятилетий и, пережив сложные 1990-е гг., к настоящему времени превратился в ЗАО «Троицкое».
С 2000-х гг. началось возрождение традиций; но церковь в Кошкуле так и не была восстановлена. Хотя практически в каждом доме хранились иконы; и многие молились – кто ежедневно, а кто при случае; но никто не сожалел об отсутствии церкви. В других же селах Чистоозерного р-на храмы были восстановлены, или построены заново в 1990– 2000-е гг. (ПМА, 2022).
Сегодня в Cтаром и Новом Кошкуле насчитывается уже совсем немного домов и 119 жителей. Сокращается население окрестных мест. В связи с этим в 2006 г. была упразднена д. Заячья. В Троицком сельсовете теперь числятся 3 по с еления и 461 чел. Но за плечами этого сообщества более 300 лет существования, огромный опыт адаптации и межкультурных взаимодействий.
Исследование проведено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0001 «Этнокультурное многообразие и социальные процессы Сибири и Дальнего Востока XVII–XXI в.».
Список литературы Старожильческое село Кошкуль: этноконфессиональная история
- Аникин А.Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. - М., Новосибирск: Наука, 2000. - 772 с.
- Бардина П.Е. Быт русских сибиряков Томского края. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1995. - 224 с.
- Бережнова М. Л. Вот повести минувших лет, или откуда пошли челдоны в земле сибирской. 2008 г - URL: http://ethnography.omsu.ru/page.php?id=1077 (дата обращения 30.09.2022).
- Вялкова О. История деревень Чистоозерки // Народная летопись Новосибирской области. 2017 г. - URL: http://www.letopisi54.ru/letopis/detail.php?ID=1039 (дата обращения 30.09.2022).
- Соколовский И.Р. Некоторые источники формирования и численность "литвы" в Сибири XVII в. // Белорусы в Сибири. - Новосибирск: [б. и.], 2000. - Вып. 2. -С. 16-53.
- Справочная книга Омской епархии. - Омск: Иртыш, 1914. - 1248 с.
- Фурсова Е.Ф. Календарные обыЧаи и обряды востоЧнославянских народов Новосибирской области как результат межэтниЧеского взаимодействия (конец XIX-XX вв.). - Новосибирск: Агро, 2002. -Ч. 1. - 288 с.