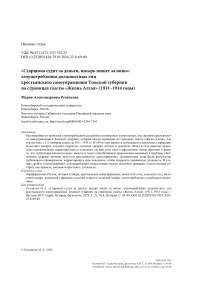"Старшина судит за деньги, писарь пишет за вино": злоупотребления должностных лиц крестьянского самоуправления Томской губернии на страницах газеты "Жизнь Алтая" (1911-1914 годы)
Автор: Резникова М.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема злоупотреблений служебным положением должностных лиц органов крестьянского самоуправления в Томской губернии, которые нашли отражение на страницах газеты «Жизнь Алтая». Автор изучила 1 111 номеров газеты за 1911-1914 гг. В 109 из них имеются публикации о волостных старшинах, волостных писарях, сельских старостах, сельских писарях, сотских и десятских. Всего в пяти заметках приведены положительные характеристики, в остальных случаях речь идет о нарушениях. Автор приходит к выводу, что публикация обличительных заметок в газете способствовала привлечению внимания к проблеме обеспечения кадрами органов местного крестьянского самоуправления. Должностные лица были вынуждены публиковать опровержения, корректировать свое поведение, чтобы сохранить занимаемую должность. В случаях грубых и неоднократных злоупотреблений, вышестоящие власти назначали проверки, по результатам которых, как правило, увольняли крестьян с должности.
Пореформенная Россия, история сибири, крестьянское самоуправление, волостной сход, сельский сход, волостной писарь, волостной старшина, сельский староста, сельский писарь, злоупотребление служебным положением
Короткий адрес: https://sciup.org/147245831
IDR: 147245831 | УДК: 94(571):323.325+342.25 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-8-69-80
Текст научной статьи "Старшина судит за деньги, писарь пишет за вино": злоупотребления должностных лиц крестьянского самоуправления Томской губернии на страницах газеты "Жизнь Алтая" (1911-1914 годы)
История крестьянского самоуправления в Российской империи привлекала внимание исследователей на протяжении не одного столетия. Фокус исследований менялся в разные периоды от изучения экономических, социальных функций общины до ментальности крестьянства. В последние десятилетия всё чаще историки ставят вопрос о социальном облике того или иного должностного лица и его влиянии на деятельность вверенного учреждения.
В исследованиях органов местного крестьянского самоуправления советского и постсоветского периода подробно рассмотрен функционал волостных старшин и писарей, в меньшей степени – сельских старост. Начиная с 2010-х гг. интерес исследователей к должностным лицам волостного и сельского крестьянского самоуправления усилился. Детально рассмотрены правовые аспекты их деятельности. Часто историки опираются на законодательные акты и в меньшей степени используют делопроизводственную документацию и этнографические исследования XIX – начала XX в. На основе анализа прав и обязанностей волостных старшин, сельских старост, волостных и сельских писарей, волостных судей, сборщиков податей и других выборных должностных лиц, большинство из них приходят к выводу, что, несмотря на четкую регламентацию их деятельности, не всегда состав сельской администрации соответствовал предъявляемым требованиям [Бурлова, 2010; 2011; За-любовская, 2012; Попов, 2014; Никитина, 2014; 2015; Гермизеева, 2019; Кривченков, 2022].
При этом некоторые авторы отмечают, что крестьяне не хотели избираться на должности, так как это было невыгодно [Александров, 2019] или они воспринимались в крестьянской среде в качестве «начальства» [Бурлова, 2010; Никитина, 2015]. Отдельного внимания исследователей заслуживает должность писаря, прежде всего волостного [Ремнев, Суворова, 2005; Никитина, 2014; Резникова, 2021; Попп, 2022]. Авторы сходятся во мнении, что волостные писари были профессионалами, но негативные личные качества не позволяли им вписаться ни в корпорацию чиновников, ни в среду крестьян.
Что касается различных злоупотреблений со стороны сельских и волостных должностных лиц, то они так или иначе упоминаются в публикациях, посвященных их деятельности и в целом функционированию системы местного самоуправления. Исследователи, как правило, обращаются к статистическим, этнографическим материалам и мемуарам, и лишь единицы используют периодическую печать в качестве источника для характеристики правонарушений [Почеревин, 2013; Попп, 2023]. Но обращение к газете «Жизнь Алтая» показывает, насколько ценны сведения, которые в ней содержатся. Ведь в ней публиковались не только короткие заметки о нарушениях должностных лиц крестьянского самоуправления, но и целые журналистские расследования. Действующие лица публиковали опровержения и вступали в дискуссию. Стоит отметить, что по публикациям заметок в газете сложно оценить степень достоверности содержащихся в них сведений. Однако реакция официальных органов на подобного рода публикации и следующие за ними проверки должностных лиц свидетельствуют о том, что корреспонденты «Жизни Алтая» были достаточно объективны в своих оценках.
Газета «Жизнь Алтая» не раз использовалась в качестве источника по изучению различных аспектов истории г. Барнаула и Томской губернии: функционирования воспитательных, образовательных и культурных учреждений, благотворительных организаций, развитию коммерческих учреждений и кампаний [Тишкина, 2013; Мананникова, 2018]. В качестве иллюстрации деятельности органов крестьянского самоуправления данную газету использовал уже упоминавшийся Е. В. Почеревин [2013]. Автором настоящей статьи осуществлена сплошная выборка заметок из газеты «Жизнь Алтая» за 1911–1914 гг., касающихся деятельности должностных лиц сельского самоуправления. Хронологические рамки обусловлены годом начала издания газеты и началом Первой мировой войны. Со второй половины 1914 г. содержание газеты претерпело некоторые изменения: в рубриках, в которых публиковалось большинство заметок о нарушениях и злоупотреблениях должностных лиц, теперь в основном встречались сведения о призрении солдатских жен, хлебозалогах и других вопросах жизнеобеспечения запасных нижних чинов и членов их семей.
Газета «Жизнь Алтая» – ежедневное периодическое издание, основанное предпринимателем, депутатом Государственной думы В. М. Вершининым. Являлась самым крупным и авторитетным изданием в Барнауле и на Алтае. Газета имела либерально-демократическую направленность и учитывала интересы различных слоев читателей. Редакция «Жизни Алтая» объявила о своем закрытии в конце 1917 г. из-за разногласий с властями. В 1918 г. предпринимались попытки возобновить издание, но после публикации нескольких номеров, издание прекратило свое существование окончательно.
Чаще всего зарисовки из жизни крестьянства публиковались в рубрике «По Сибири», реже в рубриках «Корреспонденции» и «Местная жизнь». Подсчитав количество заметок, в которых упоминается деятельность сельских и волостных писарей, сельских старост, сборщиков податей и др. (см. таблицу), мы увидели, что в 9–12 % номеров эта тема так или иначе затрагивалась. Из всей совокупности заметок (109) большинство касалось различных правонарушений (104), и лишь в пяти описывались ситуации, которые положительно характеризовали деятельность должностных лиц.
Количество публикаций о должностных лицах в газете «Жизнь Алтая» (1911–1914 гг.) The number of publications about officials in the newspaper “Altai Life” (1911–1914)
|
Год |
Количество номеров, шт. |
Упоминания о должностных лицах |
|
|
шт. |
% |
||
|
1911 |
287 |
29 |
10,10452962 |
|
1912 |
289 |
35 |
12,11072664 |
|
1913 |
287 |
23 |
8,013937282 |
|
1914 |
248 |
22 |
8,870967742 |
|
Всего |
1111 |
109 |
9,810981098 |
Таблица сост. по: (Жизнь Алтая, 1911, № 1–287; 1912, № 1–289; 1913, № 1– 287; 1914, № 1–248).
Как правило, авторы подписывали свои заметки. Из 109 заметок в 68 % (74 публикации) случаев автор так или иначе обозначал себя, в остальных 32 % (35 публикаций) авторы не указывались. Однако проследить принадлежность тех или иных очерков одному автору достаточно сложно. Чаще других встречаются заметки С. Современного из Змеиногорского уезда. Всего им было опубликовано семь заметок в 1912–1914 гг. Четыре заметки опубликованы Степным в 1914 г., по три заметки – Посторонним (1911–1912 гг.), Проезжим (1912 г.), по две заметки – C. Corbeau (1912 г.), Горемыкой (1912 г.), Дядей Митяем (1912 г.), Деревенским (1914 г.). В остальных случаях фамилии и псевдонимы не дублировались. Иногда указывалась формулировка «от наших корреспондентов» или автор не назывался вовсе. Часто встречаются следующие подписи: крестьянин, местный житель, обыватель. Мы не можем утверждать, что авторство принадлежит одному и тому же человеку, как и то, что один автор не мог подписывать свои очерки разными именами. Так, например, заметка о писарях, которые смогли себе построить дома, не уступающие купеческим, в с. Усть-Чарышская пристань, подписана корреспондентом Устином Чарышским (Жизнь Алтая, 1912, № 65, с. 3). Здесь мы видим, что псевдоним явно образован от названия села.
С. Современный, опубликовавший под своим авторством наибольшее число заметок в газете, освещал проблемы жителей Змеиногорского уезда. Основное его внимание было направлено на борьбу со злоупотреблениями волостного писаря Горшкова, более трех лет ведущего дела Колыванской волости. Первая его публикация в № 75 за 1912 г. повествует о ситуациях, которые вынудили крестьян четырех сел Колыванской волости выделиться в отдельную волость: стрелял в мужиков из револьвера, загоняя под телегу и заставляя на протяжении 20 верст по 10 раз запрягать и выпрягать лошадей; стрелял в доме бывшего сельского писаря Фарафонова; заставлял ямщика ездить в совершенно противоположные стороны, не давая передышки лошадям; сажал крестьян в каталажку и держал там до 15 суток, заставляя их работать на его усадьбе и не выдавая кормовых (после следствия он выдал многим эти кормовые задним числом). Также он присваивал себе 10 % со штрафов за самовольную порубку леса, которые полагались сельским писарям. Один из сельских писарей, посмевший оставлять эти деньги себе, был отстранен от должности (Жизнь Алтая, 1912, № 75, с. 3). О сборе процентов за различные услуги писарем Горшковым упоминалось на страницах газеты «Жизнь Алтая» еще в 1911 г. Автор заметки не указан, но, вполне вероятно, им мог оказаться С. Современный. В данном случае комиссия взималась за переводы денег переселенцам, которые проходили через волостное правление (Жизнь Алтая, 1911, № 238, с. 3). Не гнушались вымогательством денег за различные услуги и помощники воло- стного писаря Горшкова, которые также удостоились внимания корреспондентов газеты (Жизнь Алтая, 1911, № 245, с. 4; № 262, с. 5).
Не менее серьезное влияние Горшков имел и на волостной суд. Корреспондент отмечал, что заседания суда, как правило, сопровождались «гулянками». Но, по свидетельству местных жителей, судьи не брали ни капли спиртного в рот только в тех случаях, когда письмоводителем на заседаниях бывал писарь Колыванской волости Горшков. Однако в его присутствии судьи впадали в другую крайность: «они действительно сидят трезвые, но безмолвные, как манекены, не принимая участия в рассмотрении дел, их дело только подписать решения, составленные по единоличному усмотрению волостного писаря». Автор заключает, что именно поэтому суд и не пользовался здесь доверием населения (Жизнь Алтая, 1911, № 281, с. 3). Следует отметить, что все заметки о Горшкове и его помощниках, опубликованные в 1911 г., не имеют авторства, но по стилистике очень похожи на С. Современного.
Волостной писарь Горшков удостоился внимания не только С. Современного, но и других корреспондентов. В № 140 за 1912 г. опубликована заметка под названием «Сомнительное дело», посвящена она деятельности Колыванской маслодельной артели. Около полутора лет дела в артели шли хорошо, пока к делу не подключился волостной писарь Горшков. Вместе с доверенным артели Лужанским они начали вести «закулисную работу»: покупали здания, торговые предприятия, нанимали служащих и т. п. И всё это наперекор большинству артельщиков и членов совета. Один из членов совета подал заявление о выходе из числа уполномоченных, не желая быть пешкой в руках Лужанского и Горшкова. Какого же было его удивление, когда он получил бумагу, подписанную волостным старшиной и волостным писарем. «Только один Горшков и мог додуматься, что совет уполномоченных артели и колы-ванское волостное правление нечто единородное, целое и нераздельное», – резюмирует автор (Жизнь Алтая, 1912, с. 4).
Все эти нарушения и злоупотребления не остались без внимания властей. В заметке под названием «Вздохнули свободнее!» сообщалось об увольнении колыванского писаря Горшкова 8 мая 1912 г., чьи «фокусы» не прошли даром. В наследство его преемнику осталось 2 тыс. неисполненных бумаг, которыми почти месяц занимались писари трех соседних волостей с помощниками (Жизнь Алтая, 1912, № 140, с. 3).
Но и на этом история с волостным писарем Горшковым не закончилась. В 1913 г. С. Современный снова публикует корреспонденцию о нем. Из нее выясняется, что он был уволен по постановлению Томского губернатора, а после проведения в конце ноября 1912 г. учета всех волостных дел вскрылись многочисленные финансовые махинации. За 1909–1911 гг. сомнению подверглись расходы на сумму 2 555 руб. 47 коп. Многие внесенные в расход суммы не имели оправдательных документов; значились выдачи денег дважды по одному документу; имелись выплаты из волостных сумм по частному долгу; передачи контрактов не тому подрядчику, с которым изначально заключался договор; запись в приход цифрами меньших сумм, чем были указаны прописью и т. п. А в 1910 г. писарь исправил в волостном приговоре сумму своего жалования с 1 900 руб. на 2 000 руб., получив благодаря такому подлогу дополнительные 100 руб. (Жизнь Алтая, 1913, № 20, с. 3).
Завершив свою миссию по изобличению волостного писаря Горшкова, С. Современный занялся другими проблемными персонами Змеиногорского уезда. В № 137 за 1912 г. описывается ситуация с волокитой по вопросу заключения контракта на содержание лошадей. Корреспондент обвинял в этом сельских старосту и писаря, которые никак не могли приготовить нужные переписи и другие формальные бумаги, несмотря на то что одна треть от стоимости контракта уже была внесена крестьянами. «Недосужесть же нашего старосты заключается в том, что он каждый день с похмелья…» – заключает корреспондент (Жизнь Алтая, 1912, № 137, с. 3).
В другом номере С. Современный сетовал на то, что крестьяне вынуждены разбирать на сельском сходе разные незначительные нарушения и проступки, семейные разделы с участием «завсегдатаев-собутыльников, которые являются единственными судьями и вершите- лями сельских расправ». А всё это происходило, по его мнению, потому, что заседания волостных судов проходили не чаще четырех раз в год. Сельские и волостные должностные лица плохо исполняли свои обязанности, вследствие чего прошения разбирались очень долго (Жизнь Алтая, 1912, № 141, с. 3). А в с. Краснощековском Змеиногорского уезда крестьянин, избравшийся на должность старосты, начал сводить счеты с односельчанами за прошлые обиды. Он вламывался в дома в пьяном виде, угрожал тюрьмой, вымогал водку и выписывал постановления о заключении под стражу за нарушение тишины и спокойствия (Жизнь Алтая, 1912, № 142, с. 3).
Особого внимания С. Современного в 1914 г. удостоился сельский писарь с. Харловского Гурьев. Корреспондент заявил о «подвигах» Гурьева и призывал его опровергнуть их публично. В его заметке выделено девять основных пунктов: 1. Каждый год Гурьев получал прибавку к жалованию благодаря угощению крестьян водкой и заочному вписыванию их в протокол. 2. На сельских сходах крестьяне боялись высказывать возражения, так как за любое неосторожное слово следовала расплата – кутузка. 3. Принуждал сельских старост выписывать постановления об аресте на двое суток по три-четыре раза подряд, что позволяло держать крестьян в каталажке при волостном правлении по неделе и более. 4. Брал мзду с ямщиков, а тех, кто не платил, бесконечно гонял по разным поручениям. 5. При исполнении решений волостного суда действовал исключительно в своих интересах. 6. Ездил в соседнее село со своей сожительницей по личным делам. 7. Кричал и оскорблял крестьян, если те являлись с какой бы то ни было просьбой в неурочное время. 8. При проведении переписи по землеустройству по «закону» Гурьева крестьяне, находившиеся в отлучке, теряли право на надел земли. Но по его же «закону» это право получали обратно за определенную плату. 9. Волостной суд по делу о содержании крестьянки ее зажиточным сыном присудил тому выплачивать ей по три руб. в месяц. Но получить крестьянка ничего не могла, так как «писарь гонит ее в шею и говорит, что у сына нечего продать, а все бумаги и переписки исправляет по своему усмотрению…» (Жизнь Алтая, 1914, № 9, с. 3).
В данном случае мы видим, как С. Современный изменил свой подход к делу. Он уже не публиковал разрозненные заметки об одном писаре, а собрал сразу все известные ему случаи в одном очерке.
Уже в № 17 за тот же год под авторством С. Современного вышла заметка, в которой описывалась ситуация борьбы с эпидемией оспы в с. Харловском. Фельдшер, прибывший для проведения вакцинации крестьян, никак не мог приступить к исполнению своих обязанностей, так как все сельские власти были заняты проводами сельского писаря, покидавшего свой пост. Не совсем понятно, шла ли речь о ранее упоминавшемся Гурьеве или о ком-то другом, но больше заметок С. Современного о нем не было.
Следующим по частоте упоминаний в газете «Жизнь Алтая» за исследуемый период оказался волостной старшина Черемновской волости Барнаульского уезда Назар Васильевич Филиппов. Корреспондент C. Corbeau сообщал, что Филиппов вступил в должность в 1912 г. после службы в качестве сельского старосты с. Зиминского. По результатам своей службы получил от крестьянского начальника часы в награду за успешный сбор податей. Автор заметки сетовал, что жители с. Черемновского уже почувствовали на себе «крутые меры» по взысканию податей, которые применял старшина (Жизнь Алтая, 1912, № 63, с. 5).
Уже в следующей заметке за авторством того же корреспондента звучат более серьезные обвинения, хоть и не напрямую. Описывается волостной сход, состоявшийся в с. Черемнов-ском 1 августа 1912 г. В повестку входило три вопроса: 1. Выборы в Государственную Думу; 2. Выборы казначея взамен обвиненного в краже общественных денег казначея Жданова; 3. Избрание уполномоченных для взыскания денег с виновных. Первым вопросом сход не особо интересовался, кандидатов выбрали механически. А вот по второму вопросу разгорелась бурная дискуссия. Крестьяне были явно недовольны волостным старшиной. Кража денег из волости казалась им странной, так как почему-то они были оставлены прямо перед кражей казначею, а не заперты в ящике, ключ от которого имелся только у старшины. Кре- стьяне заявляли, что не будут избирать нового казначея, пока волостной старшина не внесет в кассу украденные деньги. Окончательно растерявшись, волостной старшина достал наградные часы как доказательство своих заслуг по службе, но присутствующие только высмеяли его за это действие. Посовещавшись, крестьяне решили всё же избрать казначея, так как «нельзя же изменить предписание начальника». От рассмотрения последнего вопроса сход отказался со следующей формулировкой: «Пусть сам старшина уплатит деньги, а мы их в расход не примем» (Жизнь Алтая, 1912, № 185, с. 5).
25 ноября на страницах газеты вновь выходит заметка с Филипповым в главной роли. Старожил с. Колыванского Черемновской волости припоминал старшине различные «промахи» по службе. Выяснилось также, почему Назар Филиппов так любил ездить к ним в село и по нескольку дней оставаться на земской квартире. В начале ноября 1912 г. разгулявшиеся новобранцы решили прихватить с собой даму «легкого поведения», которой не оказалось дома. А так как в деревне достаточно трудно что-либо скрыть, выяснилось, что эта дама находилась на земской квартире. Новобранцы выломали дверь и застигли волостного старшину врасплох. Он не растерялся, тут же подал жалобу крестьянскому начальнику и перенес земскую квартиру к другому хозяину, несмотря на то что она была сдана с общественных торгов. Автор надеялся, что на предстоящем волостном сходе, который должен был состояться 29 ноября 1912 г., будет поставлен вопрос об отстранении от должности «нравственного старшины» (Жизнь Алтая, 1912, № 263, с. 5).
Всеобщая огласка действий волостного старшины Филиппова принесла свои плоды. На очередном волостном сходе он был отстранен от должности. На сход явился полицейский урядник с сотскими и десятскими, благодаря чему сход был фактически сорван. Крестьяне всё-таки успели отстранить волостного старшину от должности, которого взялся защищать перед сходом урядник. В этот же день двое уполномоченных отправились к крестьянскому начальнику в Барнаул с приговором об увольнении старшины и разрешении избрать нового. После их возвращения 2 декабря 1912 г. был проведен новый сход, на который также пытался прорваться урядник со своим «легионом». На этот раз им не удалось этого сделать, и вся повестка была рассмотрена в обычном порядке (Жизнь Алтая, 1912, № 277, с. 3).
Бывали случаи, когда даже одна публикация в газете могла лишить крестьянина должности. Обыватель из с. Белоглазово Змеиногорского уезда в № 284 за 1912 г. описывает махинации местного сельского писаря А. С. Кожевникова. При внесении крестьянами податей он вписывал в книгу прихода меньшие суммы. Например, крестьянка Жабина внесла 10 руб., а в книгу было записано лишь 7 руб. И подобные случаи происходили и с другими неграмотными крестьянами, которые не могли указать на ошибку при внесении записей в книгу. Благодаря таким удачным махинациям у писаря появились выездные сани и лошадь, на которых писарь разъезжал со своей супругой по улицам села (Жизнь Алтая, 1912, № 284, с. 3). Публикация данной заметки произвела нужный эффект: волостные власти назначили ревизию дел сельского управления. Оказалось, что они велись небрежно и беспорядочно не только самим Кожевниковым, но и его предшественниками. В денежных книгах кроме частых исправлений встречались и пропуски сразу десятков номеров, в которых должны были быть вписаны денежные корешки и квитанции. В окладной книге у многих домохозяев не были проставлены оклады податей, в графе получения денег имелось много поправок. В расходных книгах часто не указывалось, на что были потрачены те или иные суммы. Результаты ревизии вынудили волостное правление взять сельского писаря Кожевникова под стражу. В дальнейшем он был отстранен от должности с переводом в другую деревню. Автор корреспонденции предполагал, что все эти нежелательные явления происходили вследствие того, что действия сельских писарей плохо контролировались. Согласно распоряжению крестьянского начальника, учет действий писарей должен был производиться два раза в месяц, но на практике он бывал не более трех раз в год. За время между проведением ревизий писари могли меняться, и тогда нарушения, которые допускал предшественник, оставались без последствий (Жизнь Алтая, 1913, № 24, с. 3).
Но не всегда за сериями публикаций в газете следовало увольнение неугодных должностных лиц. Корреспондент Степной, опубликовавший под этим именем четыре заметки в 1914 г., посвятил их все старшине Решетовской волости Барнаульского уезда. Серию публикаций открывает заметка о волостном сходе, прошедшем 8 декабря 1913 г., на котором избирались должностные лица на 1914 г. Обсуждался также и вопрос об увеличении жалования волостному писарю и волостному старшине. Решено было прибавить писарю 100 руб. в год, а старшину оставить на прежнем окладе. Решение схода сильно огорчило последнего. Реакция не заставила себя долго ждать. Волостной старшина Колесник начал вызывать и допрашивать выборных, чтобы выяснить, кто больше других требовал на сходе не увеличивать старшине жалование. Он заключил, что больше всех кричал бывший сельский староста Бугай. В тот же день на него был составлен акт об аресте на три дня при волостном правлении за нарушение тишины и спокойствия во время волостного схода. В нем также утверждалось, что Бугай кричал на старшину и плевал ему в лицо (Жизнь Алтая, 1914, № 15, с 4). А уже 4 февраля 1914 г. волостной старшина вместе с заведующим местной церковно-приходской школой священником отцом Иваном Балыковым пришли в школу во время утренней молитвы. Учителям они объяснили, что пришли допросить учеников о том, читал ли им учитель К. корреспонденцию о волостном старшине, опубликованную в № 15 «Жизни Алтая». Тот самый учитель в разговоре с заведующим отметил, что подобные допросы «не сообразуются с педагогическими взглядами» и могут подорвать авторитет учителя перед учениками. Старшину подобные доводы не убедили, и он начал задавать вопросы ученикам, не дождавшись окончания разговора. Выведенный из себя учитель вывел старшину из класса, за что впоследствии получил выговор от заведующего. Степной уточнил в своей заметке, что некоторые ученики действительно читали этот номер, так как учитель отдавал прочитанные газеты детям на обложки (Жизнь Алтая, 1914, № 34, с. 3).
Но помимо выговора от заведующего учитель получил в довесок преследование от волостного старшины. В начале марта 1914 г. в его семье случилось горе: жена родила мертвого ребенка. Волостной старшина утверждал, что погребение ребенка являлось незаконным, так как об этом не было заявлено священнику. 6 марта 1914 г. он решил устроить дознание по этому делу. В волостное правление были вызваны все бабушки, которые ухаживали за женой учителя во время родов, школьный сторож и некоторые другие крестьяне. Также старшина решил вызвать на допрос и жену учителя, которая еще «не поднималась с постели». Только благодаря вмешательству сотника и других крестьян, удалось убедить старшину оставить в покое больную женщину. В волостное правление был вызван и сам учитель, но он отказался идти на допрос. На следующий же день учитель был вызван в сельскую сборню, где ему вручили под расписку постановление волостного старшины об аресте на два дня при волости за ослушание (Жизнь Алтая, 1914, № 75, с. 4).
Мы не знаем, чем закончилась эта история противостояния волостного старшины и учителя. Если старшина и подвергся каким-либо взысканиям, то информация эта не была опубликована до конца 1914 г. При этом, как показывают предыдущие примеры, реакция в подобных случаях обычно была достаточно оперативной. Вероятно, волостной старшина продолжил службу, устанавливая свои порядки в селе.
Однако, отстранение от должности – не самое страшное последствие для должностных лиц сельского самоуправления. На страницах № 6 за 1913 г. сообщалось об убийстве крестьянина Червякова в с. Лешачьи Озера Барнаульского уезда. Он был застрелен из ружья в своем доме в ночь на 23 декабря 1912 г. Убийца успел скрыться. Предполагали, что убийство было связано со служебной деятельностью. В бытность свою кандидатом в старосты Червяков был очень строг и взыскателен, сажал в каталажку крестьян за неуплату податей, чем и нажил себе много врагов (Жизнь Алтая, 1913, № 6, с. 3). Этот случай, конечно, является скорее исключением из правил, но сам факт убийства говорит нам о том, что поведение должностных лиц могло побудить крестьян применять крайние меры для своей защиты.
Помимо уже упомянутых примеров на страницах «Жизни Алтая» размещены и другие свидетельства нарушений и злоупотреблений писарей, старшин и старост. Все они повествуют о самоуправстве, пьянстве, бездействии сельских и волостных властей. Не всегда в них указаны конкретные фамилия, а иногда авторы приводят примеры и вовсе без указания должностей, говоря о халатности «начальства».
Подводя итог, следует сказать, что в начале XX в. газета «Жизнь Алтая» стала своеобразной площадкой для решения актуальных проблем населения Томской губернии. Неравнодушные жители имели возможность во всеуслышание заявить о своих проблемах и рассчитывать на их решение. Иногда для этого требовалась всего одна публикация, а иногда корреспонденты на протяжении нескольких лет старались привлечь внимание к определенной персоне. Положительным итогом являлось увольнение того или иного лица с занимаемой должности. Не всегда авторам корреспонденций удавалось этого добиться. Но, вполне вероятно, многие крестьяне, занимавшие общественные должности, старались вести себя более сдержанно после публикаций обличительных заметок, чтобы сохранить свой авторитет и не привлекать внимание вышестоящих властей. Также мы не можем утверждать, что сельские и волостные писари, сельские старосты и волостные старшины, о злостных нарушениях которых когда-либо упоминалось на страницах «Жизни Алтая», были отстранены от должности после публикаций в газете. Но тех сведений, которые имеются в нашем распоряжении, достаточно, чтобы утверждать, что газета «Жизнь Алтая» являлась эффективным средством борьбы с произволом сельских и волостных властей.
Список литературы "Старшина судит за деньги, писарь пишет за вино": злоупотребления должностных лиц крестьянского самоуправления Томской губернии на страницах газеты "Жизнь Алтая" (1911-1914 годы)
- Александров Н. М. Сельские старосты в пореформенной России (права, обязанности, место в социуме) // Институт общинного самоуправления в социальной жизни многонационального крестьянства волго-уральского региона (XVIII в. – 20-е гг. XX в.): Материалы Всерос. науч. конф. Казань, 2019. С. 20–29.
- Бурлова Г. В. Сельский староста: полномочия и деятельность во второй половине XIX – начале XX в. (по материалам Тамбовской и Рязанской губерний) // Вестник Тамбов. гос. ун-та. 2010. № 5 (85). С. 81–86.
- Бурлова Г. В. Правовые аспекты деятельности волостных и сельских должностных лиц крестьянского самоуправления во второй половине XIX в. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 8 (14). С. 47–52.
- Гермизеева В. В. Должностные лица органов крестьянского самоуправления в Западной Сибири в конце XIX – начале XX в. // Омские социально-гуманитарные чтения – 2019: Материалы XII Междунар. науч.-практ. конф. Омск, 2019. С. 133–137.
- Залюбовская Т. А. Деятельность должностных лиц крестьянского самоуправления в Забайкальской области в конце XIX – начале XX века // Вестник Бурят. гос. сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова. 2012. № 2 (27). С. 115–121.
- Кривченков Г. В. Хотел ли смоленский крестьянин быть сельским старостой? (К вопросу о крестьянском самоуправлении в Смоленской губернии) // Изв. Смолен. гос. ун-та. 2022. № 1 (57). С. 150–163.
- Мананникова П. Е. Воспитательные, образовательные и культурные учреждения Алтайского округа по материалам газеты «Жизнь Алтая» // История, политология, социология, философия: теоретические и практические аспекты: Сб. ст. по материалам XV Между-нар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2018. С. 27–30.
- Никитина Н. П. Волостные писари в социальном пространстве псковской деревни второй половины XIX – начала XX в. // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал. 2014. № 41. С 42–49.
- Никитина Н. П. Волостные старшины в системе крестьянского самоуправления и социальном пространстве псковской деревни (вторая половина XIX – начало XX в.) // Органы государственной власти и местного самоуправления: традиции и современность (к 150-летию земской реформы в России): Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Псков, 2015. С. 138–147.
- Попов С. А. Должность писаря в структуре крестьянского самоуправления Вологодской губернии в конце XIX – начале XX века // Вестник Чуваш. гос. ун-та. 2014. № 1. С. 56–61.
- Попп И. А. Волостной писарь в судебной бюрократии: мифы и реальность пореформенной России // Quaestio Rossica. 2022. Т. 10, № 1. С. 185–203. DOI 10.15826/qr.2022.1.666
- Попп И. А. Повседневная судебная деятельность чусовских волостных судей Пермской губернии в середине 1880-х и начале 1890-х гг. // Вестник Оренбург. гос. пед. ун-та. Электронный научный журнал. 2023. № 3 (47). С. 228–244. URL: http://vestospu.ru/archive/ 2023/articles/15_47_2023.pdf. DOI 10.32516/2303-9922.2023.47.15
- Почеревин Е. В. Низовая административно-судебная система в Алтайском округе (конец XIX в. – 1917 г.). Бийск: АГАО, 2013. 285 с.
- Резникова (Гордеева) М. А. Социальный облик волостного писаря в Томской губернии (конец XIX – начало XX века) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21, № 1. С. 75–86. DOI 10.25205/1818-7919-2022-21-1-75-86
- Ремнев А. В., Суворова Н. Г. Волостной писарь: слуга двух господ или хозяин сибирской деревни // Азиатская Россия: люди и структуры империи. Омск, 2005. С. 282–311.
- Тишкина К. А. Газета «Жизнь Алтая» как источник по истории работы благотворительных организаций Барнаула в годы Первой мировой войны // Диалог культур и цивилизаций: Материалы XIV Всерос. с международным участием науч. конф. М., 2013. С. 151–153.