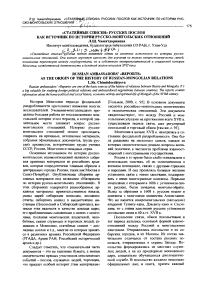«Статейные списки» русских послов как источник по истории русско-монгольских отношений
Автор: Чимитдоржиева Лариса Шираповна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2008 года.
Бесплатный доступ
«Статейные списки» русских послов являются одним из основных источников по истории русско-монгольских отношений. Они имеют огромную ценность для изучения не только внешнеполитических связей, посольских переговоров между государствами, но и собственно внутриполитической и социальной истории Монголии, хозяйственной деятельности и духовной жизни монголов XVII века.
Короткий адрес: https://sciup.org/148178417
IDR: 148178417
Текст краткого сообщения «Статейные списки» русских послов как источник по истории русско-монгольских отношений
Russian ambassadors' «Reports» ewe one of the basic sources of the history of relations between Russia and Mongolia. It’s a big valuable for studying foreign political relations and ambassadorial negotiations between countries. The reports contain information about the home-political and social history, economic activity and spiritual life of Mongols ofthe XVIIth century.
История Монголии периода феодальной раздробленности притягивает внимание многих исследователей. Учеными-монголоведами проделана большая работа по восстановлению монгольской истории этого периода, в которой значительное место занимает вопрос русско-монгольских отношений. Историю русско-монгольских отношений можно проследить, опираясь на архивные, летописные материалы, собрания официальных документов, труды русских архивистов, исторические труды ученых СССР, России, Монголии и западных стран.
Основным источником по истории русско-монгольских взаимоотношений являются собрания архивных материалов из российских архивов, которые сосредоточены главным образом в центральных городах России, таких как Москва и Санкт-Петербург. Опубликованы сборники архивных материалов под названием «Материалы по истории русско-монгольских отношений». В этих сборниках содержатся разнообразные архивные материалы: правительственные наказы, указы царей сибирским воеводам, послания-отчеты сибирских воевод в вышестоящие инстанции (Посольский и Сибирский приказы), выписки этих ведомств в качестве доклада царю, его приближенным сановникам о связях с монголами, послания монгольских владетелей, челобитные, сказки служилых и торговых людей, ездивших в Монголию, статейные списки - докладные послов и т.д., многие из которых хранятся в различных архивах Российской Федерации (РГАДА, Архив РАН, Российский исторический архив и др.).
Следует отметить, что «значительная часть документов - это не казенные бумаги, а живые свидетельства прямых участников описываемых событий - послов, служилых людей, торговцев, что придает особый колорит этим материалам»
[Гольман, 2000, с. 95]. В основном документы касаются российско-монгольских политических и экономических отношений. Эти документы свидетельствуют, что между Россией и монгольскими улусами на протяжении всего XVII в. существовали тесные связи, шел регулярный посольский и торговый обмен [там же, с. 95].
Монголия в начале XVII в. находилась в состоянии феодальной раздробленности. Она была разделена на несколько ханств, каждое из которых самостоятельно решало вопросы внешней политики, в частности проблемы взаимоотношений с иностранными государствами.
Россия в то время была слабо осведомлена о монгольских ханствах, об их экономическом и военном потенциале, связях с другими странами и народами. И она проявляла большое желание установить связи с этими ханствами, поддерживать с ними многогранные конгакты. Первыми монголами, с которыми в 1606 г. установили связи русские, были западные монголы-ойраты. Вслед за ойратами в 1608 г. русские вошли в контакты с монголами княжества Алтан-ханов. Что же касается северомонгольских (халхаских) владений Тушету-хана, Дзасакту-хана и Сэцэн-хана, то с этими ханствами русские установили посольские связи в 40-х гг. XVII в.
Посольские связи, обмен посольствами в тот период являлись основной формой взаимоотношений между Россией и монгольскими ханствами. Отправлялись посольства и из сибирских городов, и из Москвы. Их состав значительно отличался от состава русских посольств, отправляемых в страны Запада. Посольства формировались из местных служилых людей, а не из придворных московского царя, специально обучавшихся дипломатической службе. В посольство входило несколько официальных лиц и свита, причем каждый
176 член посольства имел определенное задание-поручение, На переговорах каждый из них должен был коснуться своего, специально порученного ему вопроса. В состав посольств, как правило, также входили толмачи-переводчики, знатоки монгольского и «татарского» (т.е. языка тюркских племен Сибири) языков. В роли переводчиков выступали как русские, так и представители коренных сибирских народов.
По окончании своей посольской миссии главы посольств составляли отчеты - «Статейные списки» - о поездке к монгольским правителям. «Статейные списки» - русских послов являются одним из основных источников по истории русско-монгольских отношений. В них русскими посланцами раскрываются содержание, ход и результаты посольских переговоров. Кроме того, статейные спи-, ски имеют огромную ценность для изучения не только внешнеполитических связей, но и собственно внутриполитической и социальной истории Монголии, хозяйственной деятельности и духовной жизни монголов XVII в.
Текст статейных списков обычно начинается одинаково - с указа государя об отправке ряда представителей, с перечислением их имен и должностей, в монгольские земли. Далее идет подробное описание маршрутов поездок, через какие земли проезжали посольства, имеются сведения о народах, проживавших в этих землях, перечисляются географические названия территорий, гор, рек, указывается время, затраченное на дорогу. Например, Василий Тюменец и его спутники, ездившие к Алтан-хану в 1916 г., «шли до Киргиз от Томсково города 3 недели, а были им в дороге поля и горы каменые, а реки все были... А шли оне ис Киргиз на Табынскую землю; а Табынская ; земля тое же Киргизские земли, только живут особе... Леса и горы в Киргизской земле камень!, велики. А шли оне де тое Табынские земли от Киргиз 8 ден сухим путем на лошадех... речки невеликие, бродовые... А шли оне ис Та-бинские земли до Саянские земли 7 ден. Горы каменые, а лежат на них снеги зимою и летом беспрестанно, и оболоко на тех горах лежат, и стужа на них живет во все лето. А от Алтына-царя Саянская земля за 10 ден» [Материалы по истории русско-монгольских отношений, 1959. С. 59-61]. Далее они шли до матов («Матцкие земли») 8 дней по равнине и достигли реки Кемчик, через 2 дня - реки Частые Броды («речки все каменные, невеликие, ключевые, вышли из гор»), «А из Мацкие земли пришли к Алтын-царю. А шли они от Мацкие земли Ал тын-царя землею до тех мест, где кочюет сам царь, 2 днища. А сам царь кочюет у озера, а имя озеру У сап» [там же, с. 59-61].
Следует отметить, что в посольских статейных списках одни и те же маршруты описаны по-разному: в одних только названы крупные реки, урочища и число дней проезда между ними, а в других подробно перечислены водные преграды, перевалы, пункты кочевий вплоть до небольших речек и урочищ с фамилиями родоначальников, князей и князьков.
Следовательно, сведения о путях, содержащиеся в посольских докладных - статейных списках, помогают в достаточной степени восстановить маршруты, по которым российские посольства добирались до монгольских земель. Изучая маршруты русских посланцев, можно составить общий план расселения тех или иных народностей, географические условия их обитания, установить границы переко-чевок отдельных этнических групп и т.д. Н.Н. Оглоблин писал: «Послы оставили нам любопытные «статейные списки» своих посольств, предоставляющие ценные материалы не только для политической истории среднеазиатских владений XVII века, но и для географии и этнографии Центральной Азии».
Статейные списки показывают, что центральное место на русско-монгольских переговорах занимали такие вопросы, как вопрос о даче шерти (т.е. принесение присяги на верность царям), вопрос о кыштымах (данниках), о торговле, о пропуске русских послов, торговых и служилых людей через монгольские улусы в Китай.
Русские власти на протяжении всего XVII в. намеревались привести монгольских князей под «высокую государеву руку», т.е. в русское подданство. Однако монгольские князья отказывались шертовать - «в холопстве ни у кого не бывали и дани никому не платили». Согласно статейным спискам послов, монгольские князья, стремясь получить русскую помощь в частых конфликтах с соседями и широкий доступ на рынки сибирских городов, временами были готовы дать шерть и присягнуть в верности российскому государю: «даю шерть государю своему царю... на том, что ... быти под его царского величества... высокою рукою в прямом холопстве навеки неотступным, во всяком послушании и в покорении» [там же, с. 407]; «Пили золото на том, что ... быть под государевою царскою высокою рукою в подданных...» [там же, с. 39], Однако обсуждение этой проблемы, как правило, за- вершалось декларацией о продолжении дружественных отношений. По мнению монгольских князей, «холопство... в Мугальской земле бесчесно, ...в Мугальской земле не ведет-ца, что царь царю шертует сам» [там же, с. 37]. В доезде П. Семенова подробно описаны события, происходившие за время поездки в монгольские улусы. П. Семенов обратился к вдове Шолоя Цецен-хана Ахай-хатун (в документах Тайка) и Турукаю с речью, призывая их «шертовать», т.е. быть у русского царя в подданстве, однако на это ответа не получил, от принесения присяги Ахай-хатун категорически отказалась, сказав: «А что де царю их в том шертовать, что им великому государю служить и дань с себя и с людей своих ему, великому государю, давать, и мугальской де царь и люди ево наперед сего в такой неволе не бывали и никому не служивали и дани с себя и с людей своих не давывали, тем де они ни с кем не ссужаютца» [РМО; Слесарчук, 2003. С. 262-263].
Согласно посольским статейным спискам, в истории русско-монгольских взаимоотношений вопрос о ясачных народах занимал важное место. Обсуждался этот вопрос на переговорах между представителями обеих сторон, регулярно фигурировал в грамотах московского правительства и сибирских воевод, также в посланиях монгольских князей. Архивные документы достаточно подробно освещают вопрос о ясаке и ясачных народах. Статейные списки, расспросные речи, челобитные русских служилых людей и воевод содержат богатую информацию о приведении к ясачному платежу тех или иных народов, о размере собираемого с них ясака, о договоренностях русских и монголов по разделу между собой ясачных народов, о их соперничестве за ясачное население. По мере того, как русские завоевывали новые районы Сибири, они объясачивали местные народы, которые являлись албату монголов. Поэтому почти каждому посольству, направляемому в монгольские земли, предстояло внести ясность в вопрос о данниках. Из-за нерешенности этой проблемы обострялись взаимоотношения, прекращались посольские связи и торгово-экономические отношения.
В статейных списках глав русских посольств содержится достаточно много информации о степени заинтересованности сторон в развитии торговых отношений, об уровне развития этих отношений, об ассортименте товаров и др. Например, в статейном списке Василия Тюменца (1616 г.) говорится, что Алтан-хан помимо желания жить в мире и дружбе с русским царем, обмениваться посольствами, выражал желание покупать у русских оружие [Материалы по истории русско-монгольских отношений, 1959. С. 59-60; Чимитдоржиев, 1978. С. 33]. Приезжавшие в сибирские города и Москву монгольские посольства заявляли о том, что в их земле имеется пушнина (барсы, рыси, соболи) и много других товаров, которые можно обменивать на русские изделия. В одной из ханских грамот говорилось: «А прошенье мое, чтоб межь нас с тобою послы ходили и торговым бы нашим людем дорога в твое государство и твоим людем к нам была чиста» [Материалы по истории русско-монгольских отношений, 1959. С. 79-80]. Монгольские правители хотели, чтобы «государь бы пожаловал с Руси торговым в Томской ездить со многими рускими товары по нашей руке, с сукнами и кожами, с котлами, с корольками красными и з деньгами» [Материалы по истории русско-монгольских отношений, 1974. С. 128]. Русское население Сибири, в свою очередь, предъявляло устойчивый, практически неограниченный спрос на скот и скотоводческое сырье Монголии.
Кроме скота и «мягкой рухляди», монголы торговали получаемым из Китая зеленым чаем, уже прочно вошедшим в обиход монголов. В России же тогда не имели представления о чае. Впервые русские отведали чай при первом посещении княжества Алтан-ханов, Это случилось в 1616 г. при посольстве Василия Тюменца, который упомянул про этот напиток в своем статейном списке: «А пить в стол носили молоко коровье топлено с маслом, а в нем листья, неведомо какие» [там же, 1959, с. 64]. Также о чае сообщается в статейном списке посла Василия Старкова (1638 г.): «а пили - чай словет, а чай лист не ведать де-ревяной, не ведать травы какой, а варят ево в воде, да прибеливают молоком. А к ним, к му-гальцом, чай идет ис Китайского, а сказывают, что чай лист снимают с виноградного дерева, а како дерево имянно, росказать не умеют» [там же, с. 129]. Интересно отметить, что Алтан-хан с трудом убедил В. Старкова взять с собой 200 пакетов чая в качестве подарка русскому царю. Василий Старков упорно отказывался взять чай с собой, даже укорил Ал-тан-хана в несерьезности подарка: «в Российском государстве чай не повелся, да и не знают ево, а лутче бы что Алтын-царь к государю послал больше соболей и иного какова зверя, и то бы ему, Алтану-царю, было чеснее» [там же, с. 129]. Однако в Москве чай понравился. Вскоре он стал обязательным товаром купцов,
178 --------------------------------------------------------------- ездивших в Москву из Монголии и Китая. По некоторым данным, стоил чай очень дорого. В описях товаров его ставили вслед за золотом, серебром и драгоценными камнями [Санин, 1972]. В отдельных книгах и статьях ошибочно называют началом распространения чая в России 1654 год, отмечая, что в этом году посол Ф.И. Байков привез чай из Китая.
Сведения архивных материалов, в частности статейных списков русских послов, свидетельствуют о довольно оживленных и регулярных торгово-экономических связях между русскими и монголами. Развитие товарно-денежных отношений способствовало общему подъему России в XVII в., расширению ее внешней торговли. Из-за неустойчивых отношений с европейскими странами России необходимо было более активно стремиться к торговому сближению с восточными странами, в первую очередь с Китаем. На протяжении почти всего XVII в. русские посольства, отправляемые в монгольские ханства, собирали и накапливали необходимые сведения о Китайском государстве. Также следовало найти кратчайшие и безопасные пути в Китай.
В своей докладной В. Тюменец передавал добытые сведения о Китае таким образом: «Китайское государство стоит на край губы морские... а ходу до Китайсково государства от Алтына-царя месяц. А Китайского государства люди им про Китайское же государство розсказывали, что у них государство великое, а царь у них Тайбын, а город кирпичной, велик, а бой де у китайских у ратных людей пищали и пушки... А платье де китайские люди носят з бухарские стати, всякое: бархатное и отласное и камчатое и киндячное и зенденин-ное... А ссылаетца де китайской царь с околь-ними со всеми государи, которые подошли блиско ево государства. А вера де у них и бо-гомольство свое, только не ведают же какая» [там же, 1959, с. 65-66].
В 1618 г. из Тобольска через Томск выехало посольство Ивана Петлина, которое через территорию монгольского Алтан-хана отправилось в Китай. Как свидетельствуют источники, это посольство являлось первой русской миссией, открывшей через Монголию путь в Китай. В архивах сохранились отчетные докладные (статейные списки) посольства Ивана Петлина, которые содержат ценнейшие сведения о Монголии и Китае. Послами были собраны необходимые сведения об экономическом и политическом состоянии Китая. Удивление у послов вызвала Великая китайская стена, о которой в «росписи» сказано: «Стена кирпишная, по рубежной стене башен со 100, по обоим концам, а к морю и к Бухаром, башням, сказывают, и числа нет; башня от башни стоит по стрельбищу... А сквозь ту стену рубежа в китайский город ... ворота, ниски и уски, - на коне наклоняся проедешь» [там же, с. 83].
Русские власти, начиная с посольства И. Петлина и до посольства Ф.И. Байкова (1654 г.), регулярно предпринимали попытки проведывания кратчайших и безопасных путей в Китайское государство, сбора сведений об этой стране. Статейный список посла Ф.И. Байкова расширил круг знаний о Монголии и Китае и был, в частности, использован при составлении в Тобольске в 1667 г. одной из первых русских карт Сибири и прилегающих к ней стран, в том числе монгольских ханств [Чимитдоржиев, 1987, с. 36].
В последующие годы налаживание связей успешно развивалось. Ло монгольским маршрутам были отправлены подряд несколько посольств в Китай.
Данные, содержащиеся в статейных списках русских послов, свидетельствуют о значительном распространении и влиянии буддийской религии в Монголии в тот период. Русские послы, побывавшие в монгольских землях, столкнулись с ее особенностями и ритуалами. Посол Василий Тюменец не смог правильно определить название не известной ему религии. Поэтому он, описывая буддийский храм в своем статейном списке, называет его словом «мечеть», а говоря о вере монголов, именует ее «мусульской» (мусульманской), по аналогии с известным ему исламом, которого придерживались некоторые коренные народы Сибири. В другом документе религия названа «бусурмайской»: «И на том государю шертова-ли и веру утвердили по своей вере бусурман-ской, подымали на руки чесно своего бога...» [там же, с. 57]. В донесении К. Москвитина, побывавшего в 1647 г. у забайкальских «мун-галов», содержатся сведения о поклонении монголов буддизму: «Люди все мунгальские... А кому они молятца, и то писано всякими розными красками по листовому золоту, а лица писаны по листовому золоту человеческие, а подписи писаны по тому ж золоту против лиц на другой стороне, а по чему золото навожено, и то не ведомо, а иные у них болваны серебряные волячные в поларшина, золочены. И те их болваны и писаные лица ставлены по их вере в мечатех войлочных и книги у них по их вере есть ж, а писаны по бумаге, а бумага такова ж, как и руская, а молятца они, мунгалы... перед теми своими болваны и написаными лицами на коленках стоя, и по книгам своим говорят своим языком, и обеих рук упирают пальцами себя в лоб и падают перед ними в землю и, вставая, опять говорят по книгам. А перед болванов они и написаных лиц, в кое время они им молятца, ставят чаши серебряные з горячим угольем, а на уголье кладут ладан росной...» [там же, 1974, с. 316]. А в статейном списке С, Тупаль-ского (1679 г.) имеется интересное описание принесения шерти (присяги) по-буддийски: «воздев на небо руки... около головы своей... руками обводил, и по лицу своему потирал, и нохти свои лизал... по своей вере книгу целовал...» [там же, 1996, с. 338].
Статейные списки свидетельствуют о том огромном влиянии, каким пользовались представители буддийской церкви у монгольских князей при разрешении многих вопросов, обсуждавшихся на двухсторонних переговорах. Русские послы Ф.Е. Михалевский и подьячий Г. Шешуков (1676 г.) в своем статейном списке отмечали «доброжелательное отношение Ун-дур-гегена к русским послам, его большой авторитет среди монгольских князей, ту положительную роль, которую сыграл Кутухта, «уняв» монгольских тайджи от похода на Селенгинск» [Слесарчук, 1992, с. 210]: «А под Селенгин-ский острог и на уезд войною идти без Кутух-тина веленья не смеют. А владеет всеми мун-гальскими людьми он, Кутухта, и послушны ему во всем Очирой-хан и все мунгальские тайши со всеми улусными людьми, а без ево Кутухтина приказу учинить ничего не смеют, ссылаютца о всем к нему беспрестанно послами» [ЛОА РАН; Слесарчук, 1992, с. 211]. Следует сказать, что посольства отправлялись не только непосредственно к монгольским ханам, но таковые снаряжались одновременно и к духовным деятелям. К примеру, в середине XVII в. у Дайн Мерген-ланзы (духовное лицо княжества Алтан-ханов) побывало несколько посольств.
Ездившие к монголам русские представители поражались бескрайними просторами Монголии. Василий Тюменец в своем статейном списке писал: «А кочевья царевою землею часты, мало не сплошь, и людно добре». В другом месте этого же документа читаем: «А сколь велика земля, того им сметить нельзя, ...людей много, со 100 000, а по сторонам, сказывают, много ж, а людно добре» [Материалы по истории русско-монгольских отношений, 1959. С. 61, 65]. Сибирский казак Иван Петлин, побывавший в Западной Монголии в 1618 г., писал: «А земля Мунгальская велика, долга и широка; от Бухары и до моря» [Мате риалы по истории русско-монгольских отношений, 1959. С. 81; Спасский, 1818].
Русские послы все без исключения отмечали в своих статейных списках, что скотоводство является традиционным видом хозяйства у монгольского населения. Жители прежде всего разводили пять видов скота: крупный рогатый скот, лошадей, верблюдов, овец и коз. У жителей гористых мест имелись олени. В. Тюменец писал: «а животина у них: лошеди, кони добрые и середние, и коровы, и овцы, и олени, и козы, а аргамаков нет» [там же, 1959, с. 65]. В отдельных местах занимались разведением свиней и домашних птиц.
В посольских докладных имеются указания на наличие земледельческого хозяйства у монголов. Вопреки утверждениям В. Тюменца о том, что в княжестве Алтан-ханов «хлеба не сеют, и нельзя им хлеба сеяти, потому что горы и место каменисто», Р. Старкова и С. Боборыкина о том, что «пашен пахать не умеют и пашенных мест не знают» [Там же. С. 65; Там же, 1996. С. 118], И. Петлин писал: «А хлеб в Мунгальской земле родитца всякой: просо, и пшеница, и овес, и ячмень, а иных семян всяких много... А овощи в Мунгальской земле всякие: сады яблонные, и дыни, и арбузы, и тыквы, и вишни, и лимоны, и огурцы, и лук, и чеснок... А вино курят в Мунгальской земле ис хлеба из всяко во, а без хмелю... А орют плугом, сохи, так ж, что у тобольских тотар; а бороны уски, а долги» [Материалы Там же, 1959, с. 82]. Рассказывая о хозяйстве монголов, послы писали, что некоторые разводимые монголами сельскохозяйственные культуры им не знакомы.
В доказательство тому, что в этот период в разных частях Монголии развивалось земледелие, приведем некоторые сведения из жизни ойратов (западных монголов): «пашни... пашут бухарцы, а родится у них пшеница и ячмень, и просо, и горох» [там же, 1974, с. 400]; «сеют только ячмень, так как пшеница не вызревает. Хлеба не жнут, а выдергивают его с корнями; обмолачивают же общепринятым в Монголии способом - гоняя по разложенным на току скопам скот, чаще всего лошадей» [Грумм-Гржимайло, 1926. С. 273].
И. Петлин, побывавший в западных районах Монголии посетил несколько монгольских городов и дал их описание, в частности писал: «А городы в Мунгальское земле деланы на 4 углы, по углам башни; а у ворот городовых своды так же, что у русских городов» [там же, 1959, с. 81-82]. Из его описания видно, что в монгольском градостроительстве господствовали местные традиции, а также традиции ки-
180 ---------------------------------------------------------------- тайской архитектуры. По свидетельству Пет-липа, люди, живущие как в городах, так и в окрестностях, ведут оседлый образ жизни.
Говоря об ископаемых богатствах, о недрах Монголии, И. Петлин писал: «каменья дорогово нет, а жемчюг недоброй в Мунгаль-ской земле есть; а золота нет, а серебра много, а идет серебро ис Китаю» [там же, с. 82]. Эти данные не могли не заинтересовать московское правительство, остро нуждавшееся в благородных металлах. Известно, что Монголия всегда была богата различными видами полезных ископаемых.
Статейные списки русских послов свидетельствуют также о том, что монголы были достаточно хорошо вооружены. У них имелись панцыри, шлемы. Очевидцы отмечали, что «калмыки (т.е. ойраты) выходят в бой прекрасно вооруженные, в шлемах, с копьями и в кольчугах. Они сражаются стрелами и саблями» [Смирнов, 1926]. Предметы вооружения изготавливались в железодетальных мастерских кузнецких татар. Кузнецк и его жители находились в вассальной зависимости от ой-ратских владетелей, которые собирали дань с них железными изделиями. В архивном документе отмечено, что «теми кузнецкими людьми владеют калмацкие люди и ясак с них емлют соболями и железом всяким деланным» [Сборник князя Хилкова, 1879].
В статейных списках встречаются сведения о том, что монголы стремились установить связи с западными странами, например, попасть в другие земли через Россию «к турскому царю и в Еросалим и в Кизылбаши и в Ын-дею». Монгольские князья выражали желание наладить не только торговые отношения с «турецким султаном и с кизилбашами», но и стремились завязать с ними дипломатические отношения [Шастина, 1958, с. 55]. Как свидетельствуют источники, к монголам поступали сведения о Турецком государстве и других странах через бухарских торговых людей, проникавших со своими караванами и в Халху, и в Западную Монголию, а оттуда и в сибирские города.
Итак, «Статейные списки» русских послов являются одним из основных источников по истории русско-монгольских отношений и представляют интерес не только подробным изложением содержания русско-монгольских двухсторонних переговоров и раскрытием основных вопросов, обсуждавшихся на них, но и тем, что в них имеются сведения о жизни, быте, религии, культуре и хозяйстве монголов.
Список литературы «Статейные списки» русских послов как источник по истории русско-монгольских отношений
- Гольман М.И. Русские архивные документы по истории Монголии XVII в.//Архивные материалы о монгольских и тюркских народах в академических собраниях России: доклады научной конференции. СПб., 2000.
- Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Л., 1926. Т. III, Вып. 1.
- ЛОА РАН, ф. Портфели Миллера, оп. 4, кн. 23, док. 317, л. 370 об.
- Материалы по истории русско-монгольских отношений. 1607-1636: сборник документов/сост. Л.М. Гатауллина, М.И. Гольман, Г.И. Слесарчук. М., 1959.
- Материалы по истории русско-монгольских отношений. 1636-1654: сборник документов/сост. М.И. Гольман, Г.И. Слесарчук. М., 1974.
- Материалы по истории русско-монгольских отношений. 1654-1685/сборник документов/сост. М.И. Гольман, Г.И. Слесарчук. М., 1996.
- РМО.док. №111,л. 73-91.
- Санин Г. Приятного чаепития//Вечерняя Москва, 1972. 26февр.
- Сборник князя Хилкова. Спб., 1879.
- Слесарчук Г.И. О поездке тобольского сына боярского Ф.Е. Михалевского и подьячего Г. Шешукова в монгольские улусы//VI Международный конгресс монголоведов. Доклады российской делегации. М., 1992.
- Слесарчук Г.И. Русские архивы о Цецен-хане Шолое//Mongolica (An international annual of mongol studies). Vol. 13(34). Ulaanbaatar, 2003.
- Смирнов В.А. Исторический очерк Приенисейского края. Красноярск, 1926.. Ч. 1.
- Спасский Г. Путешествие в Китай сибирского казака Ивана Петлина в 1620 году//Сибирский вестник. Спб., 1818.
- Чимитдоржиев Ш.Б. Взаимоотношения Монголии и России. XVII-XVIII вв. М., 1978.
- Чимитдоржиев Ш.Б. Россия и Монголия. М., 1987.
- Чимитдоржиева Л.Ш. Русские посольства к монгольским Алтан-ханам. XVII в. Улан-Удэ, 2006.
- Шастина Н.П. Русско-монгольские посольские от ношения XVII века. М., 1958.