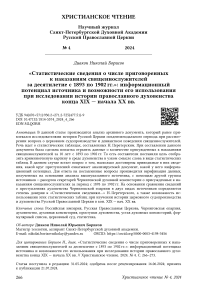«Статистические сведения о числе приговоренных к наказаниям священнослужителей за десятилетие с 1893 по 1902 гг.»: информационный потенциал источника и возможности его использования при исследовании истории православного духовенства конца XIX - начала XX вв.
Автор: Борисов Н.Ю.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви в XIX веке
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье производится анализ архивного документа, который ранее привлекался исследователями истории Русской Церкви позднесинодального периода при рассмотрении вопроса о церковном судопроизводстве и девиантном поведении священнослужителей. Речь идет о статистических таблицах, составленных Н. Перетерским. При составлении данного документа была сделана попытка отразить данные о количестве присужденных к наказаниям священнослужителей за 10 лет: с 1893 по 1902 гг. То есть составители поставили цель отобразить криминогенную картину в среде духовенства в узком смысле слова в виде статистических таблиц. В данном случае встает вопрос о том, насколько достоверны приводимые в них сведения, какой круг преступлений охватывает анализируемый документ, какой у него информационный потенциал. Для ответа на поставленные вопросы производится верификация данных, полученных на основании анализа вышеуказанного источника, с помощью другой группы источников - рапортов секретарей Черниговской духовной консистории о присужденных к наказаниям священнослужителях за период с 1893 по 1902 гг. На основании сравнения сведений о преступлениях духовенства Черниговской епархии в двух видах источников определяется степень доверия к «Статистическим сведениям…» Н. Перетерского, а также возможность использования этих статистических таблиц при изучении истории церковного судопроизводства и духовенства Русской Православной Церкви в кон. XIX - нач. XX вв.
Российская империя, русская православная церковь, черниговская епархия, духовенство, духовная консистория, проступки духовенства, устав духовных консисторий, формулярный список, церковный суд, статистика
Короткий адрес: https://sciup.org/140308064
IDR: 140308064 | УДК: 94(470+571):930.2+271.2-725(477.51)-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_4_266
Текст научной статьи «Статистические сведения о числе приговоренных к наказаниям священнослужителей за десятилетие с 1893 по 1902 гг.»: информационный потенциал источника и возможности его использования при исследовании истории православного духовенства конца XIX - начала XX вв.
E-mail: ORCID:
Master of Theology, Postgraduate Student of the St. Petersburg Theological Academy.
E-mail: ORCID:
«Статистические сведения о числе приговоренных к наказаниям священнослужителей за десятилетие с 1893 по 1902 гг.» — документ, хранящийся в Ф. 834 (Рукописи Синода) Российского Государственного исторического архива, в VIII отделе Оп. 4, содержащем рукописи, посвященные деятельности духовенства. Составлен он, как указывается в заглавии дела, Н. Перетерским. Установить личность составителя представляется затруднительным. Возможно, им мог быть Николай Васильевич Пере-терский — выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета, служивший во время создания документа помощником столоначальника канцелярии обер-прокурора Св. Синода (РГИА. Ф. 1405. Оп. 545. Д. 10014. Л. 1). Дело представлено на 34 листах и содержит 22 таблицы. 10 из них — сведения о видах совершенных священнослужителями за год преступлений и их количестве. Количество строк в каждой таблице равно количеству епархий Российской Церкви даже в том случае, когда никаких сведений по одной из них не приводится. Последняя строка (т. е. нижняя графа каждого столбца) суммировала данные всех граф отдельного столбца. Таким образом, количество строк — фиксированная величина, как и число столбцов. Оно равняется 8, за исключением 1-го столбца, содержащего названия епархий, и последнего, в котором суммируются данные из 8 столбцов, упомянутых выше. В каждом из них содержится информация о конкретном преступлении. Всего выделяется 8 таких групп: 1. Кражи и присвоения, 2. Нецеломудрие, 3. Нетрезвость, 4. Вымогательство платы, 5. Небрежность и неисправность, 6. Неблагоповедение, 7. Оскорбления, 8. По-венчание незаконных браков. О том, насколько данная система могла охватить все совершаемые священнослужителями нарушения, будет сказано ниже.
Еще 10 таблиц были устроены по такому же принципу, но вместо преступлений каждый столбец содержал сведения о количестве приведенных в исполнение наказаний за конкретный год. Таким образом, таблица, условно названная «виды наказаний», также состоит из 8 основных столбцов: 1. Лишение сана с исключением из духовного ведомства, 2. Лишение сана с оставлением в духовном ведомстве, 3. Отрешение от места с запретом в священнослужении и низведением в причетники, 4. Запрещение в священнослужении с низведением в причетники, 5. Запрещение в священнослужении, 6. Монастырская епитимия, 7. Отрешение от места, 8. Увольнение за штат. По поводу практичности применения данной системы ниже будет дано несколько комментариев.
Две последние таблицы содержат общие сведения о количестве правонарушений духовных лиц и количестве приведенных в исполнение наказаний за указанное десятилетие. То есть в них суммируется информация, содержащаяся в предыдущих 20 таблицах. По структуре же они практически идентичны последним. Поэтому интерес, прежде всего, представляют ежегодные таблицы, которые поддаются более надежной верификации при помощи сравнения их с данными, предоставляемыми дважды в год в канцелярию обер-прокурора Св. Синода секретарями духовных консисторий.
Прежде чем перейти к данному сравнению, следует сказать про введение исследуемого источника в научный оборот. Судя по листу использования дела, с документом ознакомился целый ряд зарубежных и отечественных исследователей. Самые известные из них — Грегори Фриз, Крис Чулос и А. И. Конюченко. Последний, возможно, впервые ввел его в научный оборот в труде «Тона и полутона православного белого духовенства в России (вторая половина XIX — начало XX века)» [Конюченко, 2006, 124–125]. В 2021 г. к материалам источника обратился А. В. Никитин, диссертационное исследование которого содержит первую попытку критического анализа данного документа [Никитин, 2021, 100–102]. При этом он упоминает, что на этот источник ссылается А. И. Конюченко, но считает подобные ссылки не вполне оправданными. Его критика сводится к следующим положениям.
Во-первых, в таблицы Н. В. Перетерского не входят незначительные наказания. Действительно, согласно «Уставу духовных консисторий» 1883 г. (далее — Устав) за основу принималась 12-ступенчатая система мер исправления и наказания. Пере-терский же включает в свои таблицы только 7 из 12 пунктов. При этом он разделяет на 2 вида наказание, описанное в п. 3 Устава духовных консисторий: временный запрет с отрешением от должности и низведением в причетники (ПСЗРИ. III, т. 3, 134). В документе же упоминается запрет с низведением в причетники с отрешением от места или без него. Действительно, документ составлялся на основании применения тех или иных наказаний. Законодательство же не могло позволить, чтобы во время запрета в священнослужении место запрещенного оставалось праздным и ожидало своего пастыря до раскаяния и исправления последнего. Поэтому данное разделение вполне ясно обусловлено некоторыми расхождениями теории и практики.
Подобное можно сказать и про разночтения граф статистических таблиц с видами наказаний, предусмотренных в пп. 4, 5 Устава, т.е. с временным запрещением в священнослужении без отрешения от места, с посылкой в монастырь или несением епитимьи на месте, а также с временным испытанием в архиерейском доме или монастыре (ПСЗРИ. III, т. 3, 134). На их место Н. В. Перетерский ставит запрещение в священнослужении и монастырскую епитимью. Временное испытание не является наказанием в полной мере, т. к. его целью является установление факта нарушения испытуемым дисциплины. В случае безукоризненного прохождения испытательного срока время пребывания в монастыре или архиерейском доме не вносилось в формулярный список священнослужителя (Руководственные правила, 1879, 284). При выявлении нарушения на практике данное время могло засчитываться как наказание. Временное же запрещение могло не сопровождаться отправкой в монастырь, поэтому две данные меры указываются Н. В. Перетерским раздельно. Правда, в данном случае становится не совсем понятным, в чем существенное различие между запретом и запретом с низведением в причетники.
Иначе дело обстояло с легкими наказаниями. А. В. Никитин говорит, что Н. В. Пе-ретерский относил к ним и перемещение в другой приход [Никитин, 2021, 100]. Конечно, данный вид наказания мог входить в число тех наказаний, что именуются в «Статистических сведениях…» отрешением от места. В конце концов, в Уставе также ничего не говорится про перемещение как вид наказания.
Однако следует иметь в виду то обстоятельство, что гипотеза А. В. Никитина основана на его предположении о методе работы и источниковой базе, которыми пользовался Н. В. Перетерский. При составлении таблиц он основывался на данных ежегодных итоговых поименных отчетов императору о присужденных к наказаниям священнослужителях, а они, в свою очередь, содержали ошибки [Никитин, 2021, 100]. Исследователь в данном случае провел серьезную работу по сопоставлению сведений из рассматриваемого документа с вышеупомянутыми списками и теми рапортами секретарей духовных консисторий, на основании которых последние составлялись. Действительно, итоговые сводные поименные ведомости, содержащие информацию о наказаниях священнослужителей по всем епархиям, были неполными. На основании сравнительного анализа можно сказать, что вышеупомянутое предположение А. В. Никитина об «игнорировании» Н. В. Перетерским перемещений священнослужителей с одного прихода на другой как наказания и даже непричислении их к числу отрешений при составлении статистических таблиц действительно имеет право на существование, так как в поименных списках этих сведений нет.
Отсутствие остальных мер наказания действительно можно объяснить их несущественностью. Усугубление надзора не было наказанием в прямом смысле слова, поклоны, строгий выговор / выговор, замечание с различными видоизменениями на местах также не представлялись серьезными наказаниями, хотя в случае занесения в формулярный список и лишали священнослужителя права на получение очередной награды в течение трех лет (Сборник законов о наградах, 1893, 16). Однако весьма странно, что в таблице Н. В. Перетерского не нашлось места денежным штрафам, которые иногда составляли значительную сумму.
Во-вторых, А. В. Никитин заметил, что Н. Перетерский не вносил в таблицы сведения о тех случаях лишения священнослужителей сана, которые не были утверждены Св. Синодом в том же году, в котором были вынесены соответствующие приговоры. В следующем же году они также опускались составителем [Никитин, 2021, 100]. Не совсем понятной остается аргументация А. В. Никитина в данном случае. Возможно, при вычете неутвержденных приговоров цифры в таблицах и списках действительно совпадают, но, к сожалению, подобных случаев было слишком мало, чтобы ставить в прямую зависимость от них ошибки в производимых Н. В. Перетерским расчетах.
Следует отметить, что А. В. Никитин подвергает критике в том числе и формирование статистических таблиц, содержащих информацию о совершенных преступлениях. Исследователь прямо заявляет, что данная схема неприменима в области изучения церковного судопроизводства, т. к. зачастую наказание назначалось по совокупности проступков, которые, в связи с этим, невозможно было приводить по отдельности [Никитин, 2021, 101]. В этом случае действительно следует согласиться с исследователем, добавив при этом немаловажный аспект: по причине того, что наказание за проступок одного вида могло варьироваться в зависимости от сопутствующих его совершению обстоятельств, становится не совсем понятным, как связаны между собой таблицы о видах преступлений и видах наказаний. То есть в данном случае речь о сопоставлении по принципу «преступление — наказание» невозможна.
Все же следует перейти непосредственно к сравнению сведений из рапортов секретарей Черниговской духовной консистории (далее — рапортов) с информацией по тому же предмету, содержащейся в таблицах Н. В. Перетерского, созданных на основании поименных списков, которые были неполной сводной ведомостью, обобщающей данные вышеупомянутых рапортов.
Сразу следует отметить, что за период с 1893 по 1902 гг. случаи краж и присвоений, совершенных священнослужителями Черниговской епархии, не зафиксированы ни в одном из вышеназванных источников. Что касается других проступков, то в данном случае можно говорить о значительных расхождениях между списками Н. В. Перетерского и сведениями из рапортов.
Например, в «Статистических сведениях…» данные о преступлениях священнослужителей Черниговской епархии за 1893 г. выглядят следующим образом: нецело-мудрие — 1 случай, нетрезвость — 4, вымогательство платы — 2, небрежность и неисправность — 4, неблагоповедение — 2, оскорбления — 3, повенчание незаконных браков — 2 (РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 945. Л. 3). При этом, судя по рапортам, в Черниговской епархии за этот год было зафиксировано 62 проступка. Для удобства сравнения со сведениями, приводимыми Н. В. Перетерским, их также можно разделить на 7 групп: нецеломудрие — 0, нетрезвость — 12 (РГИА. Ф. 797. Оп. 63. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Г. Л. 50; Д. 65 Д. Л. 101–104 об., 106), вымогательство — 5 (РГИА. Ф. 797. Оп. 63. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Г. Л. 49 об.; Д. 65 Д. Л. 102–102 об., 107), небрежность и неисправность (включая отказ напутствовать больных, своевременно крестить новорожденных и отпевать умерших, недопуск прихожан к Исповеди и Причастию, опущение богослужений, неисполнение распоряжений епархиального начальства и благочинного, самовольное расходование храмовых денег, неуплата долга епархиальному свечному заводу, совершение ошибок в ведении церковной документации) — 29 (РГИА. Ф. 797. Оп. 63. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Г. Л. 49–50; Д. 65 Д. Л. 102–103, 104 об., 106–111 об.), неблагоповедение (включая составление ложных доносов на других священнослужителей и возмущение паствы против своих местных приходских священников) — 7 (РГИА. Ф. 797. Оп. 63. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Г. Л. 49 об.; Д. 65 Д. Л. 103, 106 об., 107 об. — 108, 109 об.), оскорбления — 6 (РГИА. Ф. 797. Оп. 63. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Г. Л. 49 об.; Д. 65 Д. Л. 103 об., 105, 109, 110– 110 об.), повенчание незаконных браков (включая повенчание чужеприходных и совершение таинства Брака без соблюдения «предбрачных предосторожностей») — 3 (РГИА. Ф. 797. Оп. 63. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Д. Л. 105–105 об., 107 об.). При сравнении сведений выясняется, что преступлений священнослужителей было в 3,5 раза больше, нежели указано в «Статистических сведениях…». При этом странным оказывается тот факт, что в данном документе в графе «нецеломудрие» указано одно нарушение, в то время как в рапортах об этом не говорится. Все встает на свои места, если в данную графу поместить нарушение, которое в рапортах именуется «подозрение в любовной связи», но тогда все равно будет иметь место несоответствие: в 1893 г. в подобном были подозреваемы два священника Черниговской епархии (РГИА. Ф. 797. Оп. 63. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Д. Л. 106–106 об.).
Кроме этого, необходимо отметить, что наказание за многие из перечисленных преступлений применялись по совокупности проступков: в данном случае в статье количество наказаний приводится по количеству приговоров (при отнесении преступления к той или иной категории автор следует принципу учета по степени тяжести: например, если нетрезвость сопровождалась оскорбительными действиями со стороны священнослужителя, то преступление будет внесено в графу «нетрезвость»). Таким образом, преступлений было намного больше, чем приведено автором настоящей статьи со ссылкой на рапорты, следовательно, разница становится еще более значительной.
Что касается примененных в 1893 г. черниговским епархиальным начальством наказаний, то в данном случае также можно наблюдать несоответствие (далее сведения приводятся по следующему принципу: сведения из таблицы Н. В. Пере-терского / сведения из рапортов): лишение сана с исключением из духовного ведомства — 3/4 (РГИА. Ф. 797. Оп. 63. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Д. Л. 101-101 об.), временный запрет с отрешением от места и низведением в причетники — 0/4 (РГИА. Ф. 797. Оп. 63. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Д. Л. 101 об. — 102), временный запрет с низведением в причетники — 4/1 (РГИА. Ф. 797. Оп. 63. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Д. Л. 101 об. — 102), монастырская епитимия — 7/17 (РГИА. Ф. 797. Оп. 63. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Г. Л. 50; Л. 102 об. — 104 об.), отрешение от места — 4 (РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 945. Л. 4 об.)/10 (в том числе 6 из них с правом приискать другой приход) (РГИА. Ф. 797. Оп. 63. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Д. Л. 105 об. — 107 об., 111-111 об.). Таким образом, рапорты предоставляют информацию о большем количестве наказаний. Вдобавок замечается некоторая путаница в таблицах Н. В. Перетерского: данные о временном запрете с отрешением от места перемещены в отдел «временный запрет с низведением в причетники». Конечно, разница в случае с наказаниями гораздо меньше, нежели чем с совершенными преступлениями, что обусловлено отсутствием в системе Н. В. Перетерского более легких наказаний (увольнений от должности благочинного, штрафов, строгих и обычных выговоров, замечаний и т. д.). При этом наказания иногда также носили «комплексный» характер: например, в случае с отрешением священнослужителя могли отправить на 1-2 месяца в монастырь, а также запретить в служении (РГИА. Ф. 797. Оп. 63. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Д. Л. 106–106 об.). Таким образом, и количество наказаний было больше, нежели приводится в данной статье на основании рапортов (отрешения в связи с более тяжкими материальными последствиями ставятся ее автором выше монастырской епитимии).
Соотношение сведений за каждый последующий год представляет аналогичную картину (РГИА. Ф. 797. Оп. 64. Отд. III. Ст. 5. Д. 52 Г. Л. 67–73; Д. 52 Д. Л. 71–76 об.; Оп. 65. Отд. III. Ст. 5. Д. 72 Г. Л. 74–77; Д. 72 Д. Л. 56–59 об.; Оп. 66. Отд. III. Ст. 5. Д. 103 Г. Л. 140–143; Д. 103 Д. Л. 149–150; Оп. 70. Отд. III. Ст. 5. Д. 84 Г. Л. 132–133; Д. 84 Д. Л. 157– 158; Оп. 71. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Г. Л. 125–126; Д. 65 Д. Л. 157–158). При этом необходимо отметить, что Н. В. Перетерский совершенно не предоставляет сведений о количестве совершенных преступлений и примененных епархиальным начальством наказаний в Черниговской епархии за 1897-1899, 1902 гг., но рапорты за эти годы свидетельствуют, что и то, и другое в указанные годы имело место (РГИА Ф. 797. Оп. 67. Отд. III. Ст. 5. Д. 84 Г. Л. 144–145 об.; Д. 84 Д. Л. 154–156; Оп. 68. Отд. III. Ст. 5. Д. 76 Г. Л. 161–163; Д. 76 Д. Л. 195–196; Оп. 69. Отд. III. Ст. 5. Д. 88 Г. Л. 154–155; Д. 88 Д. Л. 174–176 об.; Оп. 72. Отд. III. Ст. 5. Д. 75 Д. Л. 166–167 об.). Необходимо отметить, что перечисленные в них преступления и наказания вполне соотносятся с графами таблиц «Статистических сведений...». В качестве наглядного примера можно привести диак. Василия Бур-невского, который был присужден к двухмесячной епитимии за нетрезвость (РГИА.
Ф. 797. Оп. 67. Отд. III. Ст. 5. Д. 84 Д. Л. 154). Таким образом, Н. В. Перетерский предоставляет неполные сведения всего за 6 из 10 лет (РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 945. Л. 3, 4 об., 6, 7 об., 9, 10 об., 12, 13 об., 24, 25 об., 27, 28 об.).
Причина данных несоответствий и пробелов кроется, как уже было указано А. В. Никитиным, в том источнике, которым пользовался Н. В. Перетерский, — в сводных ведомостях о количестве преступлений по епархиям, которые обобщают информацию о совершивших преступления священнослужителях. Они располагаются на последних страницах дел, содержащих рапорты секретарей духовных консисторий по этому же предмету. Действительно, как доказал А. В. Никитин, содержание «Статистических сведений…» практически полностью идентично содержанию данных ведомостей. В некоторых случаях Н. В. Перетерский мог пользоваться ведомостями только за одно полугодие, оставляя материал за вторую половину года не привлеченным [Никитин, 2021, 100]. В случае с Черниговской епархией данное упущение замечено не было. Отсутствие же сведений за 1897-1899, 1902 гг. объясняется их отсутствием в сводных ведомостях. При анализе информации за оставшиеся 6 лет можно прийти к следующим положениям.
-
1. В сводных ведомостях не было места преступлениям, за которые совершившие их понесли такие незначительные наказания, как штрафы и выговоры. К ним, возможно, относилась и монастырская епитимия, если сведения о ней не вносились в формулярный список священнослужителя. Данное наказание вполне могло трактоваться как испытание в архиерейском доме или монастыре, что, согласно Уставу, было отдельным наказанием (ПСЗРИ. III, т. 3, 134). По мнению автора данной статьи, только этим можно объяснить отсутствие в ведомостях информации о 50% случаев отправки в монастырь.
-
2. Если Н. В. Перетерский использовал сводные ведомости, то при составлении таблиц о количестве преступлений он не мог учесть те нарушения, за которые священнослужители были приговорены к легкому наказанию (число преступлений в таблицах равно числу наказаний. То есть проступок мог быть соотнесен с одной из граф таблицы «Статистических сведений…», но составители ведомостей, отталкивавшиеся от тяжести наказания, просто не включали его в документ, так как наказание за него было незначительным.
-
3. Н. В. Перетерский действительно мог не вносить в таблицы сведения о лишении священнослужителей сана, если данные приговоры не были утверждены в том же году Св. Синодом.
-
4. Из-за неправильной записи составителями ведомостей сведений о временном запрете священнослужителей, точнее, из-за отсутствия четкого разделения их на «запрет с отрешением и низведением», «запрет с низведением» и «запрет», сведения о данных преступлениях в таблицах Н. В. Перетерского часто не соответствуют предоставленной секретарями духовной консистории информации.
-
5. Сведения из таблиц с наказаниями никак нельзя совместить с преступлениями, за которые они были назначены, ведь за более легкое преступление могло быть назначено более серьезное наказание.
Следует отметить, что здесь присутствует одно исключение. В 1893 г., как было указано выше, секретарем Черниговской духовной консистории было зафиксировано 10 случаев отрешения от места против 4, указанных в «Статистических сведениях…» Противоречие исчезает, если в учет не берется «отрешение с правом приискать другой приход» (такая мера была применена 6 раз). Возможно, мера трактовалась как перемещение в другой приход, а данное наказание, как считает А. В. Никитин, не вносилось Н. В. Перетерским в таблицы. В данном случае остается только согласиться с исследователем и признать правоту его гипотезы.
Все перечисленные пункты оказывают сильное влияние на изучение истории приходского духовенства. Опираясь на предоставляемые Н. В. Перетерским сведения, исследователь сможет использовать едва ли треть информации о нарушениях духовенства и работе пенитенциарной системы в позднесинодальный период.
На основании произведенного сравнительного анализа можно сделать следующие выводы. Несмотря на кажущееся удобство «Статистических сведений о числе приговоренных к наказаниям священнослужителей за десятилетие с 1893 по 1902 гг.», его использование, равно как и использование сводных ведомостей о присужденных к наказаниям священнослужителях, при изучении истории приходского духовенства и церковной пенитенциарной системы представляется невозможным. Следовательно, в определенной степени лишаются доверия основанные на использовании этих данных разделы трудов А. И. Конюченко, Г. Фриза и К. Чулоса (имя последнего исследователя числится в листах просмотра дел с рапортами, но с большой долей вероятности можно говорить, что он, так же как и Н. В. Перетерский, обращался к сводным ведомостям, а не к самим донесениям секретарей духовных консисторий). Большего доверия заслуживают консисторские рапорты, которые, однако, также должны быть проанализированы на предмет их соответствия документации духовной консистории конкретной епархии. Автор данной статьи предполагает, что различий при данном сравнении не будет выявлено. Использование же «Статистических сведений…» Н. В. Перетерского представляется неактуальным.
Список литературы «Статистические сведения о числе приговоренных к наказаниям священнослужителей за десятилетие с 1893 по 1902 гг.»: информационный потенциал источника и возможности его использования при исследовании истории православного духовенства конца XIX - начала XX вв.
- ПСЗРИ. III - Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье: в 33 т. Т. 3. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1886. 501 с.
- РГИА - Российский Государственный исторический архив. Ф. 797. Оп. 63. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Г; Д. 65 Д; Оп. 64. Отд. III. Ст. 5. Д. 52 Г; Д. 52 Д; Оп. 65. Отд. III. Ст. 5. Д. 72 Г; Д. 72 Д; Оп. 66. Отд. III. Ст. 5. Д. 103 Г; Д. 103 Д; Оп. 67. Отд. III. Ст. 5. Д. 84 Г; Д. 84 Д; Оп. 68. Отд. III. Ст. 5. Д. 76 Г; Д. 76 Д; Оп. 69. Отд. III. Ст. 5. Д. 88 Г; Д. 88 Д; Оп. 70. Отд. III. Ст. 5. Д. 84 Г; Д. 84 Д; Оп. 71. Отд. III. Ст. 5. Д. 65 Г; Д. 65 Д; Оп. 72. Отд. III. Ст. 5. Д. 75 Д; Ф. 834. Оп. 4. Д. 945; Ф. 1405. Оп. 545. Д. 10014.
- Руководственные правила (1879) - Руководственные для православного духовенства указы Святейшего Правительствующего Синода. 1721-1878 гг. М.: Тип. М. Н. Лаврова и К°, 1879. III, 503 с.
- Сборник законов о наградах (1893) - Сборник законов и форм о наградах духовенства за заслуги по епархиальному, учебному, гражданскому и военному ведомствам / Сост. С. В. Калашников. Харьков: Тип. И. М. Варшавчика, 1893. X, 142 с.
- Конюченко (2006) - Конюченко А. И. Тона и полутона православного белого духовенства в России (вторая половина XIX - начало XX века): Монография. Челябинск: ЦНТИ, 2006. 212 с.
- Никитин (2021) - Никитин А. В. Церковный суд и православное духовенство в России (1864-1918 гг.): дис. … канд. ист. наук. СПб., 2021. 224 с.