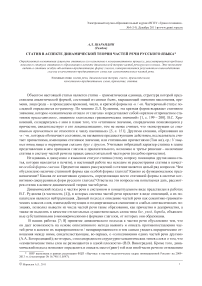Статив в аспекте динамической теории частей речи русского языка
Автор: Шарандин Анатолий Леонидович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Вопросы лексической и грамматической семантики
Статья в выпуске: 4 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
Определяются когнитивная сущность статива и его назначение в коммуникативном процессе, рассматривается проблема языкового статуса стативного образования в аспекте динамической теории частей речи русского языка. Это позволяет видеть в стативе особую адъективно-предикативную форму глагола, которая является результатом взаимодействия глагола и качественно-предикативного слова как самостоятельных частей речи.
Части речи, динамическая теория, глагол, прилагательное, качественно-предикативные слова, причастие, статив
Короткий адрес: https://sciup.org/14821673
IDR: 14821673
Текст научной статьи Статив в аспекте динамической теории частей речи русского языка
В наших работах [7; 8] принятие динамического подхода к частям речи обусловлено тем, что он дает возможность на основе оппозитивного метода выявить и описать противопоставления частей речи в аспекте их маркированности / немаркированности и тем самым увидеть иерархические отношения между ними, свидетельствующие, во-первых, о «соподчинении одних частей речи другим» (А.А. Богородицкий); во-вторых, о неоднородности структурно-семантических типов слов и о том, что «семантические типы слов не размещаются в одной плоскости» (В.В. Виноградов). Кроме того, динамический подход позволяет определить и описать место (ранг) той или иной части речи по отношению к другим частям речи, выразив различия между ними в содержательном и формальном аспектах; а также выявить и описать динамические процессы взаимодействия частей речи в коммуникативном акте, результатом которых является функционирование особых форм той или иной части речи, в наибольшей степени ориентированных на носителя языка, его коммуникативные цели, когнитивные и лингвокреативные способности человека, на его речемыслительную деятельность.
Однако в отличие от классификационной модели частей речи В.Г. Руделева в нашем понимании система частей речи предстает в принципиальном ином виде, поскольку для нас коммуникация предполагает использование двух основных способов передачи информации: расчлененных (членимых) и нерасчлененных (нечленимых) высказываний (предложений). Первый предполагает использование в этих высказываниях (в речи) определенных элементов-слов, второй же представлен несловесными коммуникативными сигналами. Именно поэтому понятие «часть речи» мы связываем прежде всего с элементами расчлененной речи. Другими словами, для нас первична связь части речи не со словом, а с понятием типа речи. Части речи – это элементы расчлененных коммуникативных моделей или расчлененного типа речи. Только в такой речи можно выделить ее части – слова.
Взаимосвязь части речи с типом расчлененной речи и с понятием слова как грамматически оформленного языкового знака позволяет видеть в частях речи их когнитивную сущность: они концептуализируют структуру восприятия действительности посредством языковых структур расчлененного типа, использующих в качестве элементов слова, которые связаны с отражением и выражением предметнопонятийной стороны действительности путем ее называния или указания на нее.
Система знаменательных (назывных) частей речи в нашем изложении включает следующие части речи: глагол, существительное, качественно-предикативное слово (качественное прилагательное), прилагательное (относительное прилагательное), числительное, наречие (обоснование см. в [9]). В связи с тем, что статив может иметь три позиции в системе частей речи – форму глагола, форму прилагательного, самостоятельную часть речи, – рассмотрим их с точки зрения динамического подхода.
Относить статив к самостоятельным частям речи возможно, поскольку в русском языке представлены теории, в которых, в частности, причастие и деепричастие рассматриваются как самостоятельные части речи. Такая позиция обусловлена тем, что, например, причастие оказывается в языковом плане образованием гибридного типа, т.к. содержит грамматические характеристики двух частей речи – глагола и прилагательного (в его традиционном понимании). В качестве глагольных признаков признаются грамматические признаки вида, времени, залога и переходности / непереходности. Общими с прилагательными являются грамматические признаки рода, числа и падежа, которые обеспечивают согласовательную функцию причастию в его отношениях с определяемым словом. По мнению Н.М. Шанского и А.Н. Тихонова, «учитывая двойственную природу причастий, одинаково яркие и сильные признаки в них и глагола, и имени прилагательного, целесообразно выделять их в самостоятельную часть речи» [6, с. 214]. Подобные рассуждения позволяют ученым рассматривать и деепричастие как самостоятельную часть речи (Там же, с. 223–224).
Однако целесообразность такого решения вызывает некоторые сомнения. И эти сомнения связаны прежде всего с понятием формы слова, которое обычно рассматривается с позиций лексической тождественности рассматриваемых образований и их грамматической нетождественности. Различия между, например, личной формой глагола читаю и причастием читающий связаны с их грамматическим функционированием, что признается Н.М. Шанским и А.Н. Тихоновым: «Все причастия имеют общие с глаголом лексические значения» [6, с. 212]. Это подтверждается наличием общей лексической основы, которая является средством ее выражения. В грамматическом плане различия обусловлены употреблением личных глагольных и причастных образований в разных синтаксических позициях: личные формы выполняют функцию предиката, а причастные образования – атрибута. Другими словами, различия – грамматические, естественно, связанные с категориальной семантикой этих образований. Однако признаковость причастий не имеет лексического характера, о чем свидетельствует модель мотивации, которая отражает не словообразовательные, а формообразовательные отноше- ния между глаголом и причастием (только не словоизменительного (морфологического) типа, а собственно формообразовательного (синтаксического), связанного с образованием особых форм глагола). Кроме того, признание самостоятельного статуса причастий должно было бы закономерно привести к их включению в словарь русского языка на основании самостоятельности причастий (да и деепричастий) как языковых знаков, имеющих свою специфическую лексическую семантику. В связи с этим большинство лингвистов все же признают нецелесообразность рассмотрения причастий и деепричастий в качестве самостоятельных частей речи русского языка. Думается, очевидна и нецелесообразность выделения статива как самостоятельной части речи в одном ряду с причастием и деепричастием. Таким образом, по отношению к стативу более логично и целесообразно рассмотреть вопрос о его статусе либо как формы глагола, либо как формы прилагательного.
Необходимо отметить, что в нашей классификации подход к прилагательному отличается от традиционного: адъективные слова распределены по двум частям речи – качественно-предикативным словам и относительно-атрибутивным словам [8]. В настоящее время мы находим работы, где выявляется неоднородность слов, объединенных термином «прилагательное». Так, на основе семантических и функциональных характеристик выделяются качественные прилагательные как чистые предикаты (Е.М. Вольф).
Понятие «прилагательное», на наш взгляд, объединяет два различных класса слов: качественные прилагательные и относительные прилагательные. Как замечает М.В. Панов, «это два разных прилагательных мира» [3, с. 132]. Для относительных прилагательных, действительно, атрибутивное значение основное, а у качественных прилагательных достаточно активно представлена и предикативная функция. Следовательно, вопрос о том, какая из функций – атрибутивная или предикативная – является основной, оказывается спорным. Название прилагательных как качественных определяет своеобразие их признакового значения: они обозначают качественный признак. Немаловажно и то, что данный признак (качество) объективировался в морфологической категории «степени сравнения» и в синтаксической способности качественных прилагательных иметь полную и краткую формы. При этом первая предполагает функционирование качественного прилагательного в функции определения (атрибута) и предиката, а вторая используется в функции предиката как основной (да и первичной, если иметь в виду историческое развитие прилагательного как части речи). В качестве основной формы, следовательно, выступает краткая форма, наиболее полно выражающая своеобразие признака этой части речи. При этом признак опосредован связкой быть .
В том, что полная атрибутивная форма оказывается словарным представителем части речи, нет ничего удивительного. Ведь несмотря на то, что для глагола основными представителями являются личные формы, функционирующие в позиции предиката, его словарным представителем оказалась особая форма – инфинитив. Почему? Потому что в словаре важно сосредоточить внимание на лексической информации, а грамматическую представить в грамматических пометах. В инфинитиве содержится минимум грамматической информации. Точно так же и полная форма качественно-предикативных слов содержит меньше грамматической информации по сравнению с краткой формой в позиции предиката, где последняя, во-первых, оказывается аналитической, а во-вторых, содержит предикативную информацию, выражаемую связкой быть . Естественно, цели и назначение словаря в большей степени сориентированы на использование полной формы, которая, к тому же, имеет и чисто техническое преимущество для подачи в словаре, где используется алфавитный порядок, тогда как аналитический способ подачи окажется несколько непривычным (ср.: быть смелым ; быть добрым и т. п.).
В связи с обоснованием когнитивно-дискурсивной репрезентации качественно-предикативных слов в коммуникативном процессе возникает возможность уточнить определение этой части речи: качественно-предикативные слова – это класс номинативных слов, обозначающих актуализированный качественный признак (чаще всего качественного состояния), который реализуется в коммуникативном акте (речи, тексте) в тех или иных формах морфологических категорий наклонения, времени, степеней сравнения, лица, рода и числа и в синтаксической позиции предиката.
Различия между глагольным признаком и признаком качественно-предикативных слов (качественных прилагательных) можно видеть в следующем. Они по-разному представляют признак в сознании носителей языка: глагольный признак окрашен процессуальностью, а признак качественно-предикативных слов – качественностью, а точнее, если основываться на прототипических представителях глагольного и качественно-предикативного классов типа читать и быть добрым , то прототипический глагольный признак представляет собой акциональный (активный), а признак качественно-предикативных слов – статальный (пассивный) процесс. Данные содержательные различия поддерживаются наличием у глагола грамматической категории вида, в большей степени связанной с процессу-альностью, а у качественно-предикативных слов – с грамматической категорией степеней сравнения. Правда, эти категории в какой-то мере и сближают эти две части речи в плане представления признака как динамического. Кроме того, значимым различием между глаголом и качественно-предикативными словами является то, что глагол обозначает признак непосредственно, а качественно-предикативные слова – опосредованно, через связку быть . Что касается атрибутивно-относительных слов, которые в традиционной грамматике рассматриваются в составе лексико-грамматического разряда относительных прилагательных, различия между глагольным признаком и признаком относительного прилагатель ного (собственно прилагательного) состоят в следующем.
-
1. Глагольный признак – это ядерный признак, обязательный элемент мысли, тогда как признак относительного прилагательного, будучи «спутником» существительного, может и отсутствовать в структуре мысли (суждения). Это различие во многом определяется той функцией, которую данные признаки выполняют в структуре высказывания: глагольный – функцию предиката, адъективный – функцию атрибута (определения).
-
2. Глагольный признак в большей степени связан с понятием процесса, а признак прилагательного – с понятием отношения. Вследствие этого глагольный признак можно назвать динамическим, в то время как относительному прилагательному присущ статический характер, что находит отражение в согласовательном свойстве его морфологических категорий рода, числа и падежа.
В аспекте динамической теории частей речи причастие наиболее ярко демонстрирует процесс взаимодействия разных частей речи и его результат. В отличие от личных форм, имеющих максимальную морфологическую поддержку в плане реализации грамматических категорий глагола, непредикативные (особые) его формы реализуют эти категории не в полном объеме. Однако при этом утрата морфологических категорий глагола сопровождается «приращением» грамматических категорий других частей речи – тех, для которых та или иная синтаксическая позиция оказывается первичной в реализации их частеречной семантики. Таким образом, особые формы глагола – это результат его взаимодействия с другими частями речи в коммуникативном процессе (дискурсе, тексте). Эти формы отражают принципиально иную плоскость концептуализации действительности по сравнению с формами грамматических категорий. В отличие от последних, приписывающих субъекту (объекту) простой глагольный признак, что обеспечивает однофокусность восприятия объекта (фигуры), в особых непредикативных формах глагола представлена двухфокусность его восприятия, обусловленная взаимодействующими частеречными концептами.
В отличие от причастия (особой непредикативной формы) статив как особая форма глагола выделяется в системе его предикативных форм. Однако языковая природа статива определяется также взаимодействием глагола и прилагательных (только не относительных, а качественно-предикативных, которые имеют аналитическую структуру своего языкового выражения, причем компонент быть оказывается тем, что объединяет их со стативом). Различия же определяются прежде всего лексическим компонентом – присвязочным элементом, который у качественно-предикативных слов представлен формой качественного прилагательного (быть добрым), а у статива – формой адъективированного причастия (быть закрытым). Существенным признаком, объединяющим статив и качественное прилагательное в предикативной позиции, является отсутствие и у того, и у другого видовой и залоговой характеристик. Однако последнее оказывается существенным признаком, отличающим статив от причастия, в структуре которого видовая и залоговая характеристики присутствуют и определяют динамический и процессуальный характер категориальной семантики причастия.
Что же концептуализирует статив как глагольную форму? Для этого целесообразно сравнить ста-тив с пассивной акциональной или результативной формой. На наш взгляд, категоризация посредством залога, представленного противопоставлением активной и пассивной конструкций, связана с осмыслением двух взаимосвязанных ситуаций – актуальной, целенаправленной, наблюдаемой и неактуальной, пассивно-результативной, которая как бы содержит информацию о предыдущей ситуации с активным деятелем. Г.А. Золотова пишет: «Условие образования пассивного залога – это наличие значения акциональности в исходной глагольной форме: субъект должен быть настолько активен, чтобы результат этой активности сохранялся в объекте и после прекращения взаимодействия. Возможность пассивной конструкции при этом оказывается “тестом” на акциональность, на активность субъекта» [2, с. 332].
В случае же отсутствия информации о такой взаимосвязи мы имеем стативное значение, т.е. «ста-тив представляет завершающую стадию процесса, без отсылки к предшествующему положению дел» (Там же, с. 334). Статив – это «выродившийся» акциональный процесс, по своему значению он ближе к понятиям «состояние», «свойство», «качество», что делает его значение в какой-то степени концептуально самостоятельным. Попадая в позицию качественно-предикативных слов, для которых значение неакциональности (статальности, качественности) является категориальным, глагол теряет признак вида, представленный видовым противопоставлением (видовой парой), и признак залога, представленный залоговым противопоставлением, т.е. те признаки, которые наиболее полно реализуют значение акциональной процессуальности. При этом существенным оказывается то, что глагол не реализует видовую и залоговую характеристики в причастии, которое попадает в позицию качественно-предикативных слов. В результате глагол, используя причастие, предстает в форме статива, который в данном случае как бы демонстрирует статическое представление признака предмета (носителя предикативного признака), делая предмет фигурой и устраняя позицию деятеля, что обеспечивает фон для реализации стативного значения.
Существенным моментом, связанным с концептуализацией ситуации посредством статива и результативного (процессуального) пассива, выраженного причастием на -н, -т, является то, что их разграничение определяется не только разным морфологическим оформлением (наличием вида и залога в результативном пассиве и отсутствием их в стативе), но и связью с разными коммуникативными регистрами. По мнению Г.А. Золотовой, «в репродуктивно-описательном контексте используется ста-тив: Вхожу и вижу: окна раскрыты (окна настежь), вещи разбросаны (вещи на полу), книги свалены в угол (книги в углу) . В информативно-повествовательном контексте – результатив, или процессуальный пассив: Режиссер попросил изменить декорацию. Быстро были открыты окна, разбросаны вещи, сдвинута мебель, книги свалены в угол » (Там же). Это связано с тем, что стативное «состояние лишено внутренней динамики и локализовано во времени через момент восприятия: Окно открыто – Я вижу открытое окно; Я подошел к дому. Окно ее было открыто » (Там же).
Немаловажным моментом, определяющим коммуникативную и концептуальную востребованность статива, является и то, что, по мнению исследователей, стативные конструкции употребляются и в книжной речи, и в разговорной, тогда как пассиву употребление в разговорной речи не свойственно [1, с. 202; 10, с. 131].
Итак, статив в аспекте динамической теории частей речи русского языка – это особая адъективно-предикативная форма глагола, выражающая значение неакционального (статального) признака и представленная аналитической структурой, которая включает связку быть и краткое адъективированное причастие, обеспечивающие в своем единстве и целостности выражение грамматических значений времени, наклонения, лица и числа, присущих глаголу, и грамматических значений рода и числа, присущих кратким прилагательным. Гибридный характер статива обусловлен взаимодействием глагола (через причастную форму) и качественно-предикативных слов как самостоятельных частей речи, которые, однако, будучи противопоставленными в системе частей русского языка, обнаруживают опре- деленную взаимосвязь и взаимодействие с целью выразить языковыми средствами коммуникативные потребности носителей языка в описании таких типовых ситуаций, в которых проявляются неакцио-нальные (непроцессуальные) признаки предмета.
Что касается полных страдательных причастий прошедшего времени совершенного вида типа закрытый , то они представляют собой взаимодействие глагола через причастие с относительными прилагательными, т.е. классом собственно прилагательного. В этом случае адъективация причастия предстает в более глубоком варианте, поскольку причастие теряет в синтаксической позиции атрибута не только глагольные признаки вида и залога (как у статива в позиции предиката), но и признак времени. Другими словами, адъективация сопровождается утратой всех глагольных категорий и характеризуется наличием у полной формы только грамматических категорий, присущих относительному прилагательному – категорий рода, числа и падежа, которые имеют согласовательный характер, ср.: Но душный воздух и закрытые окны так мне надоели во время болезни моей, что весна являлась моему воображению со всею поэтической своей прелестию (А.С. Пушкин) и Закрыты ставни, окны мелом / Забелены. Хозяйки нет (А.С. Пушкин).
Итак, глагол через причастие ( двери, закрытые хозяином дома, никто не пытался открывать ) имеет свое, если так можно выразиться, языковое представительство в позициях предиката пассивных конструкций ( дверь была кем-то закрыта ), предиката стативных конструкций ( в этом доме двери постоянно были закрыты ) и атрибута ( всегда закрытые двери вызывали у меня любопытство ). Все эти позиции отмечены разным набором грамматических признаков, присущих тем формам глагола, которые в них представлены. Причем некоторые из форм являются результатом взаимодействия глагола с другими частями речи – с качественно-предикативными и относительно-атрибутивными словами.
Список литературы Статив в аспекте динамической теории частей речи русского языка
- Буланин Л.Л. К соотношению пассива и статива в русском языке//Проблемы теории грамматического залога. Л.: Наука, 1978. С. 197 -202
- Золотова Г.А. [и др.]. Коммуникативная грамматика русского языка. М.: МГУ, 1998
- Панов М.В. Позиционная морфология русского языка. М.: Наука; Школа «Языки русской культуры», 1999
- Руделев В.Г., Руделева О.А. Существительное и наречие (на материале русского языка)//Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2010. № 2. С. 17 -23
- Храковский В.С. Пассивные конструкции//Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб.: Наука, 1991. С.141 -210
- Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык: Словообразование. Морфология. М.: Просвещение, 1981
- Шарандин А.Л. Иерархические отношения в системе частей речи русского языка//Вестн. Тамб. ун-та. Сер. «Гуманит. науки». 1998. Вып. 1. С. 20 -27
- Шарандин А.Л. Вопрос о составе грамматических категорий качественных и относительных прилагательных//Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2 «Языкознание». 2005. Вып. 4. С. 24 -28
- Шарандин А.Л. Русский глагол: Комплексное описание. Тамбов: ТГУ, 2009
- Шелякин М.А. Функциональная грамматика русского языка. М.: Рус. яз., 2001