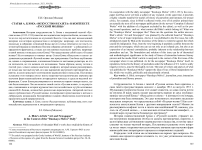Статья А. Блока "Искусство и газета" в контексте "Русской молвы"
Автор: Орлова Екатерина Иосифовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (59), 2021 года.
Бесплатный доступ
История сотрудничества А. Блока с ежедневной газетой «Русская молва» (1912-1913) известна исследователям творчества Блока, но сама газета до сих пор остается вовсе не изученной. Вместе с тем она дает весьма ценный материал для истории журналистики и литературы: например, для текстологов, поскольку в собраниях сочинений Блока две его статьи печатаются по тексту газетной публикации (в новейшем Полном собрании сочинений - с добавлением сокращенного фрагмента), а также для постановки нескольких проблем, например: в какой контекст попадала статья Блока? Что представляла собой газета «Русская молва»? На эти вопросы и отвечает автор. Статья Блока «Искусство и газета» задумывалась редакцией «Русской молвы» как программная. Она была опубликована, однако с сокращениями, сделанными Блоком по настоянию редактора, на что он согласился, но что вызвало его негодование. Таким образом, между поэтом и газетой уже с самого начала наметился конфликт, который можно рассматривать не только как частный случай, но и как выражение внутреннего противоречия, вероятно, в целом присущего соотношению журналистики и искусства. Постановка и решение этого вопроса могут иметь теоретико-методологическое значение при изучении форм взаимодействия литературного процесса и средств массовой информации. Статья Блока рассматривается в контексте первого номера газеты, где она была помещена. Что же касается самой газеты «Русская молва», то ее репутация, сложившаяся в истории журналистики под воздействием сугубо негативных оценок В.И. Ленина, должна быть решительно пересмотрена. Авторский состав и анализ публицистики «Русской молвы» подтверждают представление о ней как о либеральном независимом беспартийном издании общественно-политической и просветительской направленности.
А. блок, газета русская молва, публицистика, поэт, взаимодействие журналистики и литературного процесса
Короткий адрес: https://sciup.org/149139255
IDR: 149139255 | DOI: 10.54770/20729316_2021_4_144
Текст научной статьи Статья А. Блока "Искусство и газета" в контексте "Русской молвы"
Сотрудничество А. Блока с газетой «Русская молва» было кратким, а сама газета просуществовала недолго: с декабря 1912 до августа 1913 г. Изучающим творчество Блока этот сюжет известен, но сама газета почти не изучена. В нашу задачу входит рассмотреть первую из двух опубликованных там статей Блока - «Искусство и газета» - в контексте того номера, в котором она была помещена. Это даст возможность поставить несколько насущных вопросов: что представляла собой «Русская молва»? Как соотносилось выступление Блока с другими материалами газеты? Можно ли рассматривать конфликт поэта и газеты как неизбежный? И, наконец, удалось ли «Русской молве», - а она мыслила статью Блока как манифест, - в полной мере осуществить блоковскую программу?
История взаимоотношений Блока с «Русской молвой» отражает некое внутреннее напряжение (чтобы не сказать противоречие), вероятно, в целом присущее соотношению журналистики и искусства, и потому представляет не только частный интерес. Постановка и решение этого вопроса могут иметь теоретико-методологическое значение при изучении форм взаимодействия литературного процесса и повременных изданий.
В пределах этой статьи мы остановимся на первых трех вопросах. Но сначала нам придется кратко изложить то, что уже установлено исследователями Блока.

В газете в конце 1912 и начале 1913 г. были опубликованы две статьи Блока и пять его стихотворений. Первая статья - «Искусство и газета» -мыслилась редактором газеты А.В. Тырковой-Вильямс как программная, а сам Блок был привлечен ею для организации, вместе с А.М. Ремизовым, литературного отдела создававшейся в конце 1912 г. газеты.
В дневнике Блока упоминаются приглашенные в газету А.М. Ремизов, Б.А. Садовской, В.А. Пяст, А.П. Иванов, Н.П. Ге, В.Н. Княжнин, В.Н. Соловьев. В ноябре 1912 г. Блок пишет Б. Садовскому из Петербурга: «Приезжайте Вы опять сюда, может быть, дел наделаем! Горячо присоединяюсь к зову Алексея Михайловича» (Ремизова -Е.О.) [Блок 2010, 445]. 23 ноября 1912 г. «состоялось редакционное заседание, на котором Блок прочел текст своей докладной записки» [Блок 2010, 445]. На следующий день Блок записывает: «Я читаю свою докладную записку об отношении искусства к газете и превращаюсь в какого-то лидера <.. .>. Мою статью хотят сделать определяющей отношение газеты к искусству» [Блок 2010, 445].
Но когда 3 декабря Блок читал на редакционном заседании статью, написанную на основе доклада, Тыркова резко возражала. Впоследствии она вспоминала об этом так:
«Мы ждали символических взлетов, размаха, красоты, а вместо этого услышали резкие выпады <...>. Это было так неожиданно, что мы растерялись. Блок кончил и важно обвел нас холодным взглядом. Точно вызов бросил. Я его приняла:
-
- Александр Александрович, так нельзя.
Он перевел строгий взгляд на меня. На правильном лице греческого бога не было ни тени улыбки.
-
- Нельзя? Я так и знал, что вы не примете» [цит. по: Блок 2010, 445-446].
После заседания происходит интенсивная полемика Блока с Тырковой-Вильямс, и Блок соглашается на переделку статьи; она выходит с сокращениями в первом номере газеты 9 декабря 1912 г, но еще до публикации, б декабря, Блок делает запись в дневнике: «История статьи по крайней мере чрезвычайно поучительна и позорна. Все, что касается журналистов, должно быть исключено. Оставлено должно быть высокопарное рассуждение об искусстве и это, как говорится в чрезвычайно любезном письме, нужно газете» [Блок 2010, 446]. И тогда, и даже много позднее Блок замечает: «искалеченная статья», «главное выкинуто» [Блок 2010, 446].
В чем же состояли главные положения статьи и что было сокращено самим Блоком, но вызывало и потом, даже годы спустя, его негодование?
Сначала о главных положениях опубликованной части статьи.
Блок противопоставляет красивое и Прекрасное. По Блоку, только искусство причастно к сфере Прекрасного: «Прекрасного не любит почти никто. Точнее, Прекрасного не взять силами той любви, которой люди любят красивое, или умное, или доброе, или правдивое. <...> Прекрасное - вот мир тех сущностей, с которыми имеет дело искусство. Вот почему искусство нельзя любить как природу, как женщину, как диалектику.

Оно - не тот матерьял, с которым можно заигрывать или фамильярничать <...> Оно - величаво» [Блок 2010, 154].
Из этого главного положения Блока следует другое - противопоставление искусства и всего остального, особенно газеты:
«Чин отношения к искусству должен быть - медленный, важный, не суетливый, не рекламный. Речи об искусстве обязаны быть таковыми <...>. Газета по самой природе своей тороплива и буйна; чем быстрее ритм жизни, тем бешенее кричит политическая и всякая иная повседневность <...>. Итак, душа искусства, которая во все времена имеет целью, пользуясь языком, цветами и формами нашего мира как средством, воссоздавать “миры иные”, - и душа газеты, которая имеет целью борьбу и заботы только нашего мира <...> что им друг до друга?» [Блок 2010, 155].
И дальше Блок говорит о том, что существует «противоречие вечное и трагическое между искусством и жизнью» и «что в России уже существует довольно таких читателей, которым смертельно надоело выискиванье в произведениях искусства политических, публицистических и иных идеек <...>. Такого-то читателя <...> и должны иметь в виду те люди, которые хотят говорить на языке искусства, хотя бы - со страниц газет; они должны говорить не сентиментальничая, не политиканствуя и не иронизируя» [Блок 2010, 158].
Блок задумывается о том, что соединение политики и искусства в газете - это соединение противоположностей, «это как город и деревня». Запаху гари (город) Блок противопоставляет «первые фиалки» (деревня).
Но необходимо напомнить еще о том, что же было удалено из статьи по настоянию Тырковой.
Это был выпад Блока против газетной критики, против понимания отделов искусства в газетах как легкого чтения, когда критика действует «на дурные инстинкты толпы», у которой, между тем, в отличие от таких журналистов, есть и здоровые инстинкты, и она отстраняется от критиков, а заодно и от художников. Блок выступил против «хулиганства и хамства по отношению к искусству», имея в виду, конечно, массовую печать. «И можно ли вообще говорить на языке искусства в газете, которая служит злобе дня?» [Блок 2010, 157] - так заканчивалась та часть статьи, которая подверглась сокращению.
Блок предлагает: «<...> пора сделать такой опыт, которого никто еще не пробовал производить в целом. Не надо говорить много, надо говорить важно. <...> Ведь преемство литературное и преемство политическое не имеют между собой ничего общего, и, в зависимости от этого, речи о политике и речи об искусстве не должны согласовываться друг с другом» [Блок 2010, 157].
Как видим, статья действительно была программной. Блок предлагал в самом деле новый шаг во взаимодействии литературы и журналистики.
Возможно ли это было вообще, и удалось ли это «Русской молве»? Для
того чтобы ответить на этот вопрос, нужно проанализировать все содержание материалов об искусстве на всем протяжении истории газеты - это должно стать темой отдельного исследования. Как бы то ни было, эпизод с публикацией статьи и потом всегда вызывал у Блока неприязненное чувство. Постепенно его сотрудничество с газетой сводится на нет.
Но для этого были и внутренние причины. Блок вообще в это время - в первой половине 1913г- уходит из внешней литературной жизни. Кажется, последним его публичным выступлением было чтение весной 1913 г. драмы «Роза и крест» в только что основанном Обществе поэтов, куда его пригласил Н.В. Недоброво, поэт и филолог, однокурсник Блока по университету. Блок потом писал жене о своем успехе: «<.. .> читал “Розу и Крест” среди врагов, светских людей, холодных “нововременцев”. Внутренне очень боролся и, кажется, победил» [Блок 1963, 414]. Не случайны здесь слова «враги», «победил»: возможно, они отражают не только отношение Блока к «Новому времени», которое и потом оставалось резко отрицательным, но и общее его ощущение ненужности окололитературного общения. Он, конечно, продолжает публиковать стихи в периодике: например, в сытинском «Русском слове» печатаются такие шедевры, как «Грешить бесстыдно, непробудно...», «Петроградское небо мутилось дождем...» и др. Из сотрудничества с журналом «Отечество» вырастает потом сборник «Стихи о России», который Блок поначалу не слишком ценил, но в более поздние годы, просматривая именно книги, он - кажется, впервые -называет себя хорошим писателем. Сейчас мы понимаем, что «Стихи о России» были этапной книгой, которая окончательно представила Блока как лучшего поэта современности (значение же «Русской молвы», кроме прочего, еще в том, что, поскольку рукописи двух опубликованных там статей не сохранились, в собраниях сочинений Блока они печатаются по тексту газетной публикации, в новейшем Полном собрании - с добавлением сокращенного фрагмента). Но после полемики с Д.В. Философовым по поводу статьи «Искусство и газета» и до 1917 г. Блок статей больше не пишет.
Кратко напомним об этой полемике. В ней участвовали две близкие по многим позициям газеты: Философов выступил в «Речи».
В статье «Уединенный эстетизм» Философов упрекал Блока в противопоставлении Прекрасного и красивого, а главное - в элитарности взглядов на искусство. Философов как будто не знал или забыл, что значит для Блока антитеза «красивое - прекрасное». А ведь Блок обращался к ней не впервые. Двумя годами раньше он писал в статье «О современном состоянии русского символизма»: «Мы вступили в обманные заговоры с услужливыми двойниками; мы силою рабских дерзновений превратили мир в Балаган; мы произнесли клятвы демонам - не прекрасные, но только красивые...» [Блок 2010, 129]. Не может быть, чтобы Философов не знал этой «аполлоновской» статьи Блока 1910г.
«Третий Мережковский» уличает Блока в «уединенном эстетизме». Но чем как не эстетизмом можно назвать его восторженный рассказ о париж-148
ских работницах, которые, «выходя из прокопченных мастерских», покупают фиалки «за одно су», и как эти фиалки радуют их, а сам Философов находит «в их нежном увядании на груди смеющейся работницы <.. .> нечто воистину прекрасное». В России 1912 г. и всех других лет работницам было, кажется, не до фиалок, да и где бы их было взять, тем более задешево? «Горы пармских фиалок в апреле» упоминаются в «Поэме без героя» Ахматовой в части, посвященной 1913 г, как примета роскоши даже для ее петербургской «Коломбины десятых годов».
Блок прекрасно понял выморочность полемики, на которую вызывал его Философов, потому назвал свой ответ ему «Непонимание или нежелание понять?». И он уже не отвечал Мережковскому, в «Русском слове» вступившему в спор третьим со статьей «О черных колодцах». Как установила Д.М. Магомедова, Мережковский цитировал статью Блока не по газетной публикации, а по автографу, до сих пор неизвестному. Таким образом, статья Мережковского имеет тот интерес, что она стала «на сегодняшний день одним из источников блоковского текста» [Магомедова 2016, 579].
Но вернемся к истории сотрудничества Блока в газете «Русская молва». Необходимо ответить на вопрос: что из себя представляла сама газета? Она остается до сих пор не исследованной.
В частности, предстоит уточнить ее политическую направленность, поставить вопрос о том, в какой степени это существенно для филологических исследований вообще, и пересмотреть репутацию «Русской молвы», на которую вплоть до начала XXI в. повлияла оценка ее В.И. Лениным, данная им в 1913 г. Аттестация газеты как «буржуазной» и «националистической», в лучшем случае - «либерально-буржуазной», оказывается неверной. Более корректным представляется характеризовать ее как либеральную и независимую.
До сих пор «Русская молва» неизбежно бывала названа согласно ленинской аттестации, воспринятой как директива, «либеральная, буржуазно-националистическая газета» [Максимов, Шабельская 1962, 763].
Но «Русская молва» заявляла о себе как об издании беспартийном и независимом, больше того - оппозиционном по отношению к правительству. Ее содержание, рассчитанное на широкую образованную аудиторию, показывает, что она в самом деле была такой.
Положение либеральной журналистики, близкой к кадетской партии, еще нуждается в уточнении. Так, Тыркова, возглавлявшая в ЦК Партии народной свободы бюро печати, пишет:
«<...> влиятельной прессы, отвечающей авторитету партии, создать к.-д. не удалось. У ЦК не было своей газеты. Одно время выходил “Еженедельник Партии народной свободы”, но его запретили. Московские “Русские ведомости” по духу и составу почти сливались с к.-д., но эта старинная, влиятельная газета партийным указкам не подчинялась. <...> Неофициальным центром к.-д. публицистики была издававшаяся в Петербурге газета “Речь”. Она была независима от ЦК, но это был

наиболее показательный к.-д. орган, уже благодаря тому, что во главе его стоял П.Н. Милюков. Соредактором его был другой член ЦК - И.В. Гессен» [Тыркова-Вильямс 2007, 369-370].
Но о положении самой Тырковой-Вильямс в газете «Русская молва» надо сказать особо. Видимо, она была фактическим редактором, но ее имя в этом качестве не было обозначено в газете. Издателем был Д.Д. Протопопов, также член ЦК Партии народной свободы, в прошлом участник, как и Тыркова, нелегального Союза освобождения, землевладелец и предприниматель (владелец суконной фабрики), как и Тыркова, дворянин по происхождению. До революции его дважды арестовывали (за агитацию среди крестьян и за подписание Выборгского воззвания против роспуска I Думы). Дважды он подвергся репрессиям и при советской власти (скорее всего, в 1934 г. он погиб в заключении). В 1910-е гг. Протопопов издавал еще журналы «Земское дело» и «Городское дело». Редакторами же «Русской молвы» значились в разное время соиздатель газеты Л.И. Лушников, Л.А. Велихов (педагог, издатель, публицист, общественный деятель), А.А. Стахович (один из учредителей Союза освобождения, член 2-й Государственной Думы, известный деятель либерального движения), приват-доцент Петербургского университета С .А. Адрианов. Но негласным редактором оставалась на всем протяжении существования газеты Тырко-ва-Вильямс. Она пригласила Ремизова организовать литературный отдел газеты, привлекла к теснейшему сотрудничеству в экономическом отделе П.Б. Струве, создала сеть корреспондентов в Европе.
Итак, ни «Речь», ни «Русскую молву» нельзя считать официальными органами кадетской партии. Важнее, что «Русская молва», как уже говорилось выше, мыслила себя как беспартийное издание - в начале 1910-х гг. в России это было явлением еще в высшей степени непривычным. Уже в первом номере в статье без подписи (вероятно, это тем более должно было прочитываться как общая позиция газеты) читатели могли видеть такой тезис:
«Для публицистики партийность только тормоз. <...> Ошибками может быть заражена и внепартийная политическая мысль. Но ей легче перестроиться. Она свободна от балласта связанных с определенным историческим моментом программных лозунгов. Над ней не тяготеет запрещающая подавать свой личный голос дисциплина. Политическая индивидуальность свободней развивается и процветает в условиях беспартийности» [Б.и. 1912, 4] (курсив автора. -Е.О2).
Одним из ярких публицистов газеты был сам Протопопов. В том же первом номере была помещена его статья. Вот как объяснял он необходимость новой газеты:
«.. .нас <.. > ведет за собой ожидание великих перемен, совершающихся в нашей родине. Далеко отошли былые дни освободительного подъема, но подходит конец и сменившим их годам уныния и унижения. Даже эти тяжелые годы недаром и не бездеятельно пережиты нашей родиной. В горьких муках рождался опыт. <...> Мы у порога третьей полосы нашей жизни, синтеза двух предшествующих. <...> Надо разбить уныние, превратившееся в один из канонов русского интеллигента» [Протопопов 1912, 3].
Умеренная оппозиционность членов редколлегии и издателя проявляется в идее разумного компромисса между обществом и правительством. В другой статье Протопопов пишет:
«<.. .> нормальный государственный порядок держится прежде всего на компромиссе между обществом и властью <...> все дело - в ряде взаимных разумных уступок, которые никогда не должны рассматриваться с точки зрения одного престижа власти.
Почти инстинктивно стремится теперь часть русского общества к тому, чтобы найти хоть какую-нибудь точку для соглашения с теперешними носителями власти, - только для того, чтобы вывести страну из невозможного состояния. <...> Обществу нужны не слова, а поступки» [Протопопов 1913а, 2].
Как видим, буржуазной «Русскую молву» назвать никак нельзя, не покривив против истины. Напротив, одной из сквозных тем публицистических выступлений Протопопова можно назвать призыв к пробуждению гражданского самосознания, критического отношения к правительству. Любые проявления такой, мы бы сказали, бодрости гражданского духа Протопопов готов приветствовать. Один из его материалов построен как беседа оптимиста и пессимиста о русской современности. Легко увидеть, что позицию оптимиста разделяет и сам автор:
«<.. .> какой-то цикл завершается, и роковым образом должны мы скоро будем вступить в другой. Во всех классах общества замечается иное настроение - везде стремление к устройству жизни на новых началах, стремление к организации, к практическому делу. Это только интеллигентные верхи общества утомлены, разочарованы, как бы обожжены событиями, ход которых они начертывали совершенно иначе. Широкие слои только выиграли; просветлело у них в головах, сознали они себя людьми, приобщаются к общей духовной жизни, перестают быть только рабочими муравьями. Правительство до сих пор шло наперекор всем этим стремлениям, боясь призраков, но и оно не может не испытывать веяний времени, силы общественного мнения. И ему придется вскоре икать новых путей. <...> Все жарче споры. Это к добру» [Протопопов 1913b, 3].
Итак, «Русскую молву» с полным правом можно назвать газетой либеральной, но пора освободить это слово от тех негативных коннотаций, которые оно приобрело в устах Ленина и которыми продолжало обрастать в качестве обязательной оценки на протяжении десятилетий. Например, в статье «Сильная власть и либеральная политика» Струве доказывал, что
любое государство, а особенно Россия, для того чтобы быть сильным, не может не быть либеральным:
«Россия фактически не принадлежит к “парламентарным” государствам, где состав парламента всецело определяет собой состав правительства и политику власти <...>. О таком политическом укладе говорят, что при нем правительство перед народным представительством не является политически ответственным. Это совершенно верно. Но вот что часто забывают: отсутствие “политической ответственности” обозначает высшую степень ответственности государственной и, если угодно, исторической. Кому много дано, с того много спросится, вернее, много должно быть спрошено. <.. > власть для того, чтобы быть сильной, должна быть прогрессивной и либеральной.
Это ясно вообще, это вдвойне ясно для России. <.. >
Никогда еще для творческой либеральной политической власти все условия не складывались так благоприятно. <.. >
Либо у нас будет непрерывно усиливаться отчужденность активных и прогрессивных сил от государства и капитал здорового консерватизма будет по-прежнему равняться нулю и даже подменяться чисто отрицательно величиной -правым хулиганством, которое в 24 часа превращается в хулиганство левое. Либо Россия, наконец, получит сильную власть, способную и готовую твердо, я бы сказал с суровой непреклонностью, устраняющей какое-либо примирение с идеями и навыками старого порядка, осуществлять либеральную политику.
Только при этом условии Россия сможет отстоять себя в мировой борьбе...» [Струве 1912, 4].
Как видим, многие мысли не утратили своей актуальности и более ста лет спустя, хотя писалось это в преддверии мировой войны, о которой думали и говорили уже даже в 1912, тем более в 1913 г, далеко не мирном, -лишь потом, в свете войн и революций, он постепенно начинал представляться пережившим его едва ли не идиллическим.
Нам остается рассмотреть еще вопрос о том, в самом ли деле верна характеристика «Русской молвы» как газеты националистической.
И это в корне противоречит тому, что писала газета на протяжении всей своей недолгой истории. Например, 17 июля 1913 г. (№ 210. С. 4) «Русская молва» приветствует ВТ. Короленко, поздравляя его с 60-лети-ем. Этим материалам посвящена почти целая полоса. В другом номере помещено сочувственное изложение его новой статьи, в которой он вновь выступает против шовинизма и национализма. А еще раньше, в декабре 1912 г, М. Славинский с негодованием пишет о польском антисемитизме. Позиция «Русской молвы такова»:
«Для русского прогрессивного общества и русские поляки, и польские евреи не “граждане второго сорта”, а просто русские граждане. И если поляки по отношению к евреям решили обратиться к политике Победоносцева, говорившего о том, что еврейского вопроса не существует, так как 1/3 евреев эмигрирует, 1/3
умрет от голода, а последняя 1/3 будет уничтожена, - то русскому прогрессивному обществу с поляками не по пути» [Славинский 2012, 3].
Такие примеры можно еще множить. «Пасынки жизни» - так назывался материал, посвященный «инородческому вопросу» [Б.п. 1913, 7], до сих пор, как свидетельствовал автор, не разрешенному в России. Другая статья рассказывала о жизни в черте оседлости. Характерен ее заголовок: «Дети гетто России» [Арский 1913, 4].
Репутация «Русской молвы», установившаяся за ней на протяжении многих десятилетий вплоть до начала XXI в., должна быть решительно пересмотрена. Только внимательное изучение ее содержания поможет опровергнуть субъективные и в корне неверные оценки, избежать неточностей, встречающихся и в наше время. Что же до политической оценки газеты Лениным, то тут уместно вспомнить строки М. Волошина из поэмы «Россия»:
Политика - расклейка этикеток, Назначенных, чтоб утаить состав...
Противопоставить этому можно только анализ фактов. Тогда «состав» вещества (в данном случае - направленность и качество газеты «Русская молва») предстает в его настоящем виде, и мы с полным правом можем сказать, что «Русская молва», несмотря на то что просуществовала она всего 9 месяцев, была одним из самых ярких явлений отечественной журналистики.
Но сказав все это, подошли ли мы к пониманию «Русской молвы» как историко-литературного феномена?
И да, и нет. Понятно, что «Русская молва» была достойной того, чтобы в ней выступил Блок. Понятно, что выбор редакции (конкретно - Тыр-ковой-Вильямс) не был случайным. Вероятно, Тыркова уже в 1912 г. понимала то, что тогда вовсе не было очевидно для всех, - значение фигуры Блока. Понятно, что в контексте первого номера статья Блока тоже выглядела программной, хотя касалась «всего лишь» отношения журналистики к искусству. Если задачей Протопопова и его единомышленников была консолидация свободолюбивых сил страны, конструктивная оппозиция правительству, формирование общественного мнения (во что, по-видимому Протопопов безоговорочно верил, если, помимо своих занятий промышленника, землевладельца и политического деятеля, издавал два журнала и теперь еще ежедневную газету), - то и для Блока участие в такой газете отнюдь не шло против его принципов. Его размышления о том, что в обществе есть здоровые силы, способные внутренне противостоять «литературному хамству и хулиганству», перекликаются в контексте газеты с уверенностью Протопопова, обращавшегося именно к этим же силам общества. Другое дело, что взгляд Блока уже в 1912 г. был, по-видимому, совсем не таким оптимистичным и что Протопопов сложнейшего вопроса
о соотношении жизни и искусства вовсе не ставил. А «литературное хулиганство», о котором говорит Блок, корреспондирует, по-видимому совер шенно независимо от авторов, с «хулиганством политическим», о котором пишет Струве. Но, конечно, семантические ореолы слова в обоих случаях несколько различны.
Но также понятно, что Тыркова была по-своему права, настаивая на сокращении у Блока острых, даже резких мест, направленных против журналистов, и что конфликт был, вероятно, неизбежен, поскольку содержался в самом соединении двух различных начал, - как об этом и написал сам Блок еще до всякого конфликта.
Но чтобы ответить на вопрос, получилось ли у «Русской молвы» то, что предлагал Блок, - совсем развести материалы об искусстве и все остальное, говорить об искусстве не так и не в том стиле, как принято говорить о злобе дня, - нужно рассмотреть, как писала об искусстве газета на протяжении всей своей недолгой - девятимесячной - истории. Это должно составить предмет отдельного исследования.
Список литературы Статья А. Блока "Искусство и газета" в контексте "Русской молвы"
- Арский К. Дети гетто России (Ряд впечатлений) // Русская молва. 1913. № 227. 31 июля. С. 4.
- Блок А.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 8. М.; Л.: Гослитиздат, 1963. 171 с.
- Блок А.А. Полное собрание сочинений: в 20 т. Т. 8. М.: Наука, 2010. 602 с.
- [Б.п.] Беспартийность // Русская молва. 1912. № 1. 9 декабря. С. 4.
- [Б.п.] Пасынки жизни // Русская молва. 1913. № 44. 24 января. С. 7.
- Магомедова Дина. Неизвестный текст Александра Блока: статья «Искусство и газета» как текстологический казус // Острова любви БорФеда. Сборник к 90-летию Бориса Федоровича Егорова / ред.-сост. А. Дмитриев и П. Глушаков. СПб.: Росток, 2016. С. 575-579.
- Максимов Д.Е., Шабельская Г. А. Примечания // Блок А.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 5. М.; Л.: Гослитиздат, 1962. С. 712-793.
- Протопопов Д. Зачем новая газета? // Русская молва. 1912. № 1. 9 декабря. С. 3.
- (а) Протопопов Д. Как быть Москве? // Русская молва. 1913. № 52. 1 февраля. С. 2.
- (Ь) Протопопов Д. Оптимист и пессимист. Беседа // Русская молва. 1913. № 195. 29 июня. С. 2.
- Славинский М. О польском антисемитизме // Русская молва. 1912. № 15. 23 декабря. С. 3.
- Струве П. Сильная власть и либеральная политика // Русская молва. 9 декабря 1912. № 1. С. 4.
- Тыркова-Вильямс А.В. На путях к свободе. М.: Московская школа политических исследований, 2007. 390 с.