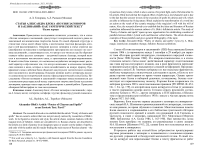Статья Александра Блока "Поэзия заговоров и заклинаний" как эзотерический текст. Часть первая
Автор: Топорков Андрей Львович, Рычков Александр Леонидович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (56), 2021 года.
Бесплатный доступ
Проведенное исследование позволило установить, что в статье «Поэзия заговоров и заклинаний» присутствует эзотерический подтекст, ранее не замеченный исследователями творчества Блока. По своей образной структуре и стилистике статья имеет общие черты с магическими текстами фольклора, которые в ней рассматриваются. Описание русских заговоров в статье строится как своеобразное путешествие в воображаемом пространстве или подъем «по лестнице заклинаний», а заканчивается тем, что автор и его читатель как бы обретают главную тайну русских заговоров - загадочный камень Алатырь, который является и источником мистического света, и христианским алтарем-жертвенником. В своей статье Блок показал, что магическое воздействие заговоров имеет реальный характер и обусловлено тем, что колдун вкладывает в исполнение заговоров свои желания и волю, которые в силах воздействовать на живую природу. Превращение слова в действие Блок объясняет как результат экстатического слияния воли заклинателя с волей природы. Показано влияние идей и литературы русского символизма на эзотерический подтекст фольклористической статьи Блока. Исследование «Поэзии заговоров и заклинаний» открывает новые возможности для установления ряда параллелей между лирическим творчеством Блока и русскими заговорами, примеры таких параллелей рассмотрены в данной работе. Приведена обширная библиография по теме исследования.
Александр Блок, «Поэзия заговоров и заклинаний», лирика А. Блока, магия, эзотеризм, метафора, теургия, фольклор, русский символизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149136600
IDR: 149136600 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00012
Текст научной статьи Статья Александра Блока "Поэзия заговоров и заклинаний" как эзотерический текст. Часть первая
Статья «Поэзия заговоров и заклинаний» (ПЗЗ) была написана Блоком осенью 1906 г. (в промежутке между 5 сентября и 29 ноября) для первого тома «Истории русской литературы», посвященного народной словесности [Блок 1908; Кумпан 1983]. И в жанрово-тематическом, и в стилистическом аспекте статья имеет двойственный характер: подготовленная как глава научно-популярного издания, она в ряде фрагментов переходит в орнаментальную прозу, насыщенную сложной метафорикой. При редактировании статьи Е.В. Аничков вычеркнул из нее несколько фрагментов, наиболее чужеродных стилистически для издания в целом, и Блок не возражал против такой правки во время чтения корректуры. Однако оригинальный текст Блока в наборной рукописи, по-видимому больше соответствует его первоначальному замыслу. В архиве Блока сохранилась эта наборная рукопись ПЗЗ с многочисленными правками [РО ИРЛИ. Ф. 654. On. 1. Ед. хр. 179], по которой нами далее цитируется статья (с указанием в тексте сокращенно номера листа). Согласно списку рукописей, составленному Блоком в 1912 г, другие материалы к ПЗЗ хранились в Шахматове и предположительно погибли в 1918 г. вместе с частью архива поэта [Орлов 1937, 565-566].
Вероятно, Блок получил первые сведения о заговорах из университетских лекций И.А. Шляпкина и рекомендованной им литературы, а возможно еще раньше, во время обучения в гимназии. Многочисленные пометы Блока имеются в сохранившейся в его библиотеке трехтомной «Истории русской словесности древней и новой» под редакцией А.Д. Галахова, в частности, в главе о заговорах, написанной П.О. Морозовым [Морозов 1880; Библиотека А.А. Блока 1984, I, 163-190]. Нам неизвестно, когда именно Блок приобрел это издание; его рекомендовал в своих лекциях И.А. Шляпкин [Шляпкин 1913, 25], однако Блок мог пользоваться им и до поступления в университет.
В процессе работы над статьей Блок добросовестно проштудировал научные разыскания о заговорах и познакомился с основными изданиями русской, украинской и белорусской магической поэзии. В своей статье он цитирует или пересказывает близко к тексту фрагменты из работ

Ф.И. Буслаева, В.И. Даля, А.Н. Афанасьева, А.А. Потебни, Н.В. Крушев-ского, А.Н. Веселовского, Вс.Ф. Миллера, Е.В. Аничкова.
Нужно учитывать, что заговоры привлекали особое внимание исследователей второй половины XIX - начала XX в. Магические тексты отнюдь не воспринимались тогда как маргинальная тема, как это стало позднее в советский период. Для ученых мифологической школы заговоры представляли чрезвычайный интерес как остатки дохристианской магической поэзии. Психологическая школа видела в заговорах проявление особого мифологического восприятия мира. С точки зрения теории заимствования имели ценность наблюдения над миграциями заговорных сюжетов и их источниках в культурах Древнего Востока и античности. Наконец, заговоры, наряду с другими тестами, привлекались исследователями исторической поэтики. Таким образом, какие-то сведения о заговорной традиции Блок получил в процессе университетского обучения при чтении классиков русской филологической науки.
В то же время, судя по тексту ПЗЗ, научный подход к заговорам не удовлетворял Блока, поскольку не мог объяснить те вопросы, которые больше всего волновали поэта-символиста, прежде всего о природе теургического творчества и о том, как и почему ритмизованный текст, произнесенный человеком, превращается в дело и действие. Не нравились Блоку и существовавшие к тому времени объяснения образов камня Алатыря, олицетворенной Тоски, одушевленной Зари с именем Мария; «более точных или простых психологических разъяснений», по мнению Блока, требуют призывания огня, грозы, ветра и др. (л. 39).
Исследователи до сих пор уделяли основное внимание ПЗЗ в связи с проблемой фольклоризма творчества Блока и кругом источников, которые он использовал при написании статьи. Между тем статья Блока не вполне соответствует жанру главы в «Истории русской литературы», на что обратили внимание уже первые рецензенты. Например, А. Изгоев (Ланде) хвалил издание за «внешнюю красоту» (наличие портретов исследователей, фотографий народных построек и типических лиц, хромолитографий лубочных картинок), однако далее писал:
«Что касается текста, то тут нельзя не отметить, что за дело взялись люди, его знающие и любящие. Но для какой публики предназначили они свою историю? Боюсь, что этим вопросом редакторы даже не задавались, что их совершенно не интересовало, какой подготовкой должен обладать читатель. Что хотели они дать: “курс” или сборник статей, написанных случайно? Поэтому-то рядом с добросовестным, но надо сознаться, скучным конспектом г. Халанского из современных изысканий о русских сказках, мы находим яркую, но чересчур “индивидуалистическую”, или, как говорят в просторечии, “декадентскую” статью А. Блока о заговорах. Объяснение силы заговоров тем, что “мировая кровь и мировая плоть празднуют брачную ночь, пока еще не снизошел на них злой и светлый дух, чтобы раздробить и разъединить их”, вполне уместно в статье А. Блока в “Золотом Руне”, но едва ли может быть допущено в “Истории”, поставившей себе задачу

дать экстракт научных изысканий в данной области. Во всяком случае издание роскошное и литературное...» [Изгоев 1908, 5].
М.Н. Сперанский в своей рецензии на «Историю русской литературы» упомянул «своеобразную по стилю» статью ПЗЗ как «ничего общего с наукой или научным изложением не имеющую» [Сперанский 1909, 36].
При чтении статьи бросается в глаза ее стилистическая неоднородность, о чем уже писала К.А. Кумпан:
«Два языковых пласта организуют текст блоковской статьи: дискурсивно-логический и образно-лирический. Их стилистическими полюсами служат цитаты из научных академических трудов и фольклорные тексты. Авторская речь тяготеет то к одному, то к другому полюсу, свободно перемещаясь с позиции носителя поэтического сознания на позицию отстраненного исследователя. При этом переход к нейтральному научному стилю более маркирован, чем переход от фольклорной цитаты к авторскому слову: как правило, это сигнал о наличии скрытой цитаты или реминисценции из исследовательской литературы. Таким образом, дискурсивный языковой пласт, состоящий из инородных образований, дискретен и полифоничен» [Кумпан 1985, 34].
На наш взгляд, в статье следует выделить не два, а три стилистических регистра: дискурсивно-логический, образно-лирический и фольклорный. Если фольклорный пласт включает цитаты из заговоров, молитв, закли- чек, народных рассказов о колдунах, ведьмах и демонических персонажах, то образно-лирический пласт объединяет фрагменты, отмеченные особой метафорикой, ритмизацией и своеобразным «витием словес». Приведем в качестве примера один из таких фрагментов, упомянутый выше в рецензии А. Изгоева (Ланде):
«Заклинатель всю силу свою сосредоточивает на желании, становится как бы воплощением воли. Эта воля превращается в отдельную стихию, которая борется или вступает в дружественный договор с природой - другою стихией. Это - демоническое слияние двух самостоятельных волений; две хаотические силы встречаются и смешиваются в злом объятии. Самое отношение к миру теряется, человек действует заодно и как одно с миром, сознание заволакивается туманом; час заклятия становится часом оргии; на нашем маловыразительном языке мы могли бы назвать этот час - гениальным прозрением, в котором стерлись грани между песней, музыкой, словом и движением, жизнью, религией и поэзией. В этот миг, созданный сплетением стихий, в глухую ночь, не озаренную еще солнцем сознания, раскрывается, как ночной цветок, обреченный к утру на гибель, то странное явление, которого мы уже не можем представить себе: слово и дело становятся неразличимы и тожественны, субъект и объект, кудесник и природа испытывают сладость полного единства. Мировая кровь и мировая плоть празднуют брачную ночь, пока еще не снизошел на них злой и светлый дух, чтобы раздробить и разъединить их» (л. 16-17).
В образе «ночного цветка, обреченного к утру на гибель», вероятно, сочетаются народные поверья о том, что папоротник цветет один раз в год в Купальскую ночь, и романтические представления о Голубом цветке, восходящие к роману Новалиса «Генрих фон Офтердинген»; см. в докладе Блока «О современном состоянии русского символизма» (1910): «...символист уже изначала - теург, то есть обладатель тайного знания, за которым стоит тайное действие; но на эту тайну, которая лишь впоследствии оказывается всемирной, он смотрит как на свою; он видит в ней клад, над которым расцветает цветок папоротника в июньскую полночь; и хочет сорвать в голубую полночь - “голубой цветок”» [Блок 2010, VIII, 124] (см. также коммент. Д.М. Магомедовой: [Блок 2010, VIII, 413-414]).
Красочное описание цветения папоротника имеется в повести Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» (1830). Согласно народным поверьям, в Купальскую ночь происходят чудесные события: деревья передвигаются с места на место и разговаривают друг с другом, клады становятся видны под землей и выходят на поверхность и т.д. В прошлом в эту ночь допускались свободные отношения между парнями и девушками. Таким образом, события, которые описывает Блок, вполне вписываются в контекст народной мифологии.
Сочетание образно-лирического пласта с дискурсивно-логическим далеко не всегда имеет в ПЗЗ органический характер и в некоторых местах даже создает эффект стилистического диссонанса. Несколько заостряя проблему, можно сказать, что в одной статье как бы вложены друг в друга три разных текста, объединенные общей тематикой, но достаточно разнородные в стилистическом отношении.
Если, условно говоря, «разобрать» статью на три части, то в одной останутся пересказы научных текстов, довольно близкие к первоисточникам, в другой - цитаты из фольклорных текстов, их пересказы или своеобразные коллажи, объединяющие несколько заговоров, а в третьей - образные, лирические фрагменты.
Для темы нашей статьи именно эти фрагменты, написанные орнаментальной прозой, представляют наибольший интерес. Свою авторскую интенцию Блок сформулировал в первом же предложении статьи: «То, что было живой необходимостью для первобытного человека, современные люди должны воссоздавать окольными путями образов» (л. 1). В тематическом отношении переход от дискурсивно-логического и фольклорного пластов к образно-лирическому как правило, связан с обращением к проблемам теургии, единства слова и дела, преображения мира и телесной метаморфозы, мистического света и его источников, творческой силы ритма, мистической связи любви и смерти и т.д.
Наша гипотеза заключается в том, что для решения вопросов, которые волновали Блока, он обращался не только к научным трудам по народной словесности, но и к другой познавательной стратегии, связанной с символистскими идеями свободной теургии. Лирические фрагменты статьи,
вероятно, были призваны создать своеобразный квазимагический текст, воздействующий завораживающе на читателя подобно тому, как народные заговоры воздействуют на своих адресатов.
Многие характеристики образно-лирического пласта получают свое объяснение при сравнении с фольклорным пластом, т.к. Блок в своем пояснительном тексте, по-видимому, попытался воспроизвести некоторые особенности построения и образной системы русских заговоров подобно тому, как он воспроизводил эти построения в своей лирике начала 1900-х гг, сознательно прибегая к заклинательным практикам. В этой связи исследователи уже давно не только указывают на перенесение многообразных фольклорных образов и мотивов в блоковскую поэзию (о чем будет подробно сказано далее), но и ставят вопрос о включении Блоком в состав стихотворений структурно-композиционных элементов народных заговоров [Игошева 2017, 150], т.е., фактически, о появлении в лирике Блока к началу 1907 г. особого «жанра заклинания», процесс формирования которого начался уже в раннем творчестве поэта [Солошенко 1984, 31, 34]. В этом смысле описание художника как заклинателя в тематически связанной с ПЗЗ статье «О современном состоянии русского символизма» для лирики Блока, вероятно, отчасти приобретает не только символическое, но и буквальное значение. Во всяком случае, стилистические приемы, которые встречаются уже в первом томе лирики Блока и включают символическое изображение действий заклинателя и троекратные императивные призывания, действительно связывают его поэзию с «жанром заклинаний».
Таким образом, младо символистские «теургические» искания Блока рассматриваются современными исследователями, в частности, как «очевидный опыт модернизации архаической народной словесности и направления ее на выполнение собственных теургических задач. Народная поэзия заговоров и заклинаний интересует Блока далеко не только как источник образов и сюжетов - она обладает для него значением целостной системы, особого раздела народного творчества, которое имеет перформативный характер, в высшей степени интриговавший Блока, искавшего новые пути воздействия слова на реальность» [Игошева 2017, 155].
Приведенные гипотезы, высказанные относительно поэзии Блока, могут быть соотнесены и с его прозаическим опытом обращения к славянской фольклорной традиции в ПЗЗ, в лирических фрагментах которой мы находим своеобразный квазимагический текст. В этой статье Блок размышляет о таинствах искусства перформативной речи в заговорной народной поэзии как единстве слова и действия, пользы и красоты, а также о практике воплощения этой речи в текстах заговорной традиции, ряд которых современная фольклористика именует «историолами»: действие этих сопутствующих процедуре экзорцизма мифологических повествований происходит в сакральном (в т.ч. литургическом) пространстве, в которое как бы втягивается читатель или слушатель. К таким историолам относят, например, многие заговоры от трясавиц, которым Блок уделяет пристальное внимание в ПЗЗ (об этих историолах
см. в комплексном исследовании [Топорков 2017]).
Согласно основному тезису предлагаемой работы, на основе структурированного особым образом рассмотрения заговоров (с привлечением авторской мифологемы «пути» по отношению к читателю, внесения элементов заговоров в образно-лирический комментарий и т.д.) А. Блок создает в ПЗЗ некий квазимагический «эзотерический подтекст», что и вынесено нами в заглавие работы. Но поскольку общепринято эзотерическими называют собственно тексты древних мистических учений и практик, в т.ч. магические, постольку эзотеризм блоковских лирических фрагментов в ПЗЗ здесь может одновременно рассматриваться применительно к научной категории для обозначения субкультурных движений с т. из. «очарованным» мировоззрением, к которым современные исследователи «западного эзотеризма» относят русский символизм, в т.ч. ряд текстов А. Блока (см. об этом, наир.: [Faivre 2010, 104; Ханеграаф 2016]). В отборе, интерпретации и комментированной подаче фольклорного материала Блок во многом опирается на личный опыт поэта-символиста и «цеховые» мировоззренческие позиции русского символизма, что будет рассмотрено далее.
«Поэзия заговоров и заклинаний» в контексте лирической поэзии А. Блока
Рассматриваемая гипотеза находит свое подтверждение в наблюдениях ряда отечественных и зарубежных исследователей о том, что, по формулировке немецкого литературоведа Эрики Гребер: «в статье о магических фольклорно-культурных текстах и практиках “Поэзия заговоров и заклинаний” Блок связывает в едином контексте научный предмет с собственным творчеством этого периода, что позволяет ему раскрыть тесную взаимосвязь между народной культурой, магией и литературой, которая занимала поэта в октябре 1906 года. Таким образом, эта полифонически написанная статья - ключевой текст для стихотворений, написанных Блоком в тот же период» [Greber 2002, 232]. В качестве примера Э. Гребер приводит стихотворение «Угар» (окт. 1906) [Greber 2002, 235].
Ш. Шахадат находит аллюзии к заговорным особенностям воплощения слова в способах инсценировки мифа в лирической драме «Король на площади» (1906) [Schahadat 1995, 137-138]. И.С. Приходько показывает, что символизм пыли, кружащихся пылевых и снеговых столбов в «Короле на площади» и последующих произведениях наследует фольклорные традиции обозначения разгула демонических сил, рассмотренные Блоком в ПЗЗ [Блок 2014, VI-1, 484].
Работы этих и других исследователей в целом подтверждают и иллюстрируют на конкретных примерах тезис, сформулированный К.В. Мочульским в биографической монографии «Александр Блок» (1948): «Образ темной демонической России вырос из работы о заговорах и заклинаниях. В статье уже даны черновые наброски к стихам. <.. .> Лицо блоковской “Руси” рождается не из русских былин, песен и сказок, а из
народной магии заговоров и заклинаний...» [Мочульский 1948, 149-150].
В примечании к стихотворению «Русь», написанному 24 сент. 1906 г. (т.е. одновременно со статьей о поэзии заговоров), сам Блок указал, что «все это подлинные образы наших поверий, заговоров и заклинаний (см. мою статью “О заговорах и заклинаниях” в “Истории Русской литературы”...)» [Блок 1997, II, 220]. Эти авторские примечания были опубликованы в сб. «Нечаянная радость» (М.: Мусагет, 1912), основной отдел которого Блок называет «Магическое» [Блок 1997, II, 219]. Ряд образов стихотворения «Русь» действительно имеет прямые параллели с текстом ПЗЗ (Блок 1997, II, 681-683), как и стихотворения «Сын и мать» (3-4 окт. 1906, см.: [Блок 1997, II, 687]), «Колдунья», где заклинания предстают как творческий обряд [Блок 1997, II, 695-696], а также лирический цикл / поэма «Снежная маска» (29 дек. 1906 - 13 янв. 1907), основным источником образности которой служат русские заговоры и сопутствующая им народная демонология [Блок 1997, II, 782, 792, 798], и т.д. Необходимо отметить, что в первой публикации («Весы», 1908, № 3) цикла «Заклятие огнем и мраком» (1907), непосредственно примыкающего к «Снежной маске», согласно наблюдению редактора восьмитомного «Собрания сочинений» А.А. Блока В.Н. Орлова: «...каждое из одиннадцати стихотворений, составляющих цикл, имело свое заглавие, причем в последовательном чтении заглавия эти слагались в законченную “заклинательную” фразу: “Принимаю - В огне И во мраке - Под пыткой - В снегах - И в дальних залах -Пу края бездны - Безумием заклинаю - В дикой пляске - И вновь покорный - Тебе предаюсь”» [Блок 1960, II, 432].
Итоги фольклористического опыта Блока отразились и в его прозе, начиная с эссе «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (1903 - окт. 1906) [Блок 2003, VII, 272, 274]. По заключению А.Б. Блюмбаума, ПЗЗ и «Стихия и культура» (1908) также тесно связаны друг с другом [Блюмбаум 2015, 64].
Некоторые из фольклорных образов и характеристик магического действа, рассмотренные в ПЗЗ, прочно входят в тезаурус символического лексикона блоковской лирики, как, например, образы камня Алатыря, звездного пояса мага и др. На последнем примере следует остановиться особо.
Исследуя особенности перформативной речи в заговорной народной поэзии, Блок пишет в ПЗЗ о власти «над словом, превращающей слово в дело»; заклинателю «довольно простого слова; притом же это слово и не всегда выполнимо: “Оболокусь я оболоком, обтычусь частыми звездами”, - говорит заклинатель; и вот он - уже маг, плывущий в облаке, опоясанный Млечным Путем, наводящий чары...» (л. 18). Образ этого пояса, не найденный исследователями в известных Блоку фольклорных источниках, в блоковской лирике откликается магическим атрибутом падшей Софии, см., наир.: «Я в дольний мир вошла, как в ложу» (1 янв. 1907) и «В снегах» (9 янв. 1907), что поясняется Блоком в более раннем стихотворении «Твое лицо бледней, чем было...» (март 1906): «Серебряный твой узкий пояс - Сужденный магу млечный путь» [Блок 1997, II, 122]. Одна-

ко этот же образ присутствует в таких еще более ранних стихотворениях, как «Пляски осенние» (1 окт. 1905) и «Эхо» (4 окт. 1905) цикла «Пузыри Земли», и происходит, по всей вероятности, из символики млечного венца мага и софийной млечной стези в стихотворении 1904 г. «Ночь», навеянного Блоку литературным образом В. Брюсова [Кумпан 1985, 37; Блюмбаум 2017, 23-24, прим. 19] и, возможно, брюсовскими стихами «Приветствие» того же 1904 г.
В софийных коннотациях опоясывания звездным поясом свою роль для Блока могла представлять возможная аллюзия на линию звезд по Млечному Пути, именуемую «Девичьи зори» в святочных гаданиях, приводимых И.П. Сахаровым в его книге «Сказания русского народа», на которую Блок ссылается в ПЗЗ. Символизм «зорь», имевший отчетливые софийные коннотации соловьевской «Девы радужных ворот», являлся, по заключению А.В. Лаврова, общим истоком литературных биографий Блока и А. Белого как «“эпоха зорь”, сформировавшая их внутренний мир и определившая их творческий облик, эпоха, обоими осознававшаяся уже как история, но как действенная история...» [Лавров 2007, 231].
Было показано, что сам мотив «чудесного одевания» заклинателя из русских заговоров (в данном случае - облаком и звездами, о мотиве см.: [Топорков 2005, 148]) переходит от фольклорных протагонистов к лирическим героям Блока уже в «Стихах о Прекрасной Даме» и становится одним из показателей целостности блоковского творчества [Евдокимова 2015, 147-161].
Это означает, что фрагменты образно-лирического пласта ПЗЗ раскрывают символику фольклорных текстов, к которой Блок обращался в своей лирике до начала работы над статьей, например, в ряде включенных в раздел «Магическое» сборника «Нечаянная радость» стихов 1904 - 1905 гг. Действительно, восходящая к античной мифологии символика пряжи, которая также привлекается в ПЗЗ, появляется уже в стихах 1904 г. «Все бежит, мы пребываем ...», «Гроб невесты...», «Сон» из «Ночной Фиалки» (май 1906) и др. Также и обсуждаемое в ПЗЗ поверье о том, что «девушка насылает любовь, когда машет рукавами», появляется уже в стихах 1905 г: «Прискакала дикой степью /<...> Рукавом в окно мне машет» [Блок 1997, II, 68, 658].
В ПЗЗ Блок говорит об «обращающей сердце заклинателя в красный уголь» страсти (л. 34), используя пушкинский образ («Пророк», 1826), переосмысленный ранее Блоком в цикле «Молитвы» (1904): «Мне в сердце вонзили // Красноватый уголь пророка!» [Блок 1997, I, 175]. Здесь, как и в статье Блока «Памяти Врубеля» (1910), образ «художника-заклинателя» несет провиденциальные черты вестника. В стихотворении «Иду - и все мимолетно...» (9 марта 1905), также опубликованном в разделе «Магическое» сб. «Нечаянная радость», Блок обращается к поверьям об огненных змеях-летавицах, в основном почерпнутым им из «Поэтических воззрений славян на природу» А.Н. Афанасьева [Блок 1997, II, 746]; этим поверьям Блок уделяет особое внимание и в ПЗЗ (л. 31).
Н.Ю. Грякалова убедительно показала включенность легенды про летавиц в фольклорные истоки устойчивого семантического комплекса символики змеи в лирике Блока (в т.ч. образа возлюбленной женщины-змеи-кометы) и роль в формировании этого комплекса в обрядах инициации-посвящения с определенными испытаниями [Грякалова 1987, 60-64].
В свою очередь, А.П. Юлова отмечает, что если образная система поэмы «Ночная фиалка» (1905-1906) опирается на архаико-мифологическую традицию и, вероятно, книгу А.Н. Афанасьева, то «основой ее идейноэстетической концепции служат Блоку теоретические положения В. Иванова 1904-1905 гг. <...> о мифологическом “анамнезисе”» [Юлова 1991, 180].
Таким образом, Блок искусно привлекает материалы из фольклористических трудов для иллюстрации мотивов символического познания и теургического преображения мира искусством слова, частично уже нашедших отражение в его лирике, в связи с чем ПЗЗ может быть рассмотрена как своего рода автокомментарий и ключ к тематическим комплексам лирики Блока. В этой связи нельзя не согласиться с мнением одного из первых исследователей ПЗЗ Э.В. Померанцевой о том, что «из сухих академических исследований, этнографических трудов, бездарных компиляций Блок извлекает то, что важно и интересно для него как символиста, познающего через миф <.. .> Привлеченная Блоком литература использована им и переплавлена особым творческим его методом, слита в едином мироощущении» [Померанцева 1958, 208-209].
Список литературы Статья Александра Блока "Поэзия заговоров и заклинаний" как эзотерический текст. Часть первая
- Библиотека А.А. Блока. Описание: в 3 кн. Кн. 1. Л.: БАН, 1984.
- Блок А.А. Поэзия заговоров и заклинаний // История русской литературы / под ред. Е.В. Аничкова, А.К. Бороздина, Д.Н. Овсянико-Куликов-ского. Т. 1. Народная поэзия / под ред. Е.В. Аничкова. М.: Издание Товарищества И.Д. Сытина и Товарищества «Мир», 1908. С. 81-106.
- Блок А.А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: Гослитиздат, 1960. Т. 2.
- Блок А.А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: Гослитиздат, 1962. Т. 6.
- Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Наука, 1997. Т. 1.
- Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Наука, 1997. Т. 2.
- Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Наука, 2003. Т. 7.
- Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Наука, 2014. Т. 6. Кн. 1.
- Блюмбаум А.Б. Поздний Блок и немецкий романтизм: «спасение природы» // Блоковский сборник XIX. Александр Блок и русская литература Серебряного века. Tartu: Издательство Тартуского университета, 2015. C. 56-85.
- Блюмбаум А.Б. Música mundana и русская общественность: цикл статей о творчестве Александра Блока. М.: Новое литературное обозрение, 2017.
- Грякалова Н.Ю. О фольклорных истоках поэтической образности Блока // Александр Блок. Исследования и материалы. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1987. С. 58-68.
- Евдокимова Л.В. Мотив «чудесного одевания (внешности)» в поэзии А. Блока и традиция фольклорного заговора // Русская литература. 2015. № 1. С. 147-161.
- Игошева Т.В. Об элементах заговорного жанра в лирике А. Блока // Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские чтения - 2016): в 2 ч. Ч. 2. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технология и дизайна, 2017. С. 150-155.
- Изгоев Ланде А. [Рец.] История русской литературы. Под ред. Е.В. Аничкова, А.К. Бороздина и Д.Н. Овсянико-Куликовского. М., 1908 г. Вып. 1 и 2-й // Речь. 1908. № 38. 14 (27) февраля. С. 5.
- Кумпан К.А. Заметки об источниках «Поэзии заговоров и заклинаний» // Блоковский сборник V: Мир А. Блока. Тарту: Тартуский государственный университет, 1985. С. 33-45.
- Кумпан К.А. О датировке статьи Блока «Поэзия заговоров и заклинаний» // Вопросы литературы. 1983. № 12. C. 270-273.
- Лавров А.В. Андрей Белый. Разыскания и этюды. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
- Морозов П.О. Заговоры // Галахов А. История русской словесности древней и новой / изд. 2-е, с переменами. СПб.: Типография Морского министерства, 1880. Т. 1. С. 154-157.
- Мочульский К.В. Александр Блок. Paris: YMCA-Press, 1948
- Орлов В.Н. Литературное наследство Александра Блока // Литературное наследство. Т. 27-28. М.: Журнально-газетное объединение, 1937. С. 512-535.
- Померанцева Э.В. Александр Блок и фольклор // Русский фольклор: материалы и исследования. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1958. Т. 3. С. 203-224.
- Солошенко О.И. О жанре заклинаний в поэзии Александра Блока // Поэзия А. Блока и фольклорно-литературные традиции. Омск: Омский государственный педагогический институт, 1984. С. 29-41.
- Сперанский М. [Рец.] История русской литературы. Тт. I и II. М., 1908 // Критическое обозрение. 1909. Вып. 1. С. 36.
- Топорков А.Л. Мотив «чудесного одевания» в русских заговорах XVII-XVIII вв. // Заговорный текст. Генезис и структура. М.: Индрик, 2005. С.143-174.
- Топорков А.Л. (отв. ред.). Сисиниева легенда в фольклорных и рукописных традициях Ближнего Востока, Балкан и Восточной Европы. М.: Индрик, 2017.
- Февралёва О.В. Образы земли и подземелья в символистской картине мира Александра Блока: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. M., 2010.
- Ханеграаф В. Западный эзотеризм: путеводитель для запутавшихся. М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2016.
- Шляпкин И.А. История русской словесности (Программа университетского курса с подробной библиографией). СПб.: Типография Б.М. Вольфа, 1913.
- Юлова А.П. Фольклорно-мифологическая традиция в лирике А. Блока 1903-1906 годов // Блок и литература народов Советского Союза. Ереван: Издательство Ереванского университета, 1991. С. 174-183.
- Faivre A. Western esotericism: a Concise History / transl. Ch. Rhone. Albany, NY: SUNY Press, 2010.
- Greber E. Textile Texte. Poetologische Metaphorik und Literaturtheorie // Studien zur Tradition des Wortflechtens und der Kombinatorik. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2002.
- Schahadat Sch. Intertextualität und Epochenpoetik in den Dramen Alek-sandr Bloks. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1995.