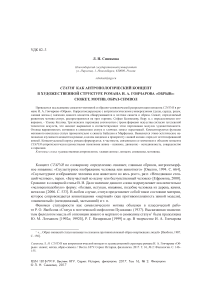Статуя как антропологический концепт в художественной структуре романа И. А. Гончарова "Обрыв": сюжет, мотив, образ-символ
Автор: Синякова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Проводится исследование сюжетно-мотивной и образно-символической репрезентации концепта статуя в романе И. А. Гончарова «Обрыв». Корреспондирующие с антропологическими универсалиями (душа, сердце, разум, «живая жизнь») значения данного концепта обнаруживаются в поэтике сюжета и образа. Сюжет, определяемый развитием мотива статуи, распространяется на трех героинь: Софью Беловодову, Веру и, с определенными оговорками, - Ульяну Козлову. Три женских персонажа соотносятся с тремя формами искусства согласно гегелевской типологии искусств, что находит выражение в соответствующих этим персонажам модусах художественности. Отсюда вариативность мотивики и символики статуи в «личных зонах» персонажей. Комментируются функции мотивного комплекса статуи применительно к сюжету Бабушки и Марфеньки. Выявляется этико-эстетическое наполнение изучаемого концепта в романе, в целом сводимое к приоритету «живой жизни» перед ее эстетизированной копией. Концептуальный корпус романа формируется, в частности, связанными со значением и объемом концепта статуя антропологически ценностными понятиями живое - неживое, движение - неподвижность, совершенство и гармония.
Художественная антропология, "живая жизнь", концепт, символика, мотивика
Короткий адрес: https://sciup.org/147219729
IDR: 147219729 | УДК: 82-3
Текст научной статьи Статуя как антропологический концепт в художественной структуре романа И. А. Гончарова "Обрыв": сюжет, мотив, образ-символ
Концепт СТАТУЯ по словарному определению означает, главным образом, антропоморфное изваяние: «Скульптурное изображение человека или животного» [Ожегов, 1994. С. 664], «Скульптурное изображение человека или животного во весь рост», разг. «Неподвижно стоящий человек», перен. «Безучастный ко всему или бесчувственный человек» [Ефремова, 2000]. Сравним: в словарной статье В. И. Даля значение данного слова подразумевает исключительно «человекоподобную» форму: «болван, истукан, изваяние, подобие человека из дерева, камня, металла» [2006. С. 533]. В любом случае, статуя представляет собой такое состояние материи, которое сопровождается коннотациями «мертвый» (как противоположность живой модели), «окаменелый» (неподвижный, застывший) и т. п.
Феномен статуарности как символического мотива объяснен в классической работе Р. О. Якобсона «Статуя в поэтической мифологии Пушкина» (1937). Высказанная знаменитым филологом мысль об оппозиции живого и мертвого в символике статуи 1 была продолжена Ю. М. Лотманом [1992а; 1992б], Р. Г. Назировым [1999] и др. В творчестве И. А. Гончарова символический мотив статуи наиболее отчетливо проявляется в его последнем романе – «Обрыв».
Присутствие образа-символа статуи в первой части романа прокомментировано с разных точек зрения [Краснощекова, 1997. С. 382–387; Постнов, 1997. С. 93–94; и др.]. Остальные случаи репрезентации этого художественного концепта и ассоциированного с ним мотивного ряда, в целом, обделены исследовательским вниманием (хотя эпизод с ожившими во сне Марфень-ки скульптурами отмечен Р. Г. Назировым [1999. С. 32–33]). Нашей задачей является изучение образа-символа статуи в романе И. А. Гончарова «Обрыв» в качестве антропологического концепта, но, поскольку образ изменяется и движется в художественной структуре романа, сохраняя семантическую инвариантность символа, мы будем затрагивать мотивную перспективу там, где это представляется необходимым для восстановления смыслового объема как образа-знака, так и мотива 2.
Первая репрезентация концепта СТАТУЯ в романе, как уже упоминалось, связана с заявленным в первой части сюжетом о Пигмалионе и Галатее. Борис Райский – Пигмалион стремится пробудить к жизни свою бесстрастную кузину Софью Беловодову. Как Софья, так и активный в первой, «петербургской», части романа приятель Райского Аянов являются своего рода символами столичной жизни, изгнавшей из своего обихода всякие проявления «человечности»: любовь, страсть, сопереживание, сочувствие и т. п. В Аянове, «как солнце в капле», отразились «весь петербургский мир, вся петербургская практичность, нравы, тон, природа, служба – эта вторая петербургская природа, и более ничего. На всякую другую жизнь у него не было никакого взгляда, никаких понятий…» [Гончаров, 1979. Т. 5. С. 8–9] 3. Этот прилежный чиновник и образцовый светский человек убежден: «Страсти мешают жить. Труд – вот одно лекарство от пустоты: дело» (Т. 5. С. 14). Впрочем, любимым «делом» Аянова была карточная игра, разумеется, сдобренная приличным хладнокровием и расчетом. Равнодушие по отношению к внешнему миру и «другим», конечно, не наделяет его признаками статуарности, но отсутствие интереса к жизни, движения (за исключением карьерного) и духовная неподвижность выражают общий фон действия в «петербургской» части романа.
Появление Софьи Беловодовой «рядом» с этим персонажем (он посещает дом Пахотиных, отца и теток героини), в разреженном воздухе столичных гостиных, закономерно. Отметим, что обстановка апартаментов (той их части, в которой обитала Софья с тетушками) внушает мысль об окаменелости, мертвенности: «В доме тянулась бесконечная анфилада обитых штофом комнат; темные тяжелые резные шкафы, с старым фарфором и серебром, как саркофаги, стояли по стенам с тяжелыми же диванами и стульями рококо, богатыми, но жесткими, без комфорта. Швейцар походил на Нептуна; лакеи пожилые и молчаливые, женщины в темных платьях и чепцах. Экипаж высокий, с шелковой бахромой, лошади старые, породистые <…> c побелевшими от старости губами…» (Т. 5. С. 20). Неприспособленность описанного пространства к жизни, постоянные отсылки к теме угасания, умирания (шкафы-саркофаги, пожилые лакеи, служанки в темных одеяниях, «похоронная» бахрома на экипаже, старые лошади) составляют вещный контекст образа-символа статуи в первой части «Обрыва». Довершает ассоциацию с «давно прошедшим» эпическим прошлым, наполнившим дух аристократического дома, сравнение швейцара с Нептуном.
Безупречная красота Софьи Беловодовой заставляет артиста Райского ожидать проявления столь же совершенной витальности, однако невозмутимая героиня, казалось бы, лишена жизни: «Она казалась ему все той же картиной или отличной статуей музея» (Т. 5. С. 23, 24). Ничто не нарушает спокойствия Софьи; она лишь слегка тревожится, услышав про страдания крестьян да испытывает непривычное волнение, когда разговор заходит о графе Милари…
Прекрасную статую должно оживить, поэтому Райский толкует о жизни, а точнее – о ее эмоционально-чувственной составляющей. В представлении Райского это «страсти, тревога, дикая игра событий и чувств…» (Т. 5. С. 23). «Опять “жизни”: вы только и твердите это слово, как будто я мертвая», – возражает Софья (Т. 6. С. 33). Райский, наконец, определяет ведущий мотив сюжета Беловодовой – Галатеи: «Нет, не отжил еще Олимп! <…> Вы…просто олимпийская богиня…» (Т. 5. С. 34).
Поэтому портрет Софьи, которому Райский невольно придает черты некоторого оживления, не находит отклика у его первых зрителей: застывшее сияние оригинала не сочетается с идеей «живой жизни». Аянов флегматично констатирует, что прежний был больше похож, а на поправленном – Софья «как будто пьяна». Райский возмущен, что великолепная статуя так и не ожила на холсте: «…тот (портрет. – Л. С .) был без жизни, без огня, сонный, вялый, а этот!...» (Т. 5. С. 130). Серьезный критик – живописец Кирилов советует переделать изображение, условно говоря, в иконографию (вместо «модной вывески» написать «блудницу у ног Христа») (Т. 5. С. 132, 134). Удрученный этим отзывом Райский формулирует свое художническое и одновременно антропологическое задание: «Нет, Кирилов ищет красоту в небе, он аскет: я – на земле…» (Т. 5. С. 135). «Живая жизнь» как эманация душевной, сердечной и телесной сущностей человека привлекает Райского куда больше, нежели аскеза, отвлеченный от земного нестроения дух.
Когда Райский улавливает незначительные изменения в душевном состоянии героини, вызванные появлением в ее «олимпийской» орбите графа Милари, он грезит наяву об ожившей статуе «с лицом Софьи»: «...воздух заструился, и луч озолотил бледный лоб статуи; веки медленно открылись, и искра пробежала по груди, дрогнуло холодное тело, бледные щеки зардели <…> краски облили камень, и волна жизни пробежала по бедрам <…> из груди вырвался вздох – и статуя ожила <…> И дальше, дальше жизнь вторгалась в пробужденное создание…» (Т. 5. С. 151–152). Райский постигает свой «артистический сон» (Т. 5. С. 151) – в нем «ожил бескорыстный артист» (Т. 5. С. 152). Этим кончается первая часть романа и начинается пробуждение самого Райского к живому участию в его будущем романе («жизнь – роман, и роман – жизнь» (Т. 5. С. 43)).
В сюжете Софьи Беловодовой, самом развернутом «скульптурном» сюжете в произведении, помимо мифологического претекста, можно обнаружить и влияние распространенной в русской образованной среде, особенно в 1840-е гг., философской эстетики Гегеля 4. Великий мыслитель различал символическую, классическую и романтическую формы (равно как и стадии исторического развития) искусства. В символическом искусстве форма еще разобщена с идеей и преобладает над ней: «В ней идея еще ищет своего подлинного художественного выражения, так как она еще абстрактна и неопределенна в самой себе и поэтому не имеет в себе и внутри самой себя соразмерного выявления…» [Гегель, 2007. С. 348]. В классическом искусстве формальная (материал, действительность) и содержательная («свободная в самой себе бесконечная субъективность») стороны произведения совпадают: «Это всецело соразмерное единство содержания и формы служит основой второй, классической формы искусства» [Там же. С. 348–349]. Наконец, романтическое искусство «ищет то совершенное единство внутреннего смысла и внешнего облика, который классическое искусство находит в воплощении субстанциональной индивидуальности для чувственного созерцания и за пределы которого выходит романтическое искусство в избытке своей духовности» [Там же. С. 349]. В романтическом искусстве идея (дух) и форма снова разделяются, «хотя и с противоположной стороны по сравнению с символическим искусством» – дух осуществляется в безграничности [Там же].
Большая или меньшая «встроенность» образов женской персоносферы в романе «Обрыв» в различные эстетические парадигмы замечена достаточно давно (наиболее полно отражена в книге Е. А. Краснощековой [1997]) и, несомненно, «подсказана» автором: классическая
Софья, сентиментальная Наташа, романтическая Вера, сентиментально-идиллическая Мар-фенька и т. д. 5 Применительно к теме настоящей статьи уместно соотнести «скульптурные» тексты трех героинь с гегелевской философско-эстетической системой. В гармоничном образе Софьи наблюдается равновеликость «формы» и «содержания» и подтверждается ее статус «классической» красавицы; как мы убедимся, образ Веры – «статуи» романтически избыточен: его «дух» постоянно преобладает над «формой». «Мерцающая» Вера – «нежное, неуловимое создание», в котором «есть какая-то тайна» (Т. 5. С. 289). Античный облик Ульяны Козловой, в отличие от классического образа Беловодовой, не уравновешивается идеальным (эмоционально нейтральным) «духом». Райский мгновенно разгадал дисгармоничность натуры Ульяны: «…эта <…> римская голова полна тьмы, а сердце пустоты», и тщетны старания Леонтия Козлова преподать ей «“образцы древних добродетелей”» (Т. 5. С. 213). Ульяна выражает «символическую» беспредельность внешнего, формального; «идея» этого персонажа скудна и приземленно-телесна.
Ульяна – персонаж-транслятор «символической», низшей, по Гегелю, формы красоты. Невольно любуясь ее «римским профилем», Райский отмечает «строгую, чистую линию затылка», но тут же – скользкий, непрямой «русалочий взгляд» (Т. 6. С. 88, 89) (см., в частности: [Фаустов, 1998]). Сопротивляясь из последних сил напору соблазнительной Ульяны, Райский решает: «Нет! <…> момент настал, брошу камень в эту холодную, бессердечную статую...» (Т. 6. С. 90). В этом эпизоде СТАТУЯ – Ульяна ценностно противоположна «окаменевшей» Софье Беловодовой. В отличие от последней Ульяна чересчур витальна, но, повторим, ее жизненная сила деструктивна, поскольку проявляется только в плотском влечении. Ульяна смотрит на Райского «искристыми, широко открытыми глазами» (Там же) – и тем не менее представлена в образе-символе статуи. По-видимому, статуарность отнесена здесь к черте личности (психофизиологической константе) персонажа: Ульяна бессердечна и не мучится нравственными вопросами («А стыд – куда вы дели его, Ульяна Андреевна? <…> если в доме моего друга поселился демон, я хочу быть ангелом-хранителем его покоя…» (Т. 6. С. 90–91)). «Демоническая», а вернее, бесовская натура Ульяны «замораживает» душу – этический эквивалент характера.
Вера, сюжетно и концептуально связанная с идеей «обрыва» 6, исходя из «романтической» изобразительности ее образа, казалось бы, не может быть соотнесена со статическим и статуарным контекстом. Действительно, все в облике и существе Веры отсылает к романтическому модусу: портрет этой «дикарки», по выражению Бабушки (Т. 5. С. 305), лейтмотивом которого является импрессионистическая изменчивость (Т. 5. С. 289); контрастная характеристика голоса («свежий, молодой», но «с примесью грудного шепота» (Т. 5. С. 288)); обитание в сумрачном старом доме; а главное – требование свободы. «Никакой своей искренней мысли не высказала она, не обнаружила желания, кроме одного <…> это быть свободной, то есть чтобы ее оставили самой себе <…> забыли бы о ее существовании» (Т. 6. С. 31). Однако в восприятии Райского Вера остается отстраненной от жизни. Понятие об отсутствии жизни, столь педагогически существенное для Райского в сюжете Софьи Беловодовой, парадоксально корреспондирует с его восприятием характера Веры. Разумеется, страсть Райского к Вере, так же, как к Беловодовой, прежде всего эстетична. В преобладании в сознании артиста эстетического образа героинь над индивидуально-личностным, скорее всего, и кроется включение обеих в семантический корпус концепта СТАТУЯ (с одной стороны, явленная красота, а с другой – будто бы и «безжизненная»).
Догадываясь, что Вера обладает «предвидением и предчувствием» страсти, которая, по мнению Райского, формирует сложный феномен «живой жизни», он сокрушается от невозможности окончательно уяснить себе этот характер: «У него, от напряженных усилий разгадать и обратить Веру к жизни <…> накипело на сердце, нервы раздражались...» (Т. 6. С. 35). Предназначенное Вере «обращение к жизни» соотносится с тщетными усилиями Райского «оживить» блистательную Софью.
Наконец, чаемое Райским переживание «жизни» настигает Веру. Последняя страдает от запутанных отношений с Марком Волоховым и упрекает кузена в том, что его представления о жизни, воплощенные на практике, оборачиваются внутренней смутой и терзаниями. Контролирующий разум не справляется с влечением сердца и беспокойством души: «…вы просили мук, казни – я дам вам их! “Это жизнь!” – говорили вы <…> “Страсть прекрасна: она кладет на всю жизнь долгий след <…>” Кто это проповедовал?» (Т. 6. С. 226).
Облик объятой тревогой Веры парадоксально связывается с метафорой статуи: «Шагах в десяти от него (Райского. – Л. С. ), выступив немного на лунный свет, она, как белая статуя в зелени, стоит неподвижно и следит за ним с любопытством, уйдет он или нет. “Что это? Что с ней? <…> зачем я ей? Воткнула нож, смотрит, как течет кровь, как бьется жертва! <…>” Ему припомнились все жестокие, исторические, женские личности, жрицы кровавых культов <…> и все жестокое, что совершено женскими руками, с Юдифи до леди Макбет включительно» (Т. 6. С. 225). Вера по-прежнему «смотрит неподвижно», а Райский, в свою очередь, «стоя как вкопанный <…> не мог оторвать глаз от стройной, неподвижной фигуры Веры, облитой лунным светом» (Там же).
Райского поражает «красота» и «гармония» этой фигуры. Психологически Райский сломлен; эстетически – воодушевлен. Он испытывает то же раздвоение между экзистенциальным опытом и артистическим призванием, что настигало его многократно и отчетливо выразилось в его намерении покинуть Малиновку из-за отчужденности Веры, в которой сочетались живая натура и «воплотившийся в ней его идеал»: «Он свои художнические требования переносил в жизнь, мешая их с общечеловеческими» и «неимоверно был счастлив, замечая, что эта внутренняя работа над собой, которой он требовал от Веры, от живой женщины, как человек, и от статуи, как художник, началась у него самого не с Веры, а давно <…> в минуты такого же раздвоения натуры на реальное и фантастическое» (Т. 6. С. 203). Таким образом, застывшая фигура Веры воспринимается художником Райским в качестве завершенного эстетического объекта.
«Живая жизнь» все-таки вторгается в сферу эстетического созерцания Райского. Проводив Веру в «овраг» к неизвестному сопернику (Волохову), Райский мучится от собственной несостоятельности и ревности: «Боже мой, ужели она до поздней ночи остается на этих свиданиях? Да кто, что она такое, эта моя статуя, прекрасная, гордая Вера?» (Т. 6. С. 268). Узнав, что на дне оврага Веру ожидал Марк, Райский негодует: «статуя! чистота! красота души! Вера – статуя! <…> Секлетея Бурдалахова! <…> слабонервная, слабосильная…» (Т. 6. С. 271). Прекрасный образ временно разрушается; твердость статуи представляется мнимой.
Вопреки негодованию из-за «предательства» его чистого идеала и призывам к мщению («о, мщение, мщение!» (Там же)), артистическое мирочувствование возобладало в эмоциональной реакции Райского. Он невольно начинает эстетизировать образ героини: «…в воображении тихо поднимался со дна пропасти и вставал перед ним образ Веры, в такой обольстительной красоте, в какой он не видал ее никогда! <…> В груди, в руках, в плечах, во всей фигуре струилась и играла полная, здоровая жизнь и сила. <…> Она стояла на своем пьедестале, но не белой, мраморной статуей, а живою, неотразимо пленительной женщиной, как то поэтическое видение, которое снилось ему однажды, когда он, под обаянием красоты Софьи, шел к себе домой и видел женщину-статую, сначала холодную, непробужденную, потом видел ее преобразование из статуи в живое существо <…> В глазах его совершилось пробуждение Веры, его статуи, от девического сна. <…> он надрывался от мук – и – все не мог оторвать глаз от этого неотступного образа красоты…» (Т. 6. С. 272–273). Cтатуя совершенна тогда, когда она выражает полноту жизни и неминуемо оживает.
Ни Вера, ни Райский (насколько позволяет его неустойчивый характер) не отступают перед жизненными испытаниями. Иное дело Марфенька. В романе содержится эпизод (гл. 21 ч. 3), в котором Марфенька пересказывает свой сон, немедленно названный Райским «поэтическим» (Т. 6. С. 159). Сон об оживших изваяниях напугал юную обитательницу Малиновки. В этом сне «участвуют» скульптуры античных богов (Геркулеса, Дианы, Венеры, Минервы, Марса), Лаокоона и нимф. Марфенька вспоминает, что Венера «не шагая <…> подвинулась, как мертвец, плавно к Марсу» и глаза статуй без зрачков обратились к месяцу в окне (Т. 6. С. 159). Оживление каменных фигур уподобляется оживлению мертвых, что повергло девушку в ужас («Я вся тряслась от страха» (Там же)) 7.
Автор объясняет, что Марфеньке чужды страсти «по ее простой, здоровой натуре», и уберегли от них «не страх и предрассудки, а любовь Бабушки» («Намерения, задачи и идеи романа “Обрыв”») (Т. 6. С. 454). Думается, отсутствием страстей и рассудительностью в характере героини обусловлено ее восприятие статуи как абсолютно мертвой материи: мертвое не может двигаться. Мотив ожившей статуи развертывается в онейрической реальности и в сюжете Мар-феньки спорадичен. Он выполняет обычную для художественной гипнологии психологическую функцию, выявляя легкое беспокойство Марфеньки по поводу ее близкой свадьбы.
Заметим, что далее персонажи начинают делиться своими снами, и комический сон Викентьева про униженного Тычкова с сопутствующими замечаниями собравшихся ослабляет впечатление от «поэтического сна» героини. Зато сон Веры, который она рассказывает после Викентьева, обладает прогностическим значением: ей снятся бурное море и внезапно обрывающийся перед ней мост. Сон искажает действительные масштабы – в море, если это не пролив, невозможно сооружение мостов, но Вера говорит именно про море, образ-символ, который будто предваряет в фантазийной форме безбрежность ожидающего ее страдания. В сне Веры и молнии бьют в одну точку, и мост перед ней обрушился – все указывает на грядущее испытание, «обрыв». Так страшный сон Марфеньки о пробудившихся к жизни скульптурах вызывает воспоминание Веры о ее тревожном сне; впрочем, Вера объясняет это сновидение физиологически: тем, что у нее «был озноб: вот вам и поэзия!» (Т. 6. С. 160).
После «обрыва» образ Веры обрел в представлении Райского завершенность: «статуе» придал совершенство жизненный опыт – страсти, страдание, искупление 8. «Вера и бабушка высоко поднялись в его глазах, как святые <…>. В Вере оканчивалась его статуя гармонической красоты. А тут рядом возникла другая статуя – сильной, античной женщины – в бабушке. Та огнем страсти, испытания, очистилась до самопознания и самообладания, а эта… Откуда у ней этот источник мудрости и силы? <…> Он напрасно искал ключа» (Т. 6. С. 333).
Заметим, что не так давно Райский «искал ключ» к характеру Веры. Когда Вера в стремлении избежать назойливой пытливости брата уехала за Волгу к знакомой попадье (гл. 10 ч. 3), тот сокрушался, что, «открыв на минуту заветную дверь, она вдруг своенравно захлопнула ее и неожиданно исчезла, увезя с собой ключи от всех тайн: и от своего характера, и от своей любви, и от всей сферы своих понятий, чувств, от всей жизни, которою живет <…>» (Т. 6. С. 75). «Ключи от своего ума, сердца, характера, от мыслей и тайн» (Там же) Вера доверит Рай- скому позже, испытав глубокое несчастие. Метафора ключей применяется также в отношении бабушки – Татьяны Марковны. Наконец, герой, из пересказанной Крицкой давней сплетни, устанавливает истину и получает «ключ от прошлого, от всей жизни бабушки» (Т. 6. С. 405): «Ему ясно все: отчего она такая? Откуда эта нравственная сила, практическая мудрость, знание жизни, сердца? Отчего она так скоро овладела доверием Веры и успокоила ее, а сама так взволновалась? <…> Образ старухи встал перед ним во всей полноте» (Т. 6. С. 406). Сравнение Райским «усмиренной» Веры с гармонической статуей, в которой телесное начало уравновешивается духовным, и Бабушки – со статуей античной, в которой преобладает нравственная стихия, – завершает сюжет о статуе в романе «Обрыв».
Осталось прокомментировать намерение Райского заняться ваянием.В письме к живописцу Кирилову он объясняет свое решение тем, что он, по сути, не справился с ролью «отстраненного» автора романа. Это подтверждает и выбранный им эпиграф – перевод из Гейне («Довольно! Пора мне забыть этот вздор!» (1823–1824)), финальное четверостишие которого подытоживает опыт Райского – романиста: «И что за поддельную боль я считал, / То боль оказалась живая – / О Боже, я раненный насмерть – играл, / Гладиатора смерть представляя!» (Т. 6. С. 411). «Затеял писать роман! <…> я – пластик, язычник, древний грек в искусстве! Выдумал какую-то “осмысленную и одухотворенную Венеру”! Мое ли дело чертить картины нравов, быта, осмысливать и освещать основы жизни! Психология, анализ! Мое дело – формы, внешняя, ударяющая на нервы красота! <…> Не по натуре мне вдумываться в сложный механизм жизни!» – рассуждает Райский (Т. 6. С. 415). Герой воспринимает ассоциации со скульптурой, явленные ему в женских образах, как указание на его предназначение. Символика скульптуры в данном случае раскрывается как многообразие типов красоты, а если красота есть проводник страсти, как убежден Райский, – то самой жизни: «Да, я скульптор <…>! Я только сейчас убедился в этом, долго не понимая намеков, призывов: отчего мне и Вера, и Софья, и многие, многие – прежде всего являлись статуями! <…> Я пластик <…>» (Т. 6. С. 416). Таким образом, для Райского статуя становится отражением увиденной им красоты, и чем живее эта красота, тем более она подходяща для камня и резца. Три всюду сопровождающие его фигуры – Бабушки, Марфеньки и Веры – становятся выражением этой живой красоты, «живой жизни».
Самым ценным для Райского и создателя метаромана – И. А. Гончарова становится не «эстетическая» гармония невозмутимого спокойствия и безупречной красоты, отлитая в образе классической «статуи» – Софьи, а гармония примирения познавшего страсть человека с его духом, гармония этико-эстетическая (Вера, Бабушка). Случай нарушения классического равновесия внутреннего и внешнего в псевдоклассической красоте Ульяны Козловой подтверждает вывод о превалировании этики над «эстетикой» в художественном мировоззрении автора «Обрыва». Сюжетно-мотивные и символические функции концепта СТАТУЯ в романе подтверждают этот вывод.
Список литературы Статуя как антропологический концепт в художественной структуре романа И. А. Гончарова "Обрыв": сюжет, мотив, образ-символ
- Володина Н. В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения. М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. 256 с.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. Т. 4. 1144 с.
- Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике: В 2 т. СПб.: Наука, 2007. Т. 1. 623 с.
- Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Рус. яз., 2000. URL: http://efremova-online.ru/(дата обращения 10.01.2017).
- Краснощекова Е. А. И. А. Гончаров: Мир творчества. СПб.: Пушкинский фонд, 1997. 496 с.
- Лотман Ю. М. Куклы в системе культуры//Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. Таллинн: «Александра», 1992а. Т. 1. С. 377-380.
- Лотман Ю. М. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века//Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. Таллинн: «Александра», 1992б. Т. 2. С. 389-415.
- Мельник В. И. Эволюция этических представлений и феномен "воли" в антропологии И. А. Гончарова // Вестник славянских культур. 2015. № 2. С. 123-135.
- Назиров Р. Г. Сюжет об оживающей статуе//Фольклор народов России. Фольклор и литература. Общее и особенное в фольклоре разных народов: Межвуз. науч. сб. Уфа, 1999. С. 24-37.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка. Екатеринбург: «Урал-Советы», 1994. 796 с.
- Постнов О. Г. Эстетика И. А. Гончарова. Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1997. 240 с.
- Фаустов А. А. «Женский» миф//Фаустов А. А., Савинков С. В. Очерки по характерологии русской литературы: середина XIX века. Воронеж, 1998. 156 с.
- Чижевский Д. И. Гегель в России. СПб.: Наука, 2007. 411 с.
- Якобсон Р. О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина//Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 145-180.
- Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М.: Худож. лит., 1979. Т. 5. 385 с.; 1980. Т. 6. 517 с.