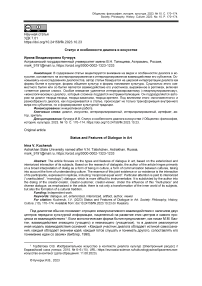Статус и особенности диалога в искусстве
Автор: Кучерук И.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 10, 2023 года.
Бесплатный доступ
В содержании статьи акцентируется внимание на видах и особенностях диалога в искусстве, основанного на экстериоризированном и интериоризированном взаимодействии его субъектов. Основываясь на исследованиях диалогистов, автор статьи базируется на широкой интерпретации диалога как формы бытия в культуре, формы общения культур и формы понимания культуры. Сущностью этого совместного бытия или со-бытия является взаимодействие его участников, выраженное в репликах, включая «ответное равное слово». Особое внимание уделяется интериоризированному («неартикулированному», «монологическому») диалогу, который сложнее поддается инструментализации. Он подразделяется автором на диалог творца-творца, творца-заказчика, творца-зрителя. Под влиянием этого «многоместного» и разнообразного диалога, как подчеркивается в статье, происходит не только трансформация внутреннего мира его субъектов, но и формирование культурной традиции.
Диалог, искусство, энтериоризированный, интериоризированный, артефакт, автор, зритель
Короткий адрес: https://sciup.org/149143441
IDR: 149143441 | УДК: 7.01 | DOI: 10.24158/fik.2023.10.23
Текст научной статьи Статус и особенности диалога в искусстве
Astrakhan State University named after V.N. Tatishchev, Astrakhan, Russia, ,
Под диалогом обычно понимают «процесс коммуникативного взаимодействия с наличием двух центров передачи культурной информации, нацеленный на развитие этих центров и самого процесса их взаимодействия»1. Если монологическая форма бытия предполагает, как писал М.М. Бахтин, взаимодействие знающего (учащего) и незнающего (учащегося), то в диалоге реализуется иная модель взаимодействия сознаний: «Каждый участник диалога обладает истиной самосознания, каждый обладает знанием идей, каждый готов слушать и понимать другого, сопоставлять его понимание идеи со своим» (Библер, 1990).
В современных условиях разрушения архитетоники миропорядка взаимодействие ряда стран приобрело конфронтационный характер и движется к состоянию практически полного отсутствия межцивилизационного диалога. Подобная ситуация может иметь эсхатологические последствия для всего человечества, что актуализирует необходимость осмысления характера и механизмов межсубъектного и межкультурного взаимодействия в различных сферах, включая искусство.
Под диалогом часто понимают «процесс коммуникативного взаимодействия с наличием двух центров передачи культурной информации, нацеленный на развитие этих центров и самого процесса их взаимодействия»1. Если монологическая форма бытия предполагает, как писал М.М. Бахтин, взаимодействие знающего (учащего) и незнающего (учащегося), то в диалоге реализуется иная модель взаимодействия сознаний: «Каждый участник диалога обладает истиной самосознания, каждый обладает знанием идей, каждый готов слушать и понимать другого, сопоставлять его понимание идеи со своим» (Бахтин, 1986).
В основе создания произведений искусства лежит акт творчества, базирующийся, если следовать позиции М. Бубера, на отношении человека к миру, вещам, к людям и к собственной «самости». Однако результативность творческой деятельности оказывается возможной только в том случае, если человек, способный к творчеству, постоянно находится в диалоге как с Другими, так и со своим «Я».
Представленная М. Бубером диалогическая философия исходила из гетерогенности субъекта сознания, которая понималась как «разноцветье» отдельных сообщающихся личностей и групп. Характеризуя субъектов диалога, М. Бубер полагал, что среди них по отношению к диалогу нет и не может быть одарённых или бездарных, а есть лишь «готовые отдаться этому чувству и противодействующие ему» (Бубер, 1995: 67).
Важным для рассмотрения особенностей диалога в искусстве является утверждение М.М. Бахтина о том, что диалог есть форма бытия в культуре, форма общения культур, форма понимания культуры и является событием. Сущностью этого события является взаимодействие его участников, выраженное в репликах, включая «ответное равное слово». При этом в центре взаимодействия оказывается человек как «Я» и «Ты» одновременно и в этом смысле в пространстве диалога осуществляется одновременное присутствие «Я» и многочисленных многоголосых «Ты», представленных автором, героем, персонажем, исполнителем, а также способ их бытия в едином модусе «Мы» (Рягузова, 2022: 20). Религиозные деятели искусства отмечали присутствие в творческом процессе не только «Я» и «Ты», но и «Оно», понимавшегося ими как Бог или Высшая сила, присутствие которого и формирует необходимую для создания произведений искусства особую опосредующую среду (Бубер, 1995; Гадамер, 1997).
Медиатором в основной триаде пространства диалога «творец-артефакт искусства-зри-тель» является произведение искусства. В создаваемом на этом фундаменте «многоместном диалоге» можно выделить диалог творца и заказчика, творца и портретируемого, двунаправленный диалог зрителя и творца/творца-зрителя, творца и творца, зрителя и искусствоведа, зрителей друг с другом, каждого со своим внутренним «Я».
Взаимодействие в диалоге оказывается возможным благодаря встрече субъектов диалога, встрече реальной или воображаемой (виртуальной). Соответственно, могут быть выделены экс-териоризированный и интериоризированный виды диалога в искусстве. Всем видам диалога соответствует сложная система «пересекающихся коммуникаций между автором и текстом, текстом и реципиентом, автором и читателем / зрителем, текстами между собой, читателем / зрителем с самим собой и существующей культурной традицией, художественным текстом и культурным контекстом» (Рягузова, 2022: 18). Категория «текст» при этом понимается в расширительном толковании и по своему смыслу близок термину «артефакт или произведение искусства».
Подобные виды диалога, как экстериоризированного, так и интериоризированного, имеют право на существование потому, что находящееся в центре их содержания произведение искусства является своего рода посланием, подлежащим расшифровке вдумчивым зрителем, как имеющим, так и не обладающим специальными познаниями. Поскольку само послание не является явно оформленным, в результате его расшифровки происходит обретение в визуальном послании личностного смысла каждым участником.
Следует выделить модель диалога в искусстве – экстериоризированные диалоги заказчика и творца – как относительно изображения, так и условий его создания. Так, например, как писал Джорджо Вазари, неаполитанский король часто беседовал с Джотто, когда тот работал, потому что «ему нравилось видеть его за работой и слушать его разговоры». Как правило, дополнял Вазари, реплики Джотто в этих диалогах отличались остроумностью (Вазари, 2008: 50).
Иногда диалог заказчика и творца представляет сложноорганизованный диалог, в котором есть место не только вербальной, но и невербальной составляющей. Примером может быть описанная уже упомянутым Джоржио Вазари ситуация подобного диалога Микеланджело Буонаротти с гонфалоньером Флоренции Пьеро Содерини в процессе создания скульптором статуи Давида. Гонфалоньер сказал: «Нос у него, кажется мне, великоват». Поняв, что тот стоит внизу статуи и «зрение не позволяет ему увидеть по-настоящему, Микеланджело поднялся на мостки, устроенные на высоте плеч статуи и, быстро схватив в левую руку резец и щепотку мраморной пыли…., стал, легонько взмахивая резцом, понемногу сбрасывать пыль, оставив нос в прежнем виде. Потом взглянув вниз на гонфалоньера, стоявшего и глядевшего, сказал: “Теперь посмотрите”. “Теперь мне больше нравится”, – ответил гонфалоньер, – Вы придали больше жизни» (Вазари, 2008: 416).
Если анализировать степень конструктивности именно этого диалога, то его можно отнести к диалогам-имитациям, поскольку второй субъект – Микеланджело – не пытался прислушаться к мнению собеседника, но сделал вид принятия его позиции. Подлинный же диалог, как подчеркивали диалогисты, может осуществляться лишь на основе признания «инаковости» Другого, при этом необязательно при соглашении с его позицией, но при артикулировании и отстаивании своей в диалоге-споре.
Особый интерес вызывает внутренний, интериоризированный диалог (по Ю. Лотману – «проявление автокоммуникации»), который сложно поддается инструментализации, поскольку в его содержании много неуловимого и личностного, включая личностный культурный капитал и ресурс участников диалога1.
Для того чтобы подобный диалог случился, В.С. Библер называл в качестве базового условия – наличие двух мыслящих «Я» при целостности сознания субъекта при несовпадении предмета мысли с исходной позицией «вопрошающего», порождающего внутренний спор с «Я»-пони-мающим и «Я»-не понимающим. При этом он полагал, что термин «диалог» в этом случае отличается условностью и применяется лишь для обозначения схемы общения и для определения того минимального количества участников, необходимого для того, чтобы диалог состоялся.
Первичным является диалог автора и его произведения, который наполняет весь творческий процесс от замысла до его реализации. Интеоризированный диалог автора со своим «Я» скрыт и объективируется в произведении искусства. В ходе этого диалога автор создает внутреннее пространство произведения, проецируя при этом собственную субъективность при выборе жанра, сюжета, композиции и прочего, включая чувственно-эмоциональное отношение к произведению.
В этом внутреннем диалоге есть место репликам-сомнениям, репликам-оценкам итогов творческой деятельности. При этом, как утверждал Л.С. Выготский в «Психологии искусства», чувства, эмоции, страсти входят в содержание произведения искусства, однако в нем они преобразуются и из индивидуальных трансформируются в общественные: «Это прекрасно подтверждается на примере египетской живописи. Здесь форма (стилизация человеческой фигуры) совершенно явно несет функцию сообщения социального чувства, которое в самом изображаемом предмете отсутствует и придается ему искусством» (Выготский, 2016: 32).
Помимо диалога автора и его «творения», в различных видах диалога реализуются разнообразные роли зрителя: он может выступать в качестве «зрителя-наблюдателя», «вышедшего на границу в пространство диалога с произведением» искусства; «зрителя-собеседника», вступившего в субъект-субъектные отношения с произведением, которое наделяется рядом духовных свойств; а также в качестве «зрителя-сотворца», ищущего и находящего новые смыслы в произведении искусства; «зрителя-исследователя», разгадывающего символы произведения и формулирующего для широкой публики варианты интерпретации этого визуального послания2.
В значительной степени диалогическому взаимодействию творца и зрителя способствовало появление в Европе XV в. (в начале последней трети века трехчетвертного) портрета как светского жанра.
С начала XVI в. в живописи начинает проявляться стремление создать ощущение контакта героя и зрителя. Этот взгляд глаза в глаза как бы разрушает границы между миром искусства и миром зрителя, подчеркивая, таким образом, создание не только их взаимодействия, но и создание общего пространства диалога. Еще одним шагом к созданию единой реальности потенциального диалога стало появление и развитие в эпоху Высокого Возрождения жанра автопортрета, в основе которого лежит тема самоутверждения, осмысление и осознание художником уникальности своего «Я» и своей роли в искусстве. Иными словами, появление портрета и автопортрета оказывается возможным при наличии экстериоризированного (портрет) и внутреннего (портрет, автопортрет) диалога художника и портретируемого или его со своим внутренним «Я».
В процессе интериоризированного диалога зрителя и творца через медиативную фигуру личности героя рождается впечатление, в том числе и выражаемое в художественных текстах. Примером могут служить слова Николая Заболоцкого, написанные им под влиянием портрета А.П. Струйской кисти Ф.П. Рокотова:
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг, Безумной нежности припадок, Предвосхищенье смертных мук. Когда потемки наступают И приближается гроза, Со дна души моей мерцают Её прекрасные глаза.
1953 г.
Истины ради отметим, что портретный образ и созданное им романтическое впечатление были достаточно далеки от реальной личности А.П. Струйской. Сам автор портрета написал о Струйской: «…чертовски хитра и вежлива». Но большинство зрителей, не зная о ее неуравновешенном характере и сформировавшейся с годами жестокости по отношению к крепостным, вот уже 70 лет смотрят на портрет и вспоминают именно эти строки.
Сущность диалога автора и зрителя-собеседника , основанного на субъект-субъектных отношениях, заключается в том, что «…человек, занимая эту позицию в художественном пространстве, выстраивает субъект-субъектные отношения с текстом, одухотворяет его и взаимодействует с ним в режиме коммуникации «Я-Я», эмпатически оживляя следы, не существующие вне подобного диалога». Сотворческую деятельность зрителя в диалоге с автором достаточно четко охарактеризовал К. Петров-Водкин: «За мою долгую жизнь я понял одно: если вы ввели зрителя в картину, то он должен доделывать, додумывать, досоздавать, быть соучастником в работе» (Петров-Водкин, 2019: 118). При этом, как утверждает А.В. Свешников: «…теоретически одно и то же изображение может иметь столько значений, сколько зрителей будет его рассматривать» (Свешников, 2012: 135).
В процессе этого монологизированного внутреннего диалога не происходит приращение информации и, в целом, смыслов, назначение подобного диалога заключается, по мнению Ю.М. Лотмана, во вторичном перекодировании текста искусства как полученного зрителем сообщения с учетом внутреннего субъективного кода. М. Бубер, обозначая внутренний диалог зрителя и творца как неартикулированный, определял его как диалог сознаний: «Мы не слышим “Ты” и всё же чувствуем, что нас окликнули, мы отвечаем, создавая, думая, действуя…» (Бубер, 1995: 18, 35). При этом «…мы не только толкуем по-разному художественные произведения, но и по-разному их переживаем» (Выготский, 2016: 55).
Еще одним видом, как правило, интериоризированного диалога является диалог творца и творца . Он может быть выделен потому, что многие живописные шедевры создавались и создаются авторами под впечатлением от культуры иного пространства и времени, выраженной в персонифицированном творчестве конкретных личностей. В этом смысле изобразительный художественный текст может стать средством актуализации диалога не только между художником и зрителем, но и среди «персонифицированных полюсов» различных эпох.
Л.С. Выготский в связи с изложенным отмечал, что этот диалог характеризуется сложной системой отношений, поскольку зачастую автор знает то, что непосредственно не сознает, о чем знает только при помощи аналогии, построений, гипотез, выводов, умозаключений, только косвенным путем. «Так создаются, например, все картины прошлого, восстанавливаемые нами при помощи разнообразнейших выкладок и построений на основании материала, который нередко совершенно не похож на эти картины…» (Выготский, 2016: 35).
Диалог в искусстве в единстве его многообразия предполагает личностно-ориентированный уровень общения, при котором субъекты диалога выступают личностями со «…сходными символическими кодовыми системами», определенным «шлейфом» собственной персональной истории, «насмотренности» в плане искусства, вкусовых предпочтений в данной сфере и опыта межкультурного взаимодействия»1. Под влиянием диалога меняются все его субъекты, что проявляется в трансформациях их внутреннего мира под влиянием различных, в первую очередь, социальных факторов. В результате подобного диалога происходит формирование культурной традиции, обогащение личностного культурного контекста его участников и формирование эстетического ресурса «вопрошающей личности».
Список литературы Статус и особенности диалога в искусстве
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 445 с. EDN: VQMUMN
- Библер В.C. От наукоучения - к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. М., 1990. 413 с.
- Бубер М. Я и Ты // Два образа веры. М., 1995. С.16-92.
- Вазари Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: полное изд. в 1 т. / пер. с итал. М., 2008. 1278 с.
- Выготский Л. С. Психология искусства. СПб., 2016. 448 с. EDN: XMMYAD
- Гадамер Г.Г. Человек и язык // От Я к Другому: сб. пер. по проблемам интерсубъективности, коммуникации, диалога/ ред. А.А. Михайлов. Минск, 1997. С. 130-141.
- Петров-Водкин К. Пространство Эвклида. М., 2019. 384 с.
- Рягузова Е.В. Коммуникация личности с художественным текстом как "Заслуженным собеседником" // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2022. Т. 11, № 1 (41). С. 16-23. DOI: 10.18500/2304-9790-2022-11-1-16-23 EDN: LHMODM
- Свешников А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи. М., 2012. 351 с.