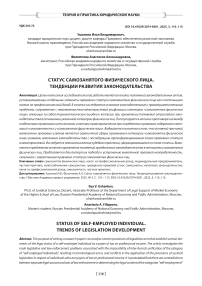Статус самозанятого физического лица. Тенденции развития законодательства
Автор: Ушанков И.В., Филиппова А.А.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 3 (84), 2025 года.
Бесплатный доступ
Целью написания исследовательской работы является анализ положений законодательных актов, устанавливающих отдельные элементы правового статуса самозанятого физического лица как плательщика налога на профессиональный доход. В статье исследуются основные законодательные и правоприменительные проблемы, сопряженные с невозможностью межотраслевой унификации категории «самозанятые физические лица», влекущие за собой терминологические ошибки и коллизии при применении положений отраслевого законодательства в отношении указанной категории физических лиц. Постулируется наличие противоречий между отдельными правовыми источниками и актами правоприменения при определении правового содержания категорий «самозанятость» и «самозанятое физическое лицо». Выдвигается гипотеза о том, что основной причиной выявленных правовых изъянов является ограничение сферы применения категории «самозанятое физическое лицо» рамками налогового законодательства с последующим трансформированием этого правового статуса в межотраслевой. Исследуется немногочисленная судебная практика, сформировавшаяся по теме статьи. Выявляются проблемные аспекты применения положений гражданского законодательства в отношении самозанятых физических лиц. Предлагаются два авторских подхода к устранению выявленной правовой неопределенности, связанной с закреплением правового статуса самозанятых физических лиц.
Самозанятое физическое лицо, налог на профессиональный доход, индивидуальный предприниматель, частная практика, налогообложение самозанятых, гражданско-правовой статус самозанятых, налоговое законодательство, налог на профессиональный доход, самозанятость, частная практика
Короткий адрес: https://sciup.org/14133205
IDR: 14133205 | УДК: 347.73 | DOI: 10.47629/2074-9201_2025_3_110_115
Текст научной статьи Статус самозанятого физического лица. Тенденции развития законодательства
В веденный на основании Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима (далее – Федеральный закон № 422-ФЗ) «Налог на профессиональный доход» (далее – НПД) режим налогообложения1, изначально территориально затрагивавший лишь четыре российских региона, а впоследствии распространенный на всю территорию России, повлек обострение ряда налогово-правовых и гражданско-правовых вопросов, связанных с корректной юридической квалификацией правового статуса физического лица, являющегося плательщиком НПД (в неюридических источниках именуется также «самозанятое физическое лицо»).
Отчетливая налогово-правовая природа категории самозанятого физического лица обострила правовую неопределенность, связанную с разграничением правовых статусов «самозанятого физического лица», индивидуального предпринимателя и физического лица, которые в сущности являются в материальном мире физическими лицами.
Пограничное положение самозанятого физического лица объясняется тем, что оно, осуществляя свою деятельность в рамках определенной частной практики, выделяется для целей правового регулирования из группы рядовых физических лиц, не осуществляющих подобную деятельность и не уплачивающих НПД. С другой стороны, ни формально юридически, ни фактически лицо не расценивается законодателем и правоприменителем как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.
На своеобразную маргинальность правового статуса самозанятого физического лица обращает внимание и Л.М. Долинская, которая отмечает, что, будучи участниками гражданского оборота, они не обязаны соблюдать требования, предъявляемые к участникам экономических отношений нормами граждан- ского законодательства, но и не подлежат особой правовой защите и не могут рассчитывать на меры финансовой поддержке, так как к числу субъектов малого предпринимательства они тоже не относятся [2].
Промежуточный и не до конца определенный в российском правовом поле юридический статус самозанятого физического лица приводит к образованию коллизий правовых норм, в том числе в части применения положений гражданского законодательства, изначально распространявшихся на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в отношении плательщиков НПД.
Обозначенная проблематика является актуальной и значимой для отечественной экономики и правопорядка и может быть разрешена лишь в случае применения комплексного подхода, учитывающего цели установления законодательного регулирования НПД, международный опыт регламентации самозанятости, экономическое и социальное назначение рассматриваемых законодательных новелл, а также положения законодательства, материалы судебной практики и доктринальные позиции отечественных и зарубежных ученых по данному вопросу.
К вопросу о правовом содержании категорий «самозанятость», «самозанятое физическое лицо»
Первоначально необходимо констатировать, что категория«самозанятое физическоелицо» неявля-ется легальной дефиницией и не содержится в подробной формулировке в Федеральном законе № 422-ФЗ или иных законодательных актах. Конструируя положения Федерального закона № 422-ФЗ, законодатель оперировал лишь сугубо налогово-правовым понятием «плательщик НПД». Поэтому важно устранить возможные терминологические несостыковки, связанные с соотношением между категориями «самозанятое физическое лицо», «самозанятость» и «плательщик НПД».
Уточнение правовой категории «самозанятое физическое лицо» благотворно скажется на развитии целого ряда правовых отраслей, в которых фактически (но не терминологически) предметом регулирования является социально-трудовой феномен само- занятости. Это налоговое, бюджетное, уголовное, административное, гражданское право и другие правовые отрасли и отдельные их институты.
К сожалению, анализ норм законодательства и отдельных правовых позиций, выработанных в судебной практике, обнажает явную несогласованность в определении правового содержания категории «самозанятое физическое лицо». В частности, на основании правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации к числу самозанятых физических лиц отнесены индивидуальные предприниматели (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.05.2014 № 1116-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Алексеева Александра Николаевича на нарушение его конституционных прав отдельными положениями статей 6, 7 и 28 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», а также статей 5 и 14 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»).
При этом Минфин России в своем письме категорию «самозанятые физические лица» истолковал еще шире – в нее были включены все лица, занимающиеся частной практикой, в том числе индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты (Письмо Минфина России от 09.02.2011 № 03-04-08/8-23 «О применении Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей»).
Хотя письма Минфина России не являются нормативными актами или даже актами официального толкования законодательства, следует понимать их безусловную практическую значимость в качестве актов неофициального толкования для субъектов правоприменения и рядовых участниковобщественных отношений.
Проиллюстрированные различия вполне могли бы быть объяснены тем, что указанные разъяснения и правовые позиции были сформированы задолго до принятия Федерального закона № 422-ФЗ и включения в налоговую систему России самозанятых физических лиц.
Между тем представляется весьма спорным сохранение за такими судебными актами и актами толкования юридической силы с учетом практически единодушного мнения в юридической среде о том, что после принятия Федерального закона № 422-ФЗ категория «самозанятое физическое лицо» тождественна категории «плательщик НПД».
Крайне спорной является методика, используемая Росстатом, исходящая из того, что к числу самозанятых физических лиц относятся главы крестьянских (фермерских) хозяйств, но не причисляются нотариусы и адвокаты, которые в ходе осуществления своей частной практики не привлекают наемных работников.
Итак, представляется, что обобщить и нормативно определить категорию «самозанятость» и «самозанятые физические лица» пока что невозможно, и эти понятия являются условными и размытыми.
Неудачны и попытки отдельных исследователей увязать отнесение физического лица к самозанятым через критерий получения доходов от осуществления деятельности на основании гражданско-правового договора, поскольку они неоправданно сужают категорию самозанятых физических лиц.
Фактически группа самозанятых физических лиц весьма неоднородна и включает в себя несколько социальных общностей:
-
• подрабатывающие самозанятые, которые совмещают официальное трудоустройство с самозанятостью, осуществляемой ими по совместительству;
-
• наемные самозанятые, оказывающие свои услуги одному работодателю, которым чаще всего выступает информационный агрегатор (посредник);
-
• собственно самозанятые физические лица, для которых подобный формат деятельности является основным источником дохода.
Ю.М. Дацко отмечает, что фактическая практика трудоустройства работников под видом самозанятых физических лиц обладает системной угрозой для российского рынка труда, поскольку положения трудового законодательства не содержат норм, распространяющих социально-трудовые гарантии на самозанятых граждан, которые могут быть ущемлены в оплате труда, нормировании труда и других аспектах трудовых отношений [1].
Не разрешают сложившуюся терминологическую путаницу и положения иных законодательных актов, вносящие еще большую категориально-понятийную неясность.
Так, в Законе Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»2 (далее – Закон № 1032-1), который, впрочем, утратил свою силу с 01.01.2025, в некоторых нормах понятия «предпринимательство» и «самозанятость» используются в качестве тождественных, а в иных положениях того же законодательного акта их правовое содержание различно.
Хотя принятый взамен Федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»3 больше не оперирует категорией
«самозанятость», данный законодательный акт так и не внес какую-либо правовую определенность в формирование понятийного аппарата, связанного с социально-экономическим феноменом самозанятости.
Наконец, не отражают всей полноты социально-экономического явления самозанятости ее признаки, которые перечислены в п. 7.3 ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации4 и приравнивают к самозанятым лишь физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих без привлечения наемных работников услуги иным физическим лицам для их личных нужд.
Современная динамика развития различных форм жизнедеятельности человека символизирует повсеместное распространение видов трудовой активности отдельных физических лиц, для которых характерно формальное отсутствие узаконенных трудовых (с работодателем) или гражданско-правовых (с заказчиком) отношений, что не в полной мере учитывается в действующей системе правового регулирования феномена самозанятости в России.
Из комплексногоанализа положенийФедераль-ного закона № 422-ФЗ следует, что к числу самозанятых физических лиц (в данном контексте подразумеваются плательщики НПД) относятся физические лица:
-
• осуществляющие свою деятельность без привлечения наемных работников;
-
• стоящие на учете в налоговых органах посредством мобильного приложения «Мой налог», на необходимость использования которого содержится указание в Федеральном законе № 422-ФЗ;
-
• которые не должны регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (за исключением случаев, предусмотренных ч. 6 ст. 2 Федерального закона № 422-ФЗ).
На безальтернативную невозможность отнесения к числу самозанятых физических лиц индивидуальных предпринимателей указано в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года5, что объясняется главным образом программным характером указанного документа и особыми целями его принятия, что подразумевает недопустимость распространения особых мер поддержки малого и среднего бизнеса на самозанятых физических лиц, которые не всегда являются предпринимателями.
Очевидно, что самозанятые физические лица, не являющиеся при этом индивидуальными предпринимателями, наиболее уязвимы в рамках гражданского оборота с точки зрения имущественных рисков, поскольку они используют личное имущество для осуществления деятельности и им же отвечают по имеющимся долгам.
В целях предоставления самозанятым физическим лицам повышенной степени правовой защиты в отечественной специальной литературе и общественной среде периодически озвучиваются предложения, направленные на законодательное разделение самозанятых физических лиц на две основных подгруппы:
-
• физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей либо осуществляющие частную практику (что будет охватывать нотариусов, адвокатов, оценщиков и др.);
-
• непосредственно самозанятые физические лица, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя и не занимающиеся частной практикой.
Полагаем, что возведение в ранг закона подобной дихотомии позволит в дальнейшем более точечно регулировать отношения, возникающие с участием самозанятых физических лиц, что позволит учитывать их субъектное многообразие.
Концептуальные проблемы определения правового статуса самозанятого физического лица
Ключевые проблемы в исследуемой теме в срезе правоприменительной практики вытекают из несистемного и зачастую произвольного межотраслевого применения категории «самозанятое физическое лицо», которая изначально со всей очевидностью была закреплена лишь в налоговом законодательстве, в отношении гражданского или трудового законодательства.
Общее юридико-техническое правило межотраслевого применения категорий и дефиниций состоит в том, что термин должен употребляться в специальных законодательных актах в том значении, в котором он приведен в том правовом источнике, где он изначально легитимирован. Определенную злую иронию здесь играет то обстоятельство, что, как ранее было констатировано, Федеральным законом № 422-ФЗ не устанавливается легальное определение «самозанятое физическое лицо». Это лишь усугубляет и без того запутанную ситуацию с терминологией, связанной с самозанятыми физическими лицами.
-
С учетом содержания ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации6 (далее – ГК РФ) полага-
- ем, что для гражданского законодательства применимость норм, связанных с предпринимательской деятельностью, зависит не от субъекта (самозанятое физическое лицо/индивидуальный предприниматель), а от юридической квалификации той деятельности, которую они осуществляют. В этой связи порождается новый аспект исследования, необходимый для разрешения первоначально поставленного вопроса: тождественна ли деятельность самозанятого физического лица с предпринимательской деятельностью, определение которой содержится в ст. 2 ГК РФ?
В отсутствие нормативных ориентиров для выработки однозначного ответа на сформулированный вспомогательный вопрос можно использовать лишь материалы правоприменительной практики (не судов, а Комиссии совета судей по этике), из которых следует, что деятельность самозанятого аналогична по своим признакам предпринимательской деятельности (Заключение комиссии Совета судей Российской Федерации по этике от 17.07.2020. № 5-КЭ «О возможности занятия репетиторством судьей, пребывающим в отставке»).
Заметим, что вопрос о неопределенном гражданско-правовом статусе самозанятых физических лиц не является эфемерным, а вполне продиктован объективно возникающими сложностями в правоприменительной практике, которые сопряжены с осуществлением самозанятыми физическими лицами своей деятельности.
Так, норма ст. 426 ГК РФ о публичном договоре распространяется не только на коммерческие организации, но и на иных лиц, осуществляющих деятельность, приносящую доход.
На первый взгляд, с учетом фактического вектора правоприменительной практики, направленной на отождествление деятельности самозанятых физических лиц и предпринимательской деятельности, может сложиться впечатление о безусловной необходимости распространять положения ст. 426 ГК РФ и на самозанятых, тем самым возлагая на них соответствующие обязанности пообязательному заключению публичных договоров с каждым контрагентом, кто к ним обратится.
В то же время в п. 16 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 497, которое было принято уже после принятия Федерального закона № 422-ФЗ, самозанятые физические лица не указаны в числе субъектов, на которых распространяются требования о публичном договоре, закрепленные в ст. 426 ГК РФ.
В условиях отсутствия однозначных нормативных критериев допустимости применения отдельных положений гражданского законодательства в отношении самозанятых физических лиц судьи по пока что немногочисленным спорам, возникающим в этой связи, иногда вынуждены осуществлять фактическую квалификацию правоотношений исходя из юридически значимых заверений сторон, предшествовавших вступлению в договорные отношения, что в большей степени отсылает нас к общим гражданско-правовым представлениям о добросовестности, но не разрешает исходную правовую проблему.
Так, в одном из дел, где ответчиком по спору о взыскании штрафных санкций по договору подряда выступало самозанятое физическое лицо, которое отвергало требования истца со ссылкой на свой особый правовой статус, не тождественный индивидуальному предпринимателю, суд отверг контрдоводы ответчика, указав на то, что истец добросовестно полагал, что заключил договор с индивидуальным предпринимателем (Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28.07.2020 по делу № 33-27075/2020).
То есть суд взял за основу субъективную (и не факт, что в достаточной степени добросовестную, с учетом общедоступности и публичности ЕГРИП, который мог бы при должной осмотрительности проверить истец) квалификацию правоотношений заказчиком-истцом, учтя фактическую конфигурацию взаимодействия между контрагентами и их правовые статусы не в нормативном, а в динамическом аспекте.
С учетом выявленной правовой неопределенности представляется важным устранить обнаруженные коллизии на законодательном уровне, не допустив делегирование этого проблемного вопроса на уровень правоприменителя, что повлечет лишь усугубление существующих терминологических неточностей, которые уже имеются в различных законодательных актах, регулирующих деятельность самозанятых физических лиц.
Выводы
Проведенный авторами анализ выявил ряд законодательных, юридико-технических и правоприменительных проблем, связанных с определением правового положения самозанятых физических лиц, что вызвано несовершенством изложения изученного нормативного материала, отсутствием четко выстроенного категориально-понятийного аппарата, а также правовой неопределенностью относительно социально-экономической сущности феномена самозанятости, что приводит к несогласованности позиций отдельных правоприменителей и толкователей права по вопросу о том, какие субъектные группы правомерно могут быть отнесены к самозанятым физическим лицам.
Наиболее остро обозначенная тематика проявляется в спорности применения положений гражданского законодательства, регулирующих обязанности и ответственность лиц, осуществляющих деятельность, приносящую прибыль, к самозанятым физическим лицам.
Основной тенденцией совершенствования законодательства, регулирующего правовой статус самозанятых лиц, является постепенное вовлечение этой категории в смежные правовые отрасли и институты, затрагивающие в том числе содействие занятости населению и государственную поддержку предпринимательского сообщества, что выходит за пределы изначального налогового-правового регулирования самозанятых физических лиц [3].
В этой связи выражаем надежду на то, что постепенная универсализация категории самозанятых физических лиц подтолкнет законодателя к выработке более четкого и системного комплекса правовых норм, закрепляющих их статус в различных отраслях права.
Заключение
Выделяя корень существующей проблемы, хочется согласиться с М.О. Измайловой, которая в качестве первопричины всех проблем определения юридического статуса самозанятых физических лиц определяет сугубо утилитарную склонность законодателя определять правовое положение указанной группы субъектов права исключительно в фискальных целях, связанных с максимизацией пополняемо-сти бюджета [4].
В отсутствие комплексного и системного подхода к определению правового статуса самозанятого физического лица как универсального субъекта правоотношений (не только в сфере налогообложения) проанализированные в настоящей статье проблемы, вызванные некорректным межотраслевым применением категорий налогового законодательства, будут и дальше сохраняться.
Учитывая изложенное, представляется возможным реализовать один из двух альтернативных сценариев нормативной корректировки действующего законодательства:
-
• всестороннее закрепление правового статуса самозанятого физического лица и различных элементов его правоспособности (в том числе в отрасли гражданского права);
-
• внесение соответствующих изменений в Федеральный закон № 422-ФЗ, уточняющих существующие терминологические неясности, что обеспечит корректность правоприменения, при котором заимствованные из налогового законодательства и Федерального закона № 422-ФЗ положения субсидиарно применяются к гражданско-правовым и иным отраслевым правоотношениям, которые изначально не связаны со сферой налогообложения плательщиков НПД.