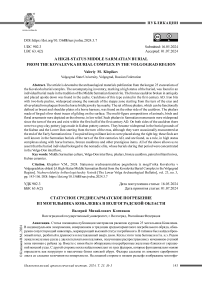Статусное среднесарматское погребение из могильника Ковалевка в Волгоградской области
Автор: Клепиков Валерий Михайлович
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Публикации
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена публикации материалов раскопок кургана 25 могильника Ковалевка. В индивидуальном захоронении, совершенном в традиции среднесарматского погребального обряда, обнаружен сопутствующий инвентарь, маркирующий высокий статус погребенного. В тайнике был найден бронзовый котел, разбитый в древности и поставленный вверх дном. Котлы этого типа бытовали в I в. н.э. Рядом лежали железные удила с двухпетельчатыми псалиями, получившие распространение у кочевников степной зоны начиная с рубежа эр. Вместе с ними были обнаружены посеребренные железные бляшки от украшений конской узды. С другой стороны котла найден комплект из трех фаларов, которые функционально можно определить как нагрудную и наплечные бляхи конской сбруи. Фалары сделаны из кованого серебряного листа со следами золочения на поверхности. На лицевой стороне в низком рельефе изображены многофигурные композиции зверей, птиц и растительный орнамент. Такие фалары в сарматских памятниках получают распространение с рубежа эр и бытуют в пределах первой половины I в. н.э. По обе стороны котла стояли два сероглиняных гончарных кувшина, изготовленных в кубанских гончарных центрах. Они получили распространение в могильниках Кубани и Нижнего Дона начиная с рубежа эр, хотя изредка фиксируются уже в финале раннесарматского времени. Вдоль правой ноги были положены парные длинные боевые ножи, которые хорошо известны в сарматских погребениях рубежа - первых веков н.э., причем встречаются они, как правило, в статусных комплексах с конской сбруей, бронзовыми котлами и другими престижными предметами. Все перечисленное позволяет утверждать, что погребенный принадлежал к кочевой элите, захоронения которой именно в этот период концентрируются в Волго-Донском междуречье.
Среднесарматская культура, волго-донское междуречье, фалары, бронзовый котел, парные боевые ножи, кубанская керамика
Короткий адрес: https://sciup.org/149146350
IDR: 149146350 | УДК: 902.3 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2024.3.7
Текст научной статьи Статусное среднесарматское погребение из могильника Ковалевка в Волгоградской области
DOI:
Цитирование. Клепиков В. М., 2024. Статусное среднесарматское погребение из могильника Ковалевка в Волгоградской области // Нижневолжский археологический вестник. Т. 23, № 3. С. 143–156. DOI:
В процессе раскопок курганного могильника Ковалевка, расположенного на левой береговой террасе реки Есауловский Аксай, притока Дона, в 2022 г. был исследован курган 25. В кратком обзоре погребение из этого кургана было опубликовано в статье, посвященной теме ритуальных осквернений среднесарматских статусных погребений в Волго-Донском междуречье [Клепиков, 2023, с. 40–41]. Однако подробно сопутствующий инвентарь не анализировался, поскольку ряд вещей находился на реставрации, и было дано обещание восполнить этот пробел позже. Теперь такая возможность появилась.
Высота кургана по нивелировке – 0,19 м, диаметр – 14 м. Курганная насыпь сильно распахана, выделялась в рельефе едва заметным всхолмлением. Насыпь кургана в результате многолетней глубокой пропашки оказалась полностью переработанной, практически до погребенной почвы, к тому же сильно промыта внешними и грунтовыми водами. Находки в насыпи представлены многочисленными фрагментами костей средних и крупных копытных животных, среди которых более точно определяются обломки черепа полувзрослой лошади с фрагментами зубов и плечевая кость КРС 1. В насыпи встречены и мелкие фрагменты сероглиняной и красноглиняной круговой керамики. Единственное погребение было зафиксировано в ЮВ секторе, на расстоянии 2,3 м на юг от центрального репера (рис. 1, 1 ).
Могильная яма имела подпрямоугольную форму, длинной осью ориентированную по линии ССЗ-ЮЮВ. Длина могильной ямы –
2,55 м, ширина в центральной части – 1,3. Северная часть ямы заужена, ширина северной стенки – 1 м. Глубина могильного сооружения в разных частях – 1,41–1,44 м.
Погребение носило следы ограбления, возможно, ритуального осквернения. Правая сторона костяка взрослого человека была смещена с первоначального положения к южной стенке. Здесь в могильном заполнении, на глубине 1,18–1,31 м от 0 находилась бедренная кость правой ноги, сросшаяся с крылом таза в результате патологических изменений, рядом – кости предплечья правой руки, нижняя челюсть, несколько ребер, вдоль южной стенки – плечевая кость правой руки, а также несколько позвонков, фрагмент левого крыла таза и обломок крестца.
На дне ямы in situ была обнаружена часть костяка взрослого мужчины. Непотревоженной осталась левая часть костяка и обе берцовые кости. Отсюда можно сделать вывод, что погребенный лежал на спине, вытянуто, головой и позвоночником ориентирован к ЮЮВ. Левая рука вытянута вдоль туловища. Сохранившаяся правая берцовая кость позволяет предположить, что правая нога была слабо согнута в колене. Пяточные кости располагались рядом друг с другом. Остальная часть костяка была срезана грабительским перекопом и была сложена в юго-восточном углу погребения, включая крестец, лопатку, ребра правой стороны, правую плечевую кость, над которыми и были зафиксированы в засыпи ямы перечисленные ранее кости человека. Под костяком фрагментарно прослеживались следы органической подстилки (рис. 1, 2 ).
Сопутствующий инвентарь:
-
1. Мелкие фрагменты железных предметов обнаружены в могильном заполнении около перемещенной бедренной кости правой ноги.
-
2. В ЮВ части ямы около перемещенного правого крыла таза человека найден железный трехлопастной черешковый наконечник стрелы. Черешок обломан, длина головки – 2 см. Пучок аналогичных наконечников стрел зачищен на левом бедре погребенного, головки острием направлены в южную сторону. Длина наконечников – 4–5 см, длина головок – 2,5–3 см (рис. 4, 7 ). Стрелы, вероятно, находились в колчане. На некоторых черешках наконечников отмечены следы голубой краски. Рядом со стрелами, а также вдоль левого бедра погребенного зафиксированы мелкие фракции красной краски, которой, видимо, был окрашен колчан.
-
3. Рядом с бедренной костью правой ноги в ЮВ части ямы обнаружена округлая стеклянная бусина темно-синего цвета, покрытая белесой патиной. Диаметр – 0,9 см (рис. 4, 2 ).
-
4. Коррозированный фрагмент железного предмета уплощенной прямоугольной формы обнаружен на дне ямы в области правой стороны грудной клетки. Длина – 9,4 см, ширина – 2 см, толщина – 1 см. Назначение не ясно.
-
5. Вдоль правой голени погребенного лежали одинаковые однолезвийные боевые ножи, прикипевшие друг к другу. Ножи имели короткие рукояти прямоугольного сечения с выделенными пятками у оснований лезвий, лезвиями направлены к стопам. Лезвия слегка вогнуты. Изделия сильно коррозированы, на рукоятях отмечен деревянный тлен. Длина ножей – 41,5 и 39 см; длина рукоятей – около 6 см; ширина лезвий у основания – 2,7 и 2,4 см; толщина сечения лезвий – 0,5–1,1 см (рис. 4, 8 ).
-
6. На костях правой голени обнаружена серебряная восьмеркообразная пряжка с подвижным язычком и калачевидными окончаниями округлых частей пряжки. Три завитка окончаний были заполнены какой-то пастообразной массой. Размеры пряжки 4,5 х 2,8 см. В средней части язычка имелось ромбовидное расширение. Сечение рамок пряжки округлое, диаметр сечения – 0,3 см. Сечение язычка прямоугольное, толщина сечения – 0,2 см. Длина язычка – 4,8 см (рис. 4, 6 ).
-
7. В СВ части ямы, у стенки найдено коррозированное железное кольцо диаметром 5,6 см. Диаметр сечения – 0,8–0,9 см (рис. 3, 2 ).
-
8. В ногах погребенного, около ножей найдены кусочки какого-то минерального вещества темно-серого цвета.
-
9. Около голени левой ноги обнаружен уголек.
-
10. У южной стенки ямы, под скоплением костей человека обнаружено железное кольцо. Диаметр кольца – 5 см, толщина сечения – 0,8–0,9 см (рис. 3, 3 ).
-
11. В средней части восточной стенки обнаружена ниша-тайник, дно которой было ниже дна входной ямы на 7–8 см. На дне ниши, в центральной ее части вверх дном стоял бронзовый котел со следами преднамеренной порчи. Котел имеет полусферическое тулово с сужающимися к устью стенками и горизонтальным венчиком, отогнутым наружу, две вертикальные петлевидные ручки и две ручки-петельки под венчиком. На одной из вертикальных ручек заметен окисел, напоминающий выступ, однако сохранность материала настолько плоха, что при отсутствии других выступов на этой и другой ручках можно оценить его как результат коррозии. По тулову – опоясывающий орнамент в виде «веревочки». Под ним частично фиксируется формовочный шов. Под основанием вертикальных петлевидных ручек расположены тамгообразные знаки в виде расходящихся в разные стороны валиков с загнутыми наружу концами. На внешней стороне дна сохранились остатки литника, а на внутренней – «заклепка» от прилитого поддона. Диаметр литника – 4,5 см, «заклепки» – 0,9 см. Сам поддон отсутствует. Котел был разбит в древности, поэтому размеры определены предположительно. Диаметр по венчику – около 32 см, диаметр тулова – около 38 см, высота без поддона – 28 см, диаметр сечения петлевидных ручек – 1,6 см, ручек-петелек – 1,1 см, толщина стенки – 0,4–0,5 см (рис. 3, 1 ).
-
12. Поверх котла лежали в сочленении кости левой тазовой, бедренной, берцовой, пяточной и астрагала полувзрослой овцы. На всех костях фрагментарно фиксируются бронзовые окислы.
-
13. В 5 см севернее котла на дне ямы обнаружены сильно коррозированные желез-
- ные двусоставные кольчатые удила. Здесь же находились железные кованые уплощенные псалии с трапециевидными выступами в средней части и овальными отверстиями под ремни. Концы псалиев имели квадратное сечение. Стержни удил цилиндрические, сечение стержней и колец круглое. Длина звена удил – около 9 см, диаметр колец – 2–2,2 см, толщина сечения стержней – 0,8–0,9 см. Длина псалиев – 16,5 и 17 см, ширина прямоугольных окончаний – 1,3 см, толщина – 0,4 см (рис. 4,1).
-
14. Рядом с удилами найден железный однолезвийный нож с коротким уплощенным черенком. Длина ножа – 9 см, длина черенка – 2,5 см, ширина лезвия – 1,2 см, толщина сечения лезвия – 0,3 см (рис. 4, 9 ).
-
15. Между удилами и котлом лежал железный, полый внутри конусовидный предмет с загнутым в виде крючка концом. Крючок обломан. Длина конуса – 9,8 см, длина внутренней втулки – 6,8 см, наибольший диаметр втулки – 1,2 см, толщина сечения окончания – 0,6–0,4 см (рис. 4, 4 ).
-
16. В северо-восточной части ниши, около удил лежали 5 круглых коррозированных железных полусферических бляшек диаметром 1,7–1,8 см. Изделия реставрированы. На внешней поверхности сохранились мельчайшие фрагменты тонкой серебряной фольги, которой бляшки изначально были обернуты. Изнутри сохранились коррозированные остатки железных петелек, с помощью которых бляшки прикреплялись к кожаной ременной основе (рис. 4, 5 ).
-
17. В северной части ниши, рядом с котлом, стоял сероглиняный гончарный кувшин с вертикальной широкой ручкой. Тулово округлое с выделенным круговым поддоном и высоким горлом. Венчик резко отогнут наружу. Сосуд неоднократно ремонтировался. На ту-лове и под венчиком зафиксированы сквозные отверстия диаметром 0,4 см для стяжки разбитых частей (всего 12 отверстий). В верхней части тулова и на горле отмечены круговые неглубокие каннелюры. Изнутри на стенках горловины также располагались круговые желобки, оставленные, вероятно, зубчатым шпателем. На ручке также отмечено вертикальное рифление. Тесто в изломе плотное, хорошо отмученное, без видимых примесей. Высота сосуда – 30,8 см, диаметр тулова –
-
18. В южной части ниши стоял второй сероглиняный гончарный кувшин, имеющий биконическое тулово, воронкообразное горло и небольшую петлевидную ручку. В верхней части тулова отмечен горизонтальный желобок, нанесенный концом узкого шпателя. На внутренних стенках горловины отмечены следы горизонтального сглаживания. Тесто в изломе плотное, хорошо отмученное, с мелкими вкраплениями слюды. Высота сосуда – 27,6 см, диаметр тулова – 24 см, диаметр устья – 12,4 см, диаметр дна – 9 см, ширина ручки – 2,5 см, высота ручки – 5 см, толщина стенки – 0,6 см (рис. 3, 5 ).
-
19. Около кувшина в земляном заполнении найден мелкий осколок бронзового предмета, возможно, зеркала.
-
20. Рядом с котлом обнаружены три фа-лара, стоявших вертикально плотно друг к другу. Фалары в виде круглых дисков, сделанные из кованого серебряного листа, с частично сохранившимся золочением на лицевой части и следами намеренной порчи. Два фа-лара диаметром 13,8 см, один – 16,4 см. Вероятно, правильно их будет определить как центральный и два боковых. Края всех фала-ров оформлены круговыми валиками, более широким по внешнему краю и узким за ним. В канавке между ними проделаны отверстия для крепления, по 7 отверстий на боковых бляхах, и 8 – на центральной. В нескольких отверстиях сохранились миниатюрные гвоздики (рис. 2).
-
21. Около фаларов обнаружена небольшая бронзовая обойма 2 х 1,6 см со сквозным отверстием посередине. На поверхности отмечены остатки кожаной подложки (рис. 3, 4 ).
-
22. Внутри котла находился каменный оселок вытянутой овальной формы. Поверхность хорошо заглажена. Материал – мелкозернистый песчаник (?). Размер - 18,5 х 4,7 х 2,2 см (рис. 4, 3 ).
24 см, диаметр устья – 12,4 см, диаметр дна – 12 см, высота ручки – 13 см, ширина ручки – 4 см, толщина стенки – 0,5 см (рис. 3, 6 ).
Медальон центрального крупного фала-ра обрамлен валиком полусферического сечения, украшенным орнаментом «веревочка». Внешнее поле вокруг медальона заполнено семью расположенными последовательно по кругу рельефными веточками папоротника (?) с листьями, оформленными в виде сегментов вдоль продольной оси, ограниченными поперечным валиком в основании, который отделяет два округлых выступа. Центральная часть фалара пробита, на сохранившемся поле видны две кошачьи лапы, часть тулова в холке и голова животного в профиль с миндалевидным глазом. Вокруг животного внутри окантовки медальона сохранились три рель- ефных изображения фаллической формы, два – сходящиеся у морды животного, один – за спиной (рис. 2,1).
Два боковых фалара близки по сюжету и оформлению, однако не дублируют друг друга. На одном изображена многофигурная композиция из пяти хищных животных разных размеров. Центральная фигура лежит на брюхе, головой на лапе, вторая лапа вытянута, когтями рядом с мордой. Задняя когтистая лапа изображена в профиль. Шерсть на спине и хвост оформлены сегментами, расположенными последовательно вдоль продольной оси. За этим животным по кругу изображено такое же животное, но в профиль, передней лапой упирающееся в основание хвоста предыдущего зверя. С другой стороны – аналогичный зверь меньшего размера, упирающийся лапой в подмышку передней ноги центральной фигуры. Морды и миндалевидные уши изображены в единой манере, однако шерсть обозначена только по верхней части тулова. Под центральной фигурой изображены в профиль еще два зверя меньших размеров, размещенные один под другим, головами в противоположные стороны. Над центральной фигурой изображена птица в профиль, головой обращенная в обратную сторону по отношению к центральной фигуре. Шея, крылья и хвостовое оперение также оформлено сегментами. Перед головой птицы изображен листок сердцевидной формы (плющ?) (рис. 2, 3 ).
На втором боковом фаларе центральная фигура изображена в той же позе, что и на первом, но головой в противоположном направлении. Аналогично и в тех же позах расположены и два меньших животных ниже центральной фигуры, верхнее – головой к голове центрального хищника, нижнее – в противоположном направлении. Под нижним видны сегменты, видимо, обозначающие шерсть и миндалевидный глаз. Фигура не читается. Сзади центрального животного, за его хвостом, опять же в профиль, изображено еще одно животное, однако, в отличие от первого бокового фалара, головой в противоположном направлении. К тому же в этой композиции отсутствует еще один зверь – перед центральным хищником. В то же время над центральным хищником также расположена птица в профиль, но головой в ту же сторону, что и цент- ральная фигура. Перед головой птицы изображены два листка сердцевидной формы, как и на предыдущем фаларе, за ее хвостом – третий листок (рис. 2,2).
Единственное погребение под небольшой насыпью в яме прямоугольной формы с положением вытянутого на спине покойного головой в южный сектор, с тайником в боковой стенке, традиционно для среднесарматской археологической культуры. У погребенного мужчины 40–45 лет в области тазобедренного сустава обнаружено срастание правой бедренной и правой тазовой кости, в связи с чем передвижение человека было сильно затруднено. Вероятнее всего, сращение произошло в результате ранения стрелой, которая попала в переднюю поверхность верхней части шейки бедренной кости. Стрела полностью покрыта новообразованной костной тканью. Ранение имело благоприятный исход, хотя человек после него был ограничен в движении и, вероятно, стал инвалидом. К тому же проксимальные и дистальные концы верхних и нижних конечностей отмечены деформирующим артрозом, а позвоночный столб поражен спондилезом, спондилоартрозом и остеохондрозом во всех отделах. Из особенностей, выявленных при исследовании позвоночника, следует также отметить срастание пятого, шестого и седьмого шейных позвонков 2.
Из вещей статусного характера в первую очередь следует отметить бронзовый котел, преднамеренно разбитый в древности. Бронзовый литой котел с двумя вертикальными ручками без выступов и тамгообразными знаками под ними, двумя ручками-петельками и опоясывающим орнаментом в виде «веревочки» наиболее близок котлам типа VI,3.A по классификации С.В. Демиденко, датированным I в. н.э. [Демиденко, 2008, с. 18, рис. 100].
Двусоставные кольчатые удила со стержневыми уплощенными псалиями, двумя вы- ступающими трапециевидными петлями и разными завершениями окончаний стержней встречаются в комплексах среднесарматского времени начиная с рубежа эр [Глухов, 2005, с. 57–58]. Отметим, что прямоугольные зауженные концы псалиев вполне могли быть предназначены для насадки каких-то украшений. Удила с аналогичными псалиями уже встречались в синхронном погребении кургана 13 из могильника Ковалевка, были опубликованы и проанализированы, что избавляет нас от необходимости поисков аналогий [Клепиков, Кривошеев, 2020]. Найденные рядом с удилами полусферические бляшки, ранее покрытые серебряной фольгой, вероятно, входили в гарнитуру конской упряжи и крепились на ремнях.
Рядом с предметами уздечного набора обнаружен комплект из трех фаларов, которые функционально можно определить как нагрудную и наплечные бляхи конской сбруи. Не будучи специалистом в области стилистических приемов сарматского звериного стиля, я позволю себе лишь отметить явные особенности, которые могут определить хронологические позиции анализируемых изделий. Во-первых, перед нами монохромные изображения, которые традиционно определяются как более ранние по сравнению со стилистической группой полихромного звериного стиля сармато-аланской эпохи I в. н.э. [Засецкая, 2012, с. 132], во-вторых, это многофигурные композиции с расположением вокруг центра, явно сделанные как комплект одним мастером и в единой манере, где в качестве признаков стиля можно назвать низкий рельеф, рельефный бордюр в виде «веревочки», хвосты и шерсть животных, разработанные в виде «елочки». Эти признаки были отмечены В.И. Морд-винцевой как специфическая особенность изделий, найденных исключительно в погребениях Северного Причерноморья, Прикубанья и Поволжья, что, по ее мнению, свидетельствует о продукции местных мастерских, продолжающих традицию эллинистического времени [Мордвинцева, 2003, с. 80].
Серебряная пряжка с подвижным язычком и рамкой в виде двух волют близка пряжке из разрушенного сарматского погребения у с. Цветна, датированного I – началом II в. н.э. [Симоненко, Лобай, 1991, рис. 27,5, с. 52] и аналогична золотой пряжке из богатого сарматского погребения кургана 1 могильника Октябрьский-V, расположенного всего в 12 км к северо-западу от мог. Ковалевка. М.Ю. Трей-стер датировал ее в пределах I в. н.э., но дату всего комплекса ограничил первой половиной I в. н.э. [Трейстер, 2019, с. 398, 407].
Сероглиняные круговые кувшины, изготовленные с использованием тонкоотмучен-ного теста и сформованные на быстром круге, представляют собой продукцию кубанских гончарных центров и распространены в могильниках Кубани и Нижнего Дона начиная с рубежа эр, хотя спорадически фиксируются уже в финале раннесарматского времени [Глебов, 2005, с. 179; Косяненко, 1988, с. 50–56].
Парные длинные ножи до 40 см хорошо известны в сарматских погребениях рубежа – первых веков н.э., причем встречаются они, как правило, в статусных комплексах с конской сбруей, бронзовыми котлами и другими престижными предметами [Скрипкин, 1989, с. 173, рис. 1, 16,17; Гущина, Засецкая, 1989, табл. V, 45 ; Симоненко, Лобай, 1991, с. 42]. По мнению А.С. Скрипкина, эти ножи ближе к боевым ножам Дальнего Востока, Центральной Азии и Южной Сибири, что позволяет связать их появление с очередным миграционным импульсом [Мыськов и др., 1999, с. 155].
Остальной инвентарь, как-то: железные трехлопастные черешковые наконечники стрел, оселок, ножик рядом с костями овцы, стеклянная бусина – имеет достаточно широкие хронологические границы.
Публикуемые материалы погребения из кургана 25 могильника Ковалевка позволяют определить его как среднесарматское погребение, датируемое в пределах рубежа – первой половины I в. н.э. и дополняющее известный ряд статусных погребений, появившихся в это время в Волго-Донском междуречье.
При этом следует заметить, что на рубеже эр здесь появляется целая страта воинов-всадников, о чем свидетельствует специфика сопутствующего инвентаря: наличие в насыпи и в погребениях костей лошади, предметов вооружения, в том числе наконечников копий и боевых ножей, уздечных наборов с богатым оформлением, не характерных для предыдущего населения [Клепиков, 2019; Клепиков, Кривошеев, 2020]. Погребения такого рода сосредоточены от низовьев Дона и Волги до лесостепи к северу [Клепиков, Кривошеев, 2020, рис. 5]. При этом в сопутствующем инвентаре преобладает нижнедонская и кубанская керамика, что позволяет предположить наличие постоянных контактов с этими территориями. М.Ю. Трейстер, анализируя импорты, происходящие из богатых среднесарматских комплексов Есауловского Аксая и Нижнего Дона, пришел к выводу, что первая группа (Октябрьский, Аксай, Жутово) может быть датирована концом I в. до н.э. – первой половиной I в. н.э., в отличие от элитных нижнедонских захоронений (Ново-Александровка, Высочино, Садовый курган), определенных в хронологических рамках второй половины I – начала II в. н.э., и предложил погребения высшей кочевой знати в бассейне р. Есауловский Аксай выделить в отдельную, раннюю группу могил высшей элиты среднесарматского времени [Трейстер, 2019, с. 407]. Вполне вероятно, и рассматриваемые нами погребения воинов-всадников можно отнести к этому времени. В то же время наличие немногих престижных вещей в этих погребениях, в том числе бронзовых котлов, не создает впечатления погребального комплекса высшей знати. Анализируя сарматские погребения с тайниками с конца II до н.э. до середины – третьей четверти II в. н.э., Б.А. Раев заметил, что они не отличаются особым богатством инвентаря и вряд ли их можно определять как «элиту», скорее как «средний класс», страту сарматских «бедных князей» с набором статусных, но не дорогих предметов [Раев, 2020, с. 203]. Полагаю, эта оценка вполне приложима и к большинству анализируемых погребений воинов-всадников первой половины I в. н.э. Добавим, что, в отличие от больших элитных курганов, насыпи над этими воинами так же невыразительны и не отличаются размерами от насыпей над могилами рядового населения. Рискну предположить, что в данном случае мы имеем дело с дружинниками, приближенными к родовой знати. Они первыми занимают новую территорию и контролируют ее, подавляя любое сопротивление. Неудивительно, что местное население могло воспринимать их как нежелательный элемент и, стараясь не допустить закрепления новой власти, оскверняло одиночные захоронения, пока они не стали превращаться в родовые могильники [Клепиков, 2023].
Список литературы Статусное среднесарматское погребение из могильника Ковалевка в Волгоградской области
- Глебов В. П., 2005. Сарматские погребения могильника Отрадный II // Труды археологического научно-исследовательского бюро. Т. II. Ростов н/Д: АНИБ. С. 161–198.
- Глухов A. A., 2005. Сарматы междуречья Волги и Дона в I – первой половине II в. н.э. Волгоград: Волгогр. науч. изд-во. 240 с.
- Гущина И. И., Засецкая И. П., 1989. Погребения зубовско-воздвиженского типа из раскопок Н.И. Веселовского в Прикубанье (I в. до н.э. – начало II в. н.э.) // Археологические исследования на юге Восточной Европы. Труды ГИМ. Вып. 70. М.: ГИМ. С. 71–141.
- Демиденко С. В., 2008. Бронзовые котлы древних племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья (V в. до н.э. – III в. н.э.). М.: ЛКИ. 328 с.
- Засецкая И. П., 2012. Украшения конской сбруи из сарматских погребений I века н.э. // Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. Т. 2. М.: Собрание. С. 102–132.
- Клепиков В. М., 2019. Сарматские погребения могильника Ковалевка: чужие среди своих? // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 24, № 1. С. 35–46. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2019.1.3
- Клепиков В. М., 2023. Частично разрушенные сарматские погребения Есауловского Аксая (ограбление или ритуальное осквернение?) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 28, № 4. С. 38–46. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.4.3
- Клепиков В. М., Кривошеев М. В., 2020. Детали конской узды из погребения сарматского всадника из могильника Ковалевка // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 25, № 4. С. 181–199. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2020.4.12
- Косяненко В. М., 1988. Сероглиняная гончарная керамика Крепинского могильника // Известия Ростовского областного музея краеведения. Вып. 5. Ростов н/Д. С. 50–57.
- Мордвинцева В. И., 2003. Полихромный звериный стиль. Симферополь: Универсум. 114 с.
- Мыськов А. В., Кияшко А. В., Скрипкин А. С., 1999. Погребение сарматской знати с Есауловского Аксая // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 2. С. 149–167.
- Раев Б. А., 2020. Сарматские погребения с тайниками в дне ямы в могильниках Нижнего Поволжья // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 25, № 4. С. 200–213. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2020.4.13
- Симоненко А. В., Лобай Б. И., 1991. Сарматы Северо-Западного Причерноморья в I в. н.э. (погребения знати у с. Пороги). Киев: Наукова Думка. 110 с.
- Скрипкин А. С., 1989. Погребальный комплекс с уздечным набором из Котлубани и некоторые вопросы этнической истории сарматов // Советская археология. № 4. С. 172–181.
- Трейстер М. Ю., 2019. Таз(-ы) из кургана № 1 могильника Октябрьский-V (к вопросу о времени и историческом контексте формирования центра погребальных памятников кочевой элиты в междуречье Дона и Волги) // Вестник древней истории. № 2. С. 379–415. DOI: https://doi.org/10.31857/S032103910006756-4