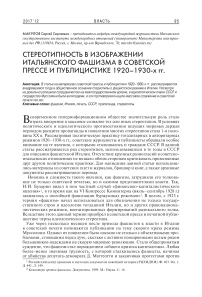Стереотипность в изображении итальянского фашизма в советской прессе и публицистике 1920-1930-х гг
Автор: Макулов Сергей Сергеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье на материалах советской прессы и публицистики 1920-1930-х гг. рассматриваются внедрявшиеся тогда в общественное сознание стереотипы о фашистском режиме в Италии. Несмотря на довольно успешное сотрудничество на межгосударственном уровне, в идеологическом плане СССР и государство Муссолини были антиподами, и эти противоречия нашли массовое отражение в советской печати тех лет.
Фашизм, италия, печать, ссср, пропаганда, стереотипы
Короткий адрес: https://sciup.org/170168691
IDR: 170168691
Текст научной статьи Стереотипность в изображении итальянского фашизма в советской прессе и публицистике 1920-1930-х гг
В современном гиперинформационном обществе значительную роль стало играть внедрение в массовое сознание тех или иных стереотипов. В условиях политического и идеологического противостояния ведущих мировых держав периодом расцвета пропаганды и появления многих стереотипов стала 1-я половина ХХ в. Рассматривая политическую практику тоталитарных и авторитарных режимов 1920–1930-х гг., советские журналисты и публицисты обращали особое внимание на те явления, с которыми сталкивались и граждане СССР. В данной статье рассматривается ряд стереотипов, использовавшихся в те годы в СССР для описания фашистской Италии. Отсутствие крупных разногласий в советско-итальянских отношениях не мешало обеим сторонам критиковать применяемые друг другом политические практики. Для написания данной статьи использовались материалы из советских газет и журналов, брошюр и книг, а также архивные документы рассматриваемого периода.
Новизна и сложность такого явления, как фашизм, затрудняли его толкование не только советской печатью, но и самими представителями власти. Так, Н.И. Бухарин видел в нем частный случай «финансово-капиталистического явления»1, в то время как на VI Конгрессе Коминтерна (июль–сентябрь 1928 г.) заявлялось о «всеобщей фашизации буржуазных режимов»2. В целом, с 1923 г. термин «фашизм» начал использоваться для обозначения не только государственного строя и идеологии тогдашней Италии, но и других правонационалистических режимов, военизированных формирований радикального толка. Вследствие этого данный термин приобрел в советской прессе и печатной публицистике черты идеологического стереотипа.
Уже через несколько месяцев после прихода фашистов к власти в Италии в советской печати начинаются публикации на тему скорого краха режима Муссолини. Однако их появление было связано не столько с объективными проблемами, стоявшими перед дуче, сколько с активно поощряемыми целым рядом большевиков надеждами на скорую мировую революцию. Стало общепринятым суждение, что фашизм стал порождением «общего кризиса капитализма». Любая более-менее значимая трудность, с которой сталкивались фашисты, начиная от убийства депутата-демократа Д. Маттеотти и заканчивая протестами против итало-абиссинской войны, провозглашалась признаком кризиса режима. Не до конца свободно от этих иллюзий было и руководство итальянской компартии и Коминтерна. К примеру, развернувшиеся в 1930 г. на фоне мирового экономического кризиса волнения были расценены как «новый революционный подъем пролетариата»1, хотя ни о какой угрозе режиму Муссолини речь не шла. Временами подобные представления влияли и на поступки советских дипломатов. Так, полпред СССР в Италии К.К. Юренев в 1924 г., несмотря на распоряжения из Москвы, затягивал советско-итальянские переговоры, т.к. предполагал, что режим Муссолини скоро падет.
Регулярно и старательно подчеркивалась антикоммунистическая направленность фашизма, однако необходимость стоять на марксистских позициях вынуждала многих советских журналистов и публицистов того времени давать не совсем точные оценки этого явления. К примеру, Г.Б. Сандомирский, автор сразу нескольких книг и брошюр о режиме Муссолини, изданных в 1920-х гг., рассматривал «международный фашизм» как реакцию на победу большевиков в России [Сандомирский 1926: 8], не учитывая при этом целый ряд других факторов, прежде всего внутренних, способствовавших росту правонационалистических настроений во многих европейских странах после окончания Первой мировой войны. Пытаясь использовать для анализа событий в Италии классовый подход, он утверждал, что фашистский режим защищал интересы крупной буржуазии от мелкой [Сандомирский 1926: 51], тогда как диппредставитель СССР в Италии Н.И. Иорданский в своей статье «Судьба фашизма» (1923) видел в фашизме бунт деревни против города. В рецензии на брошюру Д. Илимского «Италия в руках фашистов» (1927), размещенной в партийном журнале «Большевик»2, автору вменяется в вину «отсутствие марксистского анализа происхождения фашизма» и недостаточное внимание к роли итальянской компартии в политической жизни этой страны. Уже после падения фашистского режима прямо заявлялось, что его основной целью было подавление рабочего класса [Слободской 1946: 70], что выглядит довольно поверхностным и ограниченным суждением. Более взвешенной выглядит позиция итальянского историка Иньяцио Силоне, утверждавшего, что спад революционного движения в Италии того времени был вызван нежеланием пролетариата вновь быть подвергнутым гонениям. Умение фашистского режима работать с народными массами, действовать не только силой, но и убеждением отмечал даже глава итальянской компартии П. Тольятти [Лопухов 1977: 136].
Следует, однако, отметить, что до начала гражданской войны в Испании и заключения союза Рима и Берлина внешняя политика Италии рассматривалась советскими журналистами и публицистами достаточно трезво, что было связано с отсутствием серьезных противоречий между двумя странами. Италофранцузские и итало-британские разногласия, равно как и проблемы взаимоотношений фашистского режима с Югославией, Грецией и т.д., освещались непредвзято, с использованием целого ряда зарубежных источников.
Внутренняя политика фашистов часто критиковалась в СССР с гуманистических позиций. Регулярно подчеркивалось, что режим Муссолини враждебен народным массам, заострялось внимание на ряде антисоциальных мер и жестких законов (так, серьезной критике подвергся закон о печати 1924 г.) Постоянно отмечалось несоответствие авторитарной формы правления национальному характеру итальянцев, а многие повседневные трудности, с которыми сталкивались рядовые жители Апеннин, связывались с пребыванием у власти Муссолини. Регулярно подчеркивалась склонность фашистов к насилию над политическими противниками, часто перепечатывались материалы западных коммунистических изданий о разного рода репрессиях, которым подвергались итальянские антифашисты. Утверждалось, что фашистский режим вызвал лишь «иллюзию сотрудничества классов в обществе» [Антонов 1923: 31]. Однако многие деятели коммунистического движения предостерегали от таких однозначных оценок. К примеру, венгерский сотрудник Коминтерна Дьюла Шаш, писавший под псевдонимом Аквила, в одной из своих докладных записок утверждал, что изучать состояние итальянской экономики на основе статистических данных проблематично, а в некоторых случаях (к примеру, в вопросе о числе безработных) они и вовсе могут быть недостоверными1.
Заострялось и внимание на милитаристской составляющей режима Муссолини. Так, один из представителей Главлита выражал недовольство тем фактом, что в серии диапозитивов «Абиссиния» (1936) недостаточно отражена тема жестокости итальянских оккупантов и массовых протестов против завоевательной войны2. Подчеркивалось нежелание рядовых итальянцев участвовать в интервенции против республиканской Испании, регулярно приводились примеры дезертирства и перехода военнослужащих на сторону противника. Итальянская армия изображалась недостаточно боеспособной, ее командование – безынициативным. При этом регулярно появлялись материалы о сознательном насаждении в стране милитаристского культа (итальянские дети того времени с 4 лет были обязаны состоять в паравоенизированных организациях и носить форму).
Важной вехой в советско-итальянских отношениях стало присоединение Италии в 1937 г. к Антикоминтерновскому пакту Германии и Японии. Так как германский нацизм и японский милитаризм на тот момент являлись основной внешнеполитической угрозой для СССР, этот шаг итальянских фашистов был воспринят очень болезненно. Советская печать сосредоточилась в основном на высмеивании подчиненной роли Рима в этом союзе. Так, критиковалась развязанная Муссолини под давлением Гитлера антисемитская кампания, подчеркивалась нелюбовь рядовых итальянцев к ведущим себя по-хозяйски в их стране немецким офицерам и т.д.
Сам дуче также регулярно подвергался критике и насмешкам, пресса показывала его как жестокого и беспринципного политика. Особую ненависть советской печати вызывал тот факт, что Муссолини на протяжении многих лет был социалистом и впоследствии изменил свои взгляды. Также резко отрицательную реакцию вызвало заключение итальянским лидером конкордата с Ватиканом. Муссолини обвинялся в терроре против политических противников (особняком здесь стоит убийство Д. Маттеотти), узурпации властных полномочий (к примеру, в одной из публикаций он был назван «некоронованным королем Италии»3), поддержке фашистских и правонационалистических режимов по всему миру, развязывании итало-абиссинской войны и интервенции против республиканской Испании. В советской прессе описывалась любовь дуче к театральным эффектам, навязчивое желание понравиться народным массам, мегаломания. В целом, подобной тональности в высказываниях по отношению к Муссолини в те годы придерживалась и западная печать. Поворотным моментом в отношении советской печати к итальянскому лидеру и фашистскому режиму в целом стало заключение в августе 1939 г. пакта Молотова–Риббентропа, которое привело к временной нормализации отношений между СССР и странами оси. С этого момента критика внутренней и внешней политики Италии прекращается, чтобы возобновиться 22 июня 1941 г.
Как полагал французский исследователь Ж. Пиррот, стереотипы общественного сознания формируются на основе какого-либо социального заказа [Васильева 1988: 3]. Характер изображения режима Муссолини в советской печати и публицистике рассматриваемого периода указывает на то, что большевикам было необходимо заострить внимание на таких чертах режима своих идеологических противников, как вождизм, милитаризм, антикоммунизм, пренебрежение интересами рядовых граждан, подавление свобод. При этом насаждаемые в периодике стереотипы не оказывали особого влияния на советско-итальянские отношения на межгосударственном уровне. Их прагматичный характер неоднократно подчеркивался в выступлениях советских лидеров тех лет (см., к примеру, публикацию в газете «Известия» от 11.12.1928). Это связано с тем, что пропагандистские стереотипы далеко не всегда влияют на политику того или иного государства по отношению к другому [Зак 1976: 18]. Однако использовавшемуся в советской печати 1920–1930-х гг. термину «фашизм» как сематическому стереотипу была свойственна «неточная субъективная генерализация, т.е. неосознанное приписывание какого-либо свойства всем объектам класса, объединяемого с помощью данного названия» [Бартминьский 2005: 167].
Список литературы Стереотипность в изображении итальянского фашизма в советской прессе и публицистике 1920-1930-х гг
- Антонов Д.А. 1923. Очерки фашизма в Италии. М.: Разведывательный отдел штаба РККА. 140 с
- Бартминьский Е. 2005. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М.: Индрик. 527 с
- Васильева Т.Е. 1988. Стереотипы в общественном сознании (социально-философские аспекты). М.: ИНИОН АН СССР. 41 с
- Зак Л.А. 1976. Западная дипломатия и внешнеполитические стереотипы. М.: Международные отношения. 287 с
- Лопухов Б.Р. 1977. История фашистского режима в Италии. М.: Наука. 296 с
- Сандомирский Г.Б. 1926. Италия наших дней. М.-Л.: Госиздат. 106 с
- Слободской С.М. 1946. Итальянский фашизм и его крах. М.: ОГИЗ. 205 с