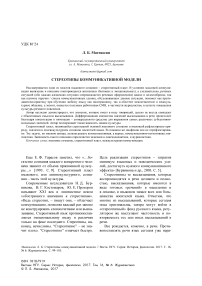Стереотипы коммуникативной модели
Автор: Матевосян Лианна Бениаминовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языки и дискурсы СМИ
Статья в выпуске: 6 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается один из пластов языкового сознания - стереотипный пласт. В условиях массовой коммуникации выявление и описание повторяющихся жизненных (бытовых и эмоциональных), а следовательно, речевых ситуаций (ибо каждая жизненная ситуация сопровождается речевым оформлением) важно и целесообразно, так как наличие перечня / списка коммуникативных единиц, обслуживающих данные ситуации, поможет как преподавателю-практику при обучении любому языку как иностранному, так и облегчит межличностное и межкультурное общение, а значит, окажется полезным работникам СМИ, в частности журналистам, в аспекте повышения культуры речевого поведения. Автор наглядно демонстрирует, что значение, которое имеет в виду говорящий, далеко не всегда совпадает с объективным смыслом высказывания. Дифференциация множества значений высказывания в речи происходит благодаря конситуации и интонации - универсального средства для выражения самых различных субъективно модальных значений. Автор подчеркивает также важность знания культуры. Стереотипный пласт, являющийся структурной основой языкового сознания и имеющий рефлекторную природу, значится в лингвокультурном сознании носителей языка. В сознании же инофонов оно не отрефлектировано. Эту задачу, по мнению автора, должна решать коммуникативная, а вернее, коммуникативно-когнитивная лингвистика. Значимость такого описания определяется задачами и лингводидактики, и журналистики.
Языковое сознание, стереотипный пласт, межкультурная коммуникация
Короткий адрес: https://sciup.org/147219802
IDR: 147219802 | УДК: 81?24
Текст научной статьи Стереотипы коммуникативной модели
Еще Е. Ф. Тарасов заметил, что «…бо-гатство сознания каждого конкретного человека зависит от объема присвоенной культуры…» [1993. С. 9] . Стереотипный пласт языкового, или лингвокультурного, сознания – часть этой культуры.
Современные исследователи Н. Д. Бур-викова, В. Г. Костомаров, Ю. Е. Прохоров называют ХХI век в лингвистике веком «обостренного внимания к стереотипам». «Ведь стереотип, – пишут они, – облегчает коммуникацию, позволяя каждый раз заново не конструировать словосочетание или высказывание. Стереотипный язык противопоставляется эмоциональному языку и различим только на фоне последнего. Стереотипы, наконец, исчислимы. “Стереотипно” – не значит плохо. “Стереотипно” означает быстро.
Цель реализации стереотипов – затратив минимум языковых и поведенческих усилий, достигнуть нужного коммуникативного эффекта» [Бурвикова и др., 2003. С. 5].
Стереотипны те высказывания, которые воспроизводятся в речи целиком и полностью, высказывания, которые имеются в виде готовых «речений» в мышлении и в лексике, в языковом запасе всех или большинства носителей языка. Отметим, что многие из высказываний, которые сегодня пока оригинальны, завтра могут войти в «стереотипный» фонд русского языка, регулятором же выступают частотность и повторяемость тех или иных высказываний в речи.
Все рождается, конечно, в речи. Противопоставлять речи язык сегодня уже нера-
Матевосян Л. Б. Стереотипы коммуникативной модели // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 6: Журналистика. С. 99–105.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 6: Журналистика
зумно, потому что это диалектическое единство 1. Где начало? Очевидно, в речи. Как только в процессе общения возникают стереотипные ситуации, сразу же из уст говорящего “выскакивают” стереотипные высказывания: Здравствуйте , я Ваша тетя ; Ну да ; Конечно ; Нужны мне Ваши советы . Основная особенность (дифференциальный признак) стереотипных высказываний – частотность их употребления в речи. Таким образом, наступает момент, когда количество «вынуждено» перейти в качество, когда данные коммуникативные единицы попадают в «словарь» – в систему, такую же как язык, – и речевые явления становятся фактом языка.
Язык функционирует в социальной среде, и социальные факторы влияют на функционирование и развитие языка.
Частотность – фактор социальный. Частотность той или иной конструкции, формы слова – это факт социального предпочтения. Именно частотность употребления в речи готовых воспроизводимых единиц языка в их постоянной комбинаторике и постоянном значении привела к образованию речевого стереотипа / стандарта или, в терминах В. В. Красных, стереотипа-представления [1999. С. 270].
В условиях массовой коммуникации выявление и описание повторяющихся жизненных (бытовых и эмоциональных), а следовательно, речевых ситуаций (ибо каждая жизненная ситуация сопровождается речевым оформлением) важно и целесообразно, так как наличие перечня / списка коммуникативных единиц, обслуживающих данные ситуации, поможет преподавателю-практику при обучении любому языку как иностранному и облегчит межличностное и межкультурное общение, а значит, окажется полезным работникам СМИ, в частности журналистам, в аспекте повышения культуры речевого поведения.
Сравним, например, выражения приветствия в славянских, армянском, английском и японском языках. В славянских, армян- ском, английском языках обнаруживается практически полное соответствие: приветствие охватывает широкую ситуацию (рус. Здравствуй(-те), Привет; арм. Բարև' ձեզ [barev (dzez)], Ողջու'յն [vokht∫uin]; англ. How do you do? Hello) и временну́ ю ситуацию (рус. Доброе утро, Добрый день, Добрый вечер; укр. Доброго ранку, Добри день, Добри вечір; белорус. Добрай раніцы, Добры дзень, Добры вечар; словац. Dobré ráno, dobré popoludnie, dobrý večer; чеш. Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer; болгар. Добро утро, добър ден, добър вечер; арм. Բարի' լույս [bari luis], Բարի' օր [barior], Բարի' երեկո [bariereko]; англ. Good morning, Good afternoon, Good evening). Японские приветствия, по наблюдениям А. А. Акишиной и К. Камогавы [1974], отличаются большей ситуативной дробностью: они связаны с ситуациями местоположения собеседников – особые приветствия при входе в помещение, при выходе из помещения и т. п.
В русском, армянском, английском языках приветствия дифференцируются по стилям: официальный, нейтральный, дружеский; в японском языке – по степени вежливости (начиная с дружеских, фамильярных и кончая почтительными).
У каждого народа в силу национальных и культурных особенностей свое видение, своя модель мира, которая имеет «свой языковой каркас» [Василевич, 1993. С. 163]. «Так, например, у кавказских народов, – пишет Р. Б. Сабаткоев, – существуют строго регламентированные формы обращения, приветствия, прощания, выражения сочувствия и т. д., служащие для выражения доброжелательности, уважения и сочувствия к человеку. Некоторые из них в определенной мере отличаются от соответствующих речевых формул русского языка» [1999. С. 472]. «В корейском языке, – отмечает Н. Б. Меч-ковская, – категория вежливости насчитывает семь ступенeй: 1) почтительная, 2) уважительная, 3) форма вежливости, характерная для женской речи, 4) учтивая, 5) интимная, 6) фамильярная, 7) покровительственная. Для каждой формы вежливости характерен свой набор грамматических, словообразовательных, лексических показателей. Существуют также грамматические и лексические синонимы, основное различие между которыми состоит в том, что они сигнализируют раз- ную степень вежливости» [Мечковская, 2000. С. 60–61].
Эти два «лингвокультурных типа» [Гаспаров, 1977. С. 28] – в духе терминологии Б. Уорфа – можно назвать европейским и восточным стандартом 2.
Среди стереотипных высказываний обширный и употребительный класс составляют единицы, которые не структурируются, так как не имеют лексических вариантов. Это так называемые междометные высказывания: Эх! Ух ты! Ни-ни-ни! - и фразеоло-гизированные модели, которые не продуктивны и реализуется часто в высказываниях, состоящих из лексем и фразеологизмов, обладающих идиоматической ситуативно-стационарной семантикой; семантика этих высказываний вполне понятна носителю языка, но не инофону. Например: Добро пожаловать! Милости просим! Как бы не так! Так точно. Никак нет. Есть! Еще бы! Ладно. ( ? ) Хорошо. Идет! ( ? ) Ей-бо-гу? ( ! ) Слава богу. Конечно. К черту! Ай да! Баста! Дудки! Ну-ка! Алло! Полноте! Вот оно что! Вот это да! Увы! Ура! Эх! Ничего! Неужели! и др.
Эти стереотипные высказывания, как правило, представлены отдельными лексически неварьируемыми словоформами и сочетаниями слов, закрепившими за собой в системе языка коммуникативную функцию, и, соответственно, облечены интонацией предложения. В диалоге они выражают утверждение и отрицание, согласие и несогласие, волеизъявление, призыв к действию, к вниманию, различные эмоции, выступают как чисто «познавательный вопрос».
Русская разговорная речь пестрит также «многозначными» стереотипными высказываниями. Многозначность высказывания, как правило, развивается на базе эмоционального переосмысления высказывания говорящим, что возможно, по образному выражению А. Н. Леонтьева, из-за «двойной жизни значений» [1972. С. 136]: с одной стороны, значения входят в социальную память общества, с другой стороны, являются неотъемлемой частью внутреннего мира отдельного человека (см.: [Леонтьев, 1976.
С. 49]). В процессе восприятия такие значения (которые имплицитно содержатся в высказывании) дифференцируются благодаря различиям в ситуациях и с помощью интонации.
Так, русское стереотипное высказывание Не до тебя ( вас ) указывает прежде всего на занятость. Его значение может быть интерпретировано двумя, по крайней мере, способами:
-
1) ‘ Я сейчас очень занят ’,
-
2) ‘ У меня сейчас тяжело на душе ’, с общей частью: ‘ …и поэтому я не могу уделить тебе внимания ( поговорить с тобой , заняться твоим делом и т. д. )’.
В определенной конситуации Не до тебя ( вас ) может выражать «недовольство»:
Виктор: Уйди , Афоня , не до тебя™ (А. Арбузов. Иркутская история).
Или Подумаешь в первую очередь выражает ‘ отношение к чему-то как не заслуживающему , с точки зрения говорящего , серьезного внимания ’ . Ср.:
– У него травма! – Подумаешь , небольшой ушиб.
– Мне часы подарили! – Подумаешь , часы! А у меня магнитофон есть.
Подумаешь! выражает также «несогласие с мнением собеседника». В определенной конситуации может выражать «недовольство». Ср.:
Виктор: ( Резко. ) Не лезь не в свое дело!
Виктор: Подумаешь! То сам просил , а то – “не лезь”. (А. Афиногенов. Машенька).
Имплицитные значения легко воспринимаются носителями языка. Иностранцам же такие значения часто представляются непонятными, неожиданными, поэтому этот аспект должен занять определенное место в обучении иностранцев живой русской речи.
Такие стереотипные высказывания, как Здравствуйте; Здравствуйте, я ваша тётя ; Очень нужны они мне! Хрен я ей верну, в повседневной речи русских употребляются как в буквальном, так и в «переносном» значениях (Здравствуйте – как «приветствие» и как «удивление»; Здравст- вуйте, я ваша тётя - в буквальном смысле и как «удивление-возражение»; Очень нужны они мне! - как «необходимость» и наоборот; Хрен я вам верну - в прямом значении – ИК-1 и в значении «ничего не верну» – ИК-3).
Омонимия данных высказываний – это результат их эмоционального переосмысления говорящим. Задача языковедов-практиков – уделить серьезное внимание описанию омонимичных высказываний при обучении, в данном случае, русскому языку как иностранному, ибо они нередко затрудняют процесс общения и в ряде случаев даже представляют опасность: возникает возможность неверного осмысления реплики.
Неправильное понимание подобных стереотипных высказываний иностранцем / ино-фоном (если исключить фактор «интонационной глухоты» инофона) свидетельствует об отсутствии у него знаний о существовании в русском языке их переносного употребления, т. е. аккумулятивная функция языка, или функция накопления общественного опыта и знаний, низведена до нуля. Другая причина – отсутствие данных значений в родном языке: например, ни во французском, ни в английском языке названные высказывания в указанных значениях не употребляются, даже как окказиональные. Более того, англичанам не свойственно «отдаваться» чувствам. По замечанию Анны Вежбицкой, англосаксонская культура – культура, которая на эмоциональное поведение смотрит без особого одобрения, с подозрением и смущением, «поэтому, – пишет она, – сравнивая английский язык с русским, особенно интересно отметить, что именно русский ‹…› выступает как язык, уделяющий эмоциям гораздо большее внимание и имеющий значительно более богатый репертуар лексических и грамматических выражений для их разграничения» (см.: [Вежбицкая, 1996. С. 41, 44].
Умение чувствовать и распознавать эмоционально-экспрессивные оттенки значений высказывания, выбирать нужную реплику в той или иной ситуации, находить правильную интонацию облегчает общение, взаимопонимание, ибо реплика задает тон, определяет тональность диалога, от правильного выбора зависит судьба диалога. Дж. О’Коннор и Дж. Сеймор в книге «Введение в нейролингвистическое программирование» пишут: «Различие создается не тем, что мы говорим, а тем, как мы это говорим. Маргарет Тэтчер затратила уйму времени и усилий на то, чтобы изменить свой голос. Тон голоса и язык телодвижений определяют, будет ли слово “привет” звучать как простое приветствие, как угроза, как подавление или как очаровательное восклицание» [1998. С. 34–35].
Теория «культурно обусловленных сценариев» появилась недавно и недостаточно известна. Сущность данной теории заключается в выявлении и описании негласных правил, помогающих быть «личностью среди других личностей». Правила подобного рода являются для той или иной культуры специфическими. Они учат, «...как думать, как чувствовать, как хотеть и как действовать согласно своему хотению 3, как добывать или передавать знания и, что важнее всего, как говорить с другими людьми» [Вежбицкая, 1996. С. 393] (курсив наш. – Л. М .). Так, англо-американская культура поощряет отзываться с похвалой о других людях, дабы поднять их в собственных глазах. В японской же культуре, наоборот, похвала в лицо не поощряется, однако вызывает одобрение говорить о себе «плохо» (см.: [Вежбицкая, 1996. С. 397–398]). В армянской культуре, по нашим наблюдениям, поощряется похвала в лицо других людей, даже чрезмерная, однако не одобряется, если человек говорит «хорошо» о себе, и может вызвать упрек.
Выявление универсальных эмоций и описание связанных с ними слов и выражений – на наш взгляд, бесценный ключ к пониманию культур и социумов.
Иностранцы расшифровать эмоционально обусловленные значения стереотипных высказываний без фоновых знаний, которыми обладают россияне, не могут. Обладая смысловой самостоятельностью, эти высказывания не могут быть правильно истолкованы вне соотнесения с фактами культуры, что подтверждает мысль, высказанную В. Н. Телия: «… “чужая культура – это идиома” , поскольку ее содержание не мотивировано для непосвященного в нее, а потому не прозрачно для него и не отрефлек-тировано » [1996. С. 226] (курсив наш. – Л. М .).
Яркой иллюстрацией изложенного может служить анекдот, рассказанный профессором МГУ М. В. Всеволодовой:
За границей женщину, говорящую только по-русски, судят за кражу.
Судья: Вы обвиняетесь в том , что украли курицу. Это правда?
Подсудимая: Брала я вашу курицу!
Переводчик: Подсудимая призналась , что она курицу взяла.
Судья: Зачем вы это сделали?
Подсудимая: Да отстаньте! Нужна мне ваша курица!
Переводчик: Она говорит , что курица была ей нужна.
Судья: Вы специально приехали к нам , чтобы воровать?
Подсудимая: Ну как же , я нарочно из Одессы приехала , чтобы украсть вашу курицу. Делать мне больше нечего!
Переводчик: Подсудимая призналась , что приехала из Одессы специально , чтобы заниматься преступной деятельностью , так как дома она не может найти работу.
Судья: Да за это вас могут посадить в тюрьму на срок до шести месяцев!
Подсудимая: Всю жизнь мечтала оказаться за решёткой .
Переводчик: Она говорит , что главная цель её жизни – попасть в тюрьму.
Судья: Она что , сумасшедшая?
Подсудимая: Здравствуйте , я ваша тётя!
Переводчик: Она вас приветствует и говорит , что является вашей близкой родственницей.
Судья (устало): Ну если она родственница , то пусть заплатит хотя бы штраф.
Подсудимая: Хрен вам!
Переводчик: Подсудимая предлагает расплатиться овощами!
Судья: Уберите отсюда эту ненормальную!
Подсудимая (уходя): Ну и пёс с вами!
Судья (испуганно): Что , что она говорит?
Переводчик: Если я правильно понял , она уходит , а собачку оставляет вам [Панков, 2013] .
Стереотипный пласт, являющийся структурной основой языкового сознания и имеющий рефлекторную природу, значится в лингвокультурном сознании носителей языка. В сознании же инофонов оно не от-рефлектировано. Эту задачу, на наш взгляд, должна решать коммуникативная, а вернее, коммуникативно-когнитивная лингвистика. Значимость такого описания определяется задачами и лингводидактики, и журналистики.
Список литературы Стереотипы коммуникативной модели
- Акишина А. А., Камогава К. Сравнительный анализ русского и японского речевого этикета // Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка иностранцам. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. С. 9-24.
- Бурвикова Н. Д., Костомаров В. Г., Прохоров Ю. Е. Национально-культурные единицы общения в современном культурном пространстве - лингвометодический аспект // Русский язык в Армении. 2003№ 3. С. 3-5.
- Василевич А. П. Описание фигуры человека в лексике семи знаков: универсалии и различия // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. M.: Институт языкознания, 1993. 174 с.
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996. 416 с.
- Гаспаров Б. М. Введение в социограмматику // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 425 // Тр. по русской и славянской филологии XXIX. Серия лингвистическая. Проблемы языковой системы и ее функционирования. Тарту, 1977. С. 24-45.
- Красных В. В. Стереотипы: необходимая реальность или мнимая необходимость // Материалы IХ Конгресса МАПРЯЛ. Братислава, 1999 г.: Докл. и сообщ. рос. ученых. М., 1999. С. 266-271.
- Леонтьев А. А. Психолингвистический аспект языкового значения // Принципы и методы семантических исследований. М.: Наука, 1976. 380 с.
- Леонтьев А. Н. Деятельность и сознание // Вопросы философии. 1972. № 12.
- Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. М.: Аспект Пресс, 2000. 206 с.
- O’Коннор Дж., Сеймор Дж. Введение в нейролингвистическое программирование: как понимать людей и как оказывать влияние на людей. Челябинск: Библиотека А. Миллера, 1998. 266 с.
- Панков Ф. И. Функционально-коммуникативная грамматика и русская языковая картина мира // Мир русского слова. 2013. № 2.С. 72-80.
- Сабаткоев Р. Б. Речевой этикет как важное средство воспитания культуры общения // Материалы IХ Конгресса МАПРЯЛ. Братислава, 1999 г.: Докл. и сообщ. рос. ученых. М., 1999. С. 471-473.
- Тарасов Е. Ф. Введение. Методологические проблемы сознания // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. M.: Институт языкознания, 1993. 174 с.
- Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Языки русской культуры, 1996. 284 с.