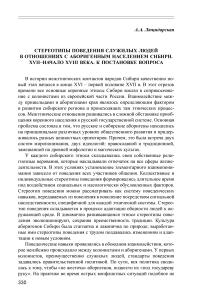Стереотипы поведения служилых людей в отношениях с аборигенным населением Сибири. XVII-начало XVIII века. к постановке вопроса
Автор: Люцидарская А.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIV, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521463
IDR: 14521463
Текст статьи Стереотипы поведения служилых людей в отношениях с аборигенным населением Сибири. XVII-начало XVIII века. к постановке вопроса
В истории межэтнических контактов народов Сибири качественно новый этап начался в конце XVI – первой половине XVII в. В этот отрезок времени все основные коренные этносы Сибири вошли в соприкосновение с колонистами из европейской части России. Взаимодействие между пришельцами и аборигенами края являлось определяющим фактором в развитии сибирского региона и происходящих там этнических процессов. Межэтнические отношения развивались в сложной обстановке приобщения коренного населения к русской государственной системе. Основная проблема состояла в том, что русские и сибирские аборигены находились на принципиально различных уровнях общественного развития и придерживались разных ценностных ориентиров. Причем, это была встреча двух систем миропонимания, двух идеологий: православной и традиционной, замешанной на древней мифологии и магических культах.
У каждого сибирского этноса складывались свои собственные религиозные верования, которые накладывали отпечаток на все сферы жизнедеятельности. В этих условиях установление элементарного взаимопонимания зависело от поведения всех участников общения. Коллективные и индивидуальные стереотипы поведения формировались длительное время под воздействием социальных и идеологически обусловленных факторов. Стереотип поведения можно рассматривать как систему поведенческих навыков, передаваемых из поколения в поколение посредством сигнальной наследственности, специфичной для каждой этнической системы. Стереотип поведения складывается в процессе адаптации общности людей к окружающей среде. В динамично развивающемся этносе стереотипы поведения эволюционируют, сохраняя преемственность традиции. Культура аборигенов Сибири была стагнатна и лаконична по природе; выработанные ими стереотипы поведения с трудом поддавались изменениям и адаптации к новым условиям.
Поведенческие навыки проявлялись в обоюдном взаимодействии, которое неизбежно происходило между колонистами и аборигенами. У первых колонистов, преимущественно служилых людей, стандарты поведения задавались правительственной политикой. По сути, вся политика сводилась к тому, чтобы «не жесточа» аборигенов, подвести их «под государеву руку». На практике во время острых конфликтных ситуаций подобное не 330
удавалось. В постконфликтный период такая линия поведения себя оправдывала, но при этом происходила ломка стереотипов поведения.
В период первоначальной колонизации территорий Сибири вооруженных столкновений с местным коренным населением практически избежать не удавалось. Длительность и интенсивность конфликтов зависела от уровня социального развития аборигенных сообществ и уровня заинтересованности в стабильных связях с русской государственностью, от угрозы со стороны третьей силы и т.п. Несправедливым было бы сравнивать поведение общности людей в обыденной обстановке с поведением в обстановке близкой к экстремальной.
В 1635 г. красноярские служилые люди, испытывая нужду в продовольственном обеспечении, жаловались, что «в Красноярском остроге хлебных запасов в житницах нет». Власти вынуждены были прекратить обеспечивать пищей заложников-аборигенов. Заложниками или аманатами в Красноярске были преимущественно местные воинственные кыргызы, своими набегами постоянно досаждавшими жителям уезда. Среди семей красноярцев мало кто избежал последствий кровопролития с кыргызами. Однако, в голодный период времени власти приняли решение отпускать на время заложников из тюремного помещения «аманатской избы» «и те де аманаты кормятся, ходя по них же, служилых людей» [Бахрушин, 1959, с. 47-48]. Кыргызы беспрепятственно передвигались по городу, просили милостыню и, судя по всему, получали ее. В это время острых столкновений с родоплеменными объединениями кыргызов не было и красноярским казакам достаточно легко было менять привычный негативный стереотип к потенциальным врагам. Однако, в 1679 г., во время нападения кыргызов и ту-бинцев на Красноярский острог служилые люди избили аманатов из «немирных» волостей [Там же, с. 47-48]. Устойчивый стереотипа поведения не мог сложиться в конфликтных зонах пространства Сибири.
В коммуникативной культуре значимая роль отводится личности. Нестандартный поступок отдельного индивида может тиражироваться, если это касается людей, авторитетных в своей среде. К таким личностям в полном праве можно отнести известного в XVII в. политика и вое-ноначальника Якова Тухачевского. Человек богатого опыта и гибкого ума, он вел переговоры со многими правителями родоплеменных объединений. Тухачевский реализовал свой стереотип восприятия чуждой этнической культуры, частично приближаясь к идентификации себя с носителями этой культуры для достижения положительного контакта. Во время похода Тухачевского против «изменников» на северном Алтае в бою погиб мурза Тарлав. Дальнейшие действия Тухачевского не были поняты большинством казаков. Военоначальник приказал похоронить Тарлава в соответствии с традиционными для его культуры обрядами и «над его могилою лошадь резать и поминать, а служилым людям около могилы велел стоять с ружьем» [Курилов, Люцидарская, 1985, с. 36-37]. Этот поступок повлек за собой с одной стороны - положительные политические последствия в регионе, а с другой - целый ряд обвинений со стороны служилого люда. Действия предводителя похода ломали все стереотипы восприятия «языческих» врагов. Однако это был наглядный пример для немногих единомышленников Тухачевского и повод к изменению настроений в обществе, во всяком случае, к «брожению умов».
Царское правительство давало возможность аборигенам принимать православие и вступать в ряды служилых. В этом случае изменять стереотипы поведения приходилось с обеих сторон. В целом, русский менталитет был толерантным. Достаточно привычным было приятие в ряды крещеных служилых людей представителей иной культуры. Среди казаков в Сибири было немало татар из различных регионов, коми-зырян, бывших пленных «литвин» и т.п. Наработанный стереотип восприятия иноземцев, распространялся и на коренные этносы Сибири.
Действовал принцип – православный, значит свой, «государев». Для сибирских аборигенов переход в новый социальный уровень отношений происходил сложно. Далеко не всегда адаптация к новым условия была успешной. В душе многие коренные народы сохраняли традиционное мировоззрение, основанное на единении с природой. Известны случаи, когда все материальные и социальные преимущества служилого человека не могли удержать аборигена в новых для него правильных «православных» рамках. Особенно часто подобные примеры встречались среди сибирского угорского населения. Крещенные служилые вогулы (манси) нередко оставляли Пелымские и Верхотурские гарнизоны, убегая туда, где «их род и племя» [Гемуев, Люцидарская, 1994, с. 67].
В глазах местной администрации и рядовых казаков такие беглецы выглядели изменниками, тогда как «новокрещена», соблюдающего общепринятые нормы поведения, считали своим «сотоварищем».
В Сибири XVII в. людей ценили исходя из позиций прагматизма. Каждый ясачный являл собой реальное поступление в казну «мягкого золота», поэтому убийство ясачного аборигена было равносильно изъятию из казны денег. Таким образом, аборигены, входившие в систему русской государственности, имели определенную ценность для государства и находились под его потенциальной защитой, тогда как «немирные» этносы такой ценности не составляли. Внутриполитические установки влияли, а подчас и диктовали, условия для смены стереотипов поведения в отношении аборигенов.
Представляет интерес применение в текстах XVI - начала XVIII в. понятия «иноземец» и пришедшего ему на смену, в отношении коренных сибирских этносов, понятию «инородец». Чужеземцев, людей из другой земли, иного культурного пространства, в среде служилого сословия было немало. Все они именовались в официальных документах и в обыденной жизни иноземцами. Вторая половина XVII в. стала переломным периодом в связи с развитием торговли, внешней политикой и прочими нуждами русского государства. Иностранцы состояли на военной и гражданской службе у правительства. Кроме того было значительное количество переселенцев из отвоеванных восточнославянских земель, среди которых насчитывалось немало православных, но в силу иного образа жизни и воспитания их также считали «иноземцами» [Кантор, 1999, с. 41].
На первых порах такое же определение получили и сибирские аборигены. Однако положение менялось. Происходило неизбежное обрусение ссыльных служилых «иноземцев», как выходцев из западных территорий, так и представителей коренных сибирских этносов, добившихся изменения своего социального статуса. В результате все более ощущалась дистанция между русскими и аборигенами в социальном плане, особенно это касалось ясачного населения. Увеличение такого расслоения, в конечном счете, привело к понятию «инородец». Аборигенов уже не рассматривали как жителей иной земли, но они продолжали оставаться неким чужеродным элементом на территории российской государственности. Между тем, «чужие» оставались необходимыми налогоплательщиками, и их нужды необходимо было учитывать. В подобной обстановке складывалось неустойчивая, противоречивая, порой двусмысленная политика государства по отношению к коренным этносам Сибири, в которой выработать однозначный стереотип поведения сибирского служилого казачества к аборигенам края было едва ли возможно. Стереотипы поведения казаков в отношении сибирских этносов в отдельных регионах в разный период времени значительно разнились. Локальные варианты наработанных стереотипов нуждаются в дальнейшем исследовании.