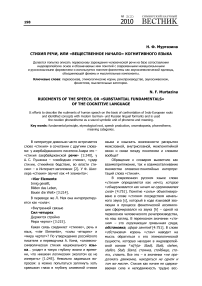Стихия речи, или «Вещественное начало» когнитивного языка
Автор: Муртазина Нина Фаргеновна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (2), 2010 года.
Бесплатный доступ
Делается попытка описать первооснову зарождения человеческой речи на базе сопоставления индоевропейских основ и обозначаемых ими понятий с современными немецкоязычными и русскоязычными формантами и используется понятие фонестемы как звукосимволической единицы, объединяющей фонемы и мыслительные компоненты.
Первооснова, этимологические корни, речепроизводство, звукосимволизм, фонестема, мыслительные категории
Короткий адрес: https://sciup.org/14113532
IDR: 14113532
Текст научной статьи Стихия речи, или «Вещественное начало» когнитивного языка
В литературе довольно часто встречается слово «стихия» в сочетании с другими словами: у азербайджанского писателя Анара это – «стихия азербайджанской речи » [1:240], у А. С. Пушкина – «свободная стихия», «удар стихии, стихийное бедствие, во власти стихии» – в Интернет-заголовках [2]. У Ф. Шиллера «стихия» звучит как «4 элемента»:
« Vier Elemente
Innig gesellt,
Bilden das Leben,
Bauen die Welt» [3:214].
В переводе же Л. Мея она интерпретируется как «сила»:
«Внутренней связью
Сил четырех
Держится стройно
Мира чертог» [3:215].
Какая связь соединяет «стихию», речь и язык, «vier Elemente», «силы четырех» и «мира чертог»? По утверждению российского писателя и переводчика А. Кима, «словесносимволическая стихия национального языка… уходит в такую глубину жизни и времени, что никаким логическим эхолотом ее не измерить» [1:245]. Невольно задаешься вопросом: а можно попытаться заглянуть хоть краешком глаза в глубину словесной стихии языка и изыскать возможности раскрытия межсловной, внутрисловной, межпонятийной связи и связи между понятиями и словами вообще?
Обращение к словарям высветило как взаимопритяжение, так и взаимооталкивание множества словесно-понятийных интерпретаций слова «стихия».
В современном русском языке слово «стихия» определяется как нечто, которое «обнаруживается как ничем не сдерживаемая сила» [4:751]. Понятие «силы» объективировано в слове «стихия» посредством начального звука [s], который в ходе языковой эволюции в процессе фонетической ассимиляции сформировался из звука [h] – одной из первооснов человеческого речепроизводства, на наш взгляд. В переносном значении «стихия» – это окружающая привычная среда, обстановка, сфера занятий [4:751]. В слове «обстановка» корень «стан» наводит на мысль обратиться к его этимологической сущности, которую находим в индоевропейской основе *st(h)a- Stadt, Statt, stehen, stellen, Stab, Stand, cтоянка, стойбище, стоять, ставить. Все это – в значении «не продолжать движение, находиться на одном и том же месте». Стихия как ничем не сдерживаемая сила и неподвижность трудно вос- принимается сознанием как нечто созвучное, однородное. В этой противоречивости проявляется первое взаимооталкивание компонентов казалось бы единого концепта.
Историко-этимологический словарь П. Я. Черных относит значение слова « стихия » к древнегреческой философии, которая трактует его как «каждый из четырех основных элементов природы (земля, вода, огонь, воздух), лежащих в основе всех вещей, «первоначало». Оказывается, что в древнегреческом философском смысле это существительное было известно уже в Древней Руси (в книжном языке) в форме старославянского стиχіє и в форме жен. рода стухия – «вещественное начало». В средне-греческом произношении слово имеет много дефиниций: «первоначало», «элемент», «стихия», «основа», «принцип», а также «тень от стрелки солнечных часов», «линия», «ряд». П. Я. Черных на страницах словаря высказывает предположение, что первоначально это слово могло означать «марш», « поход », «выстраиваться», «следовать» и только потом «почва», «земля» («то, по чему идут») и далее «вещественное начало» [5:203]. Предположение звучит убедительно, поскольку согласно нашим исследованиям становление логико-мыслительных категорий осуществляется посредством континуума витальность ( жизнедеятельность ) → мутативность ( изменчивость ) → модитивность ( подвижность ) [6:30] . В исследовании первоосновы речепроизводства человека мы должны искать слова с минимальным количеством букв – субститутов фонем, которые в человеческом пра-языке обозначали целые концептуальные блоки, которые фиксировало сознание, – изменение окружающей среды, борьбу за жизнь, движение как основу поддержания жизни.
Поиск таких слов в понятийно-концептуальном гнезде «стихия как первооснова» – трудноразрешимая задача, поэтому мы выстраиваем свое исследование от мыслительной категории модитивности, которая объективирована в слове « стихия » согласно толкованию П. Я. Черных, и которая, по утверждению В. Вундта, привела к возникновению «звуковых жестов», отражающих непосредственное отношение между характером движений и их значением [7:74]. В немецком языке имеется созвучное слово «стихии»
stei g en – подниматься , где первоначальный звук [h] предстает в модифицированном конструкте [g]. Индоевропейская основа глагола steigen *stigh-, steigh- steigen, schreiten – подниматься, шагать подтверждает версию о наличии в синтагмемной оболочке стихии модитивного компонента [14].
В этом случае становится понятным обращение А. С. Пушкина к морю как к «свободной стихии»: это волны, поднимающиеся высоко вверх, поскольку движение волн есть не что иное, как переливы,– первый указатель на «переливы» стихии речи Анара: «Художественная проза возникает, зарождается, начинает биться и произрастать в моем воображении лишь в материнской языковой субстанции, в стихии азербайджанской речи, в ее оттенках, переливах и ритмах, в ее семантической многозначности и идиоматических сгустках, в игре слов, в их созвучии, взаимопритяжении, взаимоотталкивании…» [1:240] (выделение наше. – Н. М. ). Это и первый намек на субстанцию, в том числе и на языковую, на вещественное начало в языке, которое объективируется в переливах звуков, в фонестемах , под которыми вслед за шведским языковедом А. Абелин понимаются звукосимволические единицы, состоящие из фонем и обозначаемого понятия ( «Phonesthemes are sound symbolic units of phonemes and meaning ») [8]. Языковая материя, по нашему предположению, должна была реализоваться первоначально в звукоподражательном [p] по подобию внезапного, взрывоподобного шума [9:21; 10:3; 11:112], наводящего страх на первобытного человека и ставшего впоследствии инструментом отпугивания его врагов. Это отпугивающее звукоподражательное [p] сохранилось по сей день в разных вариациях в разных языках в междометиях: рус. « пах, бах, бух, пафф, пифф ; нем. Pah ; англ. bum, bang (звук удара); исп. paf, pum ; итал. bum и т. п., ибо впечатления, производимые предметами, связаны повсюду, как утверждал В. фон Гумбольдт, более или менее одинаково с одними и теми же звуками [12:17].
Фонестема [p] в качестве форманта понятийного элемента отпугивания получила на выходе модификатор [h], который служил знаком завершения акта отражения угрозы вследствие выпуска воздушной массы из легких, что придавало еще больший взрывной эффект внезапности и устрашения. Данный звук [h] внес впоследствии всевозможными комбинациями и манипуляциями компенсаторную функцию в язык и сознание: если на выходе [h] означало завершение действия (финальность), объективированного в [p] как акте воздействия на окружение (акциональ-ности), то в начальной позиции он стал сигнализировать начало действия (ср. рус. хапать, хваткий, нем. haften прилипать, heben поднимать с индоевропейской основой *kap-fassen хватать).
Обнаружение мыслительных квантов, заключенных в понятийной оболочке « стихии» и ее лексикализованных элементах, выстраивающихся в целую цепочку слов обстанов-ка → stehen → Stab → тень → Schatten с индоевропейским этимоном * skot- Schatten, dunkel – тень, темно эксплицирует два квалификатора – spitz « острый » и dunkel « темный» . Одно-звучие индоевропейского и современного русского « скот » невольно наводит на мысль о возможных параллелях между ними. Современное слово « скот » , обозначающее собирательный признак – «общего названия домашних сельскохозяйственных четвероногих животных» – восходит к старославянскому скотъ – « скотина » , « имущество », « деньги » , « духовное стадо » [5:172]. Для выяснения первоосновы когнитивного языка нам интересен компонент « имущество » , поскольку именно обладание чем-либо является неотъемлемой частью существования человека. Немецкое haben владеть, обладать имеет дополнительные расширительные значения эмотивности: verspüren ( Angst haben ) « чувствовать страх », контактности: bekommen « получать » и восходит к индоевропейскому корню * kap-fassen хватать . Если учесть, что [k] является модифицированным [h], то получим хап. (Не отсюда ли русское хапать , украинское ховать ?) По определению А. Б. Михалева, значение «хватать» – звукоизобразительное [13:49].
Так логико-мыслительное понятие «стихия» с его модификаторами и квалификаторами, с функциональными проявлениями, с номинационно-семантической сущностью позволяет нарисовать в воображении картину из далекого-далекого прошлого:
«По неуютной обледенелой местности бредут люди, опасность подстерегает их на каждом шагу. То им слышится топот дикого животного, то шум обвала в горах, то раска- ты грома на небе, то грохот извергающегося вулкана, и колет в сердце от испуга, и люди выдыхают заветное «пх», чтобы освободить грудь от спазма и напугать врага. Тень от скал, холмов, своя собственная тень и тень спутников непонятна первобытному человеку и также наводит страх, хватает за сердце (хапает). Это страх не внезапный, он сопровождает человека на всем его пути, пока не скроется солнце. Но тут его подстерегает другая беда – темнота ночи. Боязнь темноты живет в нем, она становится его «имуществом», она внутри него – имманентна. Этот страх сковывает человека (*pak- festmachen – делать устойчивым), пугает (слово предположительно восходит к ие назализованному корню *peu- ударять, бить) и заставляет остановиться (stehen* st(h)a- стоять) – так появляется виртуально-материальная сила – страх в форме шума, который человек слышит, но не видит, или в форме тени, которую человек видит, но не слышит. С тем чтобы преодолеть страх и сохранить жизнь, человек берется сначала за остроконечные камни, с появлением растительности на земле – за палки, которые служат ему одновременно опорой и гарпуном, а также инструментом для изображения своих представлений и чувств: сначала линий (помните, греч. Stichion линия, затем черточек – нем. Strich), а впоследствии рисунков и букв». Такой способ обозначения понятия В. фон Гумбольдт назвал подражанием не звуку или предмету, а некоему внутреннему свойству, присущему им обоим [12:17].
Из обозначения состояния покоя стоять (индоевропейское *st(h)a-) возникло понятие стиль – совокупность, система творческих приемов в исполнении средств выражения, манера поведения [5:202]. Творческие приемы, т. е. способы действия, а именно отпугивание и бросание (камней в качестве оружия), собирание (растений в качестве еды), первомышление человека зафиксировало, на наш взгляд, в форме начала и конца этого действия, т. е. на вдохе [p] и выдохе [h]. В этом предположении мы руководствуемся высказыванием В. Скалички о том, что язык возник не путем создания, а путем использования определенных звуков [11:124]. Средствами выражения чувств и мыслей стали в последующем модификации этих фонестем, т. е. их огласовки в плане ситуативной ло- кально-временной привязки, их озвончение и ассимиляция и, конечно, неисчерпаемая комбинаторика первоначальных сильных глухих согласных с последующими смыслоразличительными гласными, с модифицированными звонкими согласными и т. д.: подобно чередованию звуков в звукоподражательных словах чередуются и значения слов [11:120]: бах = устрашение, отпугивание, отталкивание → дистактность и хап = хватание, притягивание, собирание → контактность. Свидетельством этого служит мыслительное понятие, объективированное значении «буквы», «начальные правила» [5:446].
Человеческая речь возникла из осознания человеком опасности и возможности воздействовать на нее сначала посредством импульсивного, затем членораздельного зву-копроизводства, которое через воспроизводство сложилось в язык, зафиксированный в буквах и правилах их использования. Эволюция мышления и языка, сознания изменила стиль жизни, стиль речи, изменила общечеловеческий понятийный язык, создав множество вариантов его «материализации» – национальных языков, диалектов, языковых смешений и т. п. Однако язык основных понятий мироздания живет в звукообразах, которые не всегда поддаются расшифровке.
Говоря образным языком поэтов, под перекрестными лучами двух звуковых стихий [р] и [h] у человека появилась возможность взглянуть осмысленно на свой мир. Возникла потребность в новых фразеологических объемах, в новых «эмоциональных полях» образов – понятий – слов.
-
1. Журн. «Дружба народов». 1980. № 8.
-
2. http://www.ntv.ru/tema/стихия
-
3. Schiller F. Punschlied // Шиллер Ф. От «Нибелунгов» до Рильке: Немецкая поэзия и русские переводы. М.: Изд-во МАРТ, 2000. 395 с.
-
4. Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Толковый словарь современного русского языка. М.: Эксмо, 2008. 928 с.
-
5. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. 8-е изд., стереотип. М.: Рус. яз. Медиа, 2007.
-
6. Муртазина Н. Ф. О синхронно-диахроническом подходе к исследованию языка // Учен. зап. Ульяновского гос. ун-та. Актуальные проблемы теории языка, лингводидактики и краеведческой лингвистики. Сер. Лингвистика. Вып. 1(11). Ч. 1 / под ред. проф. А. И. Фефилова. Ульяновск: УлГУ, 2006. 144 с.
-
7. Вундт В. Речь. Язык жестов // Воронин С. В. Фоносемантические идеи зарубежного языкознания (Очерки и извлечения): учеб. пособие. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. 200 с.
-
8. Абелин А. Phonesthemes in Swedish [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. ling.gu.se/~abelin/phonest.html
-
9. Балли Ш. Языковой знак в его отношениях с синтагматикой / пер. с фр. Е. В. Вентцель и Т. В. Вентцель // Воронин С. В. Фоносемантические идеи зарубежного языкознания (Очерки и извлечения). Л., 1990. 200 с.
-
10. М аковский М. М. Лингвистическая генетика: Проблемы онтогенеза слова в индоевропейских языках. М.: Наука: Гл. ред. вост. лит., 1992. 189 с.
-
11. С каличка В. Исследование венгерских звукоподражательных выражений / пер. с чешск. Г. Я. Романовой // Воронин С. В. Фоносемантические идеи зарубежного языкознания (Очерки и извлечения). Л., 1990. 200 с.
-
12. Г умбольдт В . фон. Звуковая система языков. Распределение звуков между понятиями / пер. с нем. под ред. Г. В. Рамишвили // Воронин С. В. Фоносемантические идеи зарубежного языкознания (Очерки и извлечения). Л., 1990. 200 с.
-
13. М ихалев А. Б. Звукоизобразительные корни индоевропейского языка и их производные // Мир через языки, образование, культуру: Россия – Кавказ – Мировое сообщество: Материалы VI Междунар. конгр. Симп. XI «Теоретические и прикладные аспекты исследования языков мира». Пятигорск, 2010. С. 46-53.
-
14. W ahrig G. Deutsches Wörterbuch. Mosaikverlag GmbH. München, 1989. 1493 S.
Список литературы Стихия речи, или «Вещественное начало» когнитивного языка
- Журн. «Дружба народов». 1980. № 8.
- http://www.ntv.ru/tema/стихия
- Schiller F. Punschlied//Шиллер Ф. От «Нибелунгов» до Рильке: Немецкая поэзия и русские переводы. М.: Изд-во МАРТ, 2000. 395 с.
- Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Толковый словарь современного русского языка. М.: Эксмо, 2008. 928 с.
- Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. 8-е изд., стереотип. М.: Рус. яз. Медиа, 2007.
- Муртазина Н. Ф. О синхронно-диахроническом подходе к исследованию языка//Учен. зап. Ульяновского гос. ун-та. Актуальные проблемы теории языка, лингводидактики и краеведческой лингвистики. Сер. Лингвистика. Вып. 1(11). Ч. 1/под ред. проф. А. И. Фефилова. Ульяновск: УлГУ, 2006. 144 с.
- Вундт В. Речь. Язык жестов//Воронин С. В. Фоносемантические идеи зарубежного языкознания (Очерки и извлечения): учеб. пособие. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. 200 с.
- Абелин А. Phonesthemes in Swedish [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. ling.gu.se/~abelin/phonest.html
- Балли Ш. Языковой знак в его отношениях с синтагматикой/пер. с фр. Е. В. Вентцель и Т. В. Вентцель//Воронин С. В. Фоносемантические идеи зарубежного языкознания (Очерки и извлечения). Л., 1990. 200 с.
- Маковский М. М. Лингвистическая генетика: Проблемы онтогенеза слова в индоевропейских языках. М.: Наука: Гл. ред. вост. лит., 1992. 189 с.
- Скаличка В. Исследование венгерских звукоподражательных выражений/пер. с чешск. Г. Я. Романовой//Воронин С. В. Фоносемантические идеи зарубежного языкознания (Очерки и извлечения). Л., 1990. 200 с.
- Гумбольдт В. фон. Звуковая система языков. Распределение звуков между понятиями/пер. с нем. под ред. Г. В. Рамишвили//Воронин С. В. Фоносемантические идеи зарубежного языкознания (Очерки и извлечения). Л., 1990. 200 с.
- Михалев А. Б. Звукоизобразительные корни индоевропейского языка и их производные//Мир через языки, образование, культуру: Россия -Кавказ -Мировое сообщество: Материалы VI Междунар. конгр. Симп. XI «Теоретические и прикладные аспекты исследования языков мира». Пятигорск, 2010. С. 46-53.
- Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. Mosaikverlag GmbH. München, 1989. 1493 S.