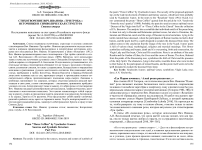Стихотворение Вяч. Иванова "Три гроба": источники и символическая структура статья вторая
Автор: Топорков Андрей Львович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (45), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена источникам, структуре и системе символов стихотворения Вяч. Иванова «Три гроба». Новизна предлагаемого подхода заключается в широком привлечении фольклорных и литературных источников, которыми мог пользоваться Вяч. Иванов. В примечаниях к книге «Rosarium» (1912) Вяч. Иванов прокомментировал свое стихотворение «Три гроба» цитатой из статьи А.Н. Веселовского «Из поэтики розы» (1898). Вероятно, поэт использовал также в качестве источников духовные стихи «Хождение Богородицы» или «Три гроба в церкви» из сборника П.А. Бессонова. В ходе анализа устанавливается, что отдельные мотивы стихотворения сближают его не только с русскими и белорусскими духовными стихами, но также с украинскими, белорусскими и моравскими колядками и распевцами русских мистических сектантов. Как показывает автор статьи, пребывание в гробах Бога-Отца, Иоанна Предтечи и Царицы Небесной допустимо толковать как их сон, временную смерть и прохождение некоего посвятительного обряда, предполагающего посещение мира смерти. Лежащие в гробницах напоминают тех умерших, которых участники римских розалий приглашали в свои дома, а само стихотворение - заклинание, призванное пробудить усопших ото сна. Автор приходит также к выводу, что образ розы в стихотворении Вяч. Иванова насыщен разнообразными ритуальными, мифологическими, религиозными и мистическими смыслами. Этот цветок символизирует собой страдание и красоту, смерть и преодоление смерти, рождение и воскресение, Богородицу и Ее сердце, Христа и Его распятие. Роза представляет собой атрибут античных розалий и райского сада, креста и тернового венца. Голубь, выпорхнувший из лепестков распускающейся розы, знаменует собой рождение Христа и присутствие Святого Духа.
Вяч. иванов, духовные стихи, символизм, богородица, роза, голубь, а.н. веселовский
Короткий адрес: https://sciup.org/14914702
IDR: 14914702 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00023
Текст научной статьи Стихотворение Вяч. Иванова "Три гроба": источники и символическая структура статья вторая
«Где Мария почивает, / Алый розан расцветает...»
Как отмечал В.Н. Топоров, «в поэтическом цикле Вяч. Иванова “Rosarium” роза связывает воедино бесконечное число символов, сопровождая человека от колыбели через брак к смертному ложу и является как бы универсальным символом мира и человеческой жизни» [Топоров 1982, 386]. К символике розы в творчестве Вяч. Иванова в целом и в книге «Rosarium» в частности обращались многие исследователи. Из работ последнего времени отметим статью Марии Цимборской-Лебоды, в которой приведена основная литература вопроса [Cymborska-Leboda 2016]. Не претендуя на то, чтобы раскрыть эту тему в полном объеме, отметим только те аспекты символического значения розы, которые актуальны для стихотворения «Три гроба».
В статье «Из символики розы», которую использовал Вяч. Иванов, А.Н. Веселовский отмечал, что «роза цветет для нас полнее, чем для грека, она не только цветок любви и страсти, но и страдания и мистических откровений...» [Веселовский 2010, 304-305].
«И в то же время роза - символ смерти <...> Дело не в философском или романтическом отождествлении этих идей, а в наивном представлении древнего человека, держащемся еще и теперь, что весной не только обновляется все живущее, но и усопшие, души предков временно оживают, показываются на земле, общаются с людьми, желанные и страшные, таинственные. И для них наставала весна, расцветала роза: весной, когда совершались по них поминки, на римской тризне (escae Rosales) главную роль играли розы; их делили между присутствовавшими, гирляндами украшали гробницы; обряд этот называли Rosaria или Rosalia. Он обобщился: розы стали принадлежностью похорон, их возлагали на изображения ларов - предков, домовых, и у Гекаты был венок из роз. <...> В христианскую пору все эти представления и обряды были заподозрены церковью как языческие, но красота символа восторжествовала. <...> Средневековый рай полон роз: Богородица представляется сидящей среди розовых кустов, на которых щебечут птички; ее венчают розами, розы распускаются на гробницах святых, вырастают по смерти из их уст, глаз и ушей; алые и белые розы расцвели в январе из шипов и терний, на которые бросился св. Франциск, чтобы умертвить вожделения тела» [Веселовский 2010, 305-306].
В ряде текстов книги «Rosarium» описаны римские розалии с приглашением умерших в дома и украшением розами их гробниц («Ad Rosam» («Пролог»), «Розалии св. Николая», «Розалии», «Роза говорит» (из «Антологии Розы»), «Феофил и Мария»), В примечании к поэме «Феофил и Мария» Вяч. Иванов отмечал: «Главные моменты действия совпадают с празднованием весеннего цветочного праздника Розалий, унаследованного христианским миром от язычества. В античной Греции Розалиям соответствовали Дионисовы Анфестерии (роза посвящена Дионису). Веселая встреча весны соединялась с угощением усопших (“навьи гостины”), души которых выходили в эту пору из подземного царства и смешивались с толпою пирующих живых родичей, а потом изгонялись последними, при посредстве заклинаний, с лица земли в подземные жилища <.„>» [Иванов 1912, II, 208].
Алый цвет розы связан с цветом крови. Согласно античному мифу, переданному Овидием в «Метаморфозах», роза выросла из крови Адониса, растерзанного вепрем (Met. X, 710-739). Вяч. Иванов разработал этот сюжет в стихотворении «Роза крови» из цикла «Новые газэлы о розе» [Иванов 1912, II, 107].
А.Н. Веселовский писал по поводу алого цвета розы: «Казалось бы, христианству принадлежит понимание розы как символа мученической крови, мученичества, в противовес с лилией, символом невинности, целомудрия подвижника. Между тем роза и кровь сблизились уже в классической древности: роза произошла от крови Адониса, смертельно раненного вепрем, влюбленная в него Афродита смешала его кровь с нектаром и превратила в красный, как кровь, цветок; либо роза была вначале белая, но стала алой от крови Афродиты, уколотой терниями, когда она искала Адониса» [Веселовский 1898, 306-307].
«Голубь-Птица воспорхнула...»
При разработке мотива ‘птичка вылетает из расцветшей розы’ Вяч. Иванов воспользовался статьей А.Н. Веселовского «Из поэтики розы», в которой, в частности, отмечалось: «Две символики розы встретились на почве русской народной поэзии, языческая и христианская: русалки, олицетворение древних Розалий, имистическаяроза-Богородица, из которой выпархивает к небу птичка; в первом случае дело идет о захожем с Юга названии, во втором - о западно-христианском представлении» [Веселовский 2010, 308]. В той же статье А.Н. Веселовский проследил источники мотива, который привлек внимание Вяч. Иванова:
«Символика розы распространилась и на Богородицу. Это - жезл от корня Иессея, и цвет (Христос) выйдет из корня - так понимали пророчество Исайи; с другой стороны, жезл Аарона (Числ. 17) стал символом «Пресвятой Девы»: в западных изображениях Благовещения он изображен расцветшим деревом, на нем св. Дух в виде голубя. Под влиянием этой символики изменился рассказ перво-евангелия Иакова (гл. 9), где на Иосифа, держащего в руках жезл, спускается голубь в знамение того, что он будет обручником Богородицы: этот жезл также расцветал. Народная фантазия принялась работать в этом направлении: рассказывали, что в числе знамений, бывших о рождестве Спасителя, было и то, что из ствола бальзама вырос голубь; либо в саду одного из волхвов вылетел голубь из цветка, что был краше розы. У св. Бернарда роза - уже символ Богородицы, и этот символ остался в христианской поэзии и искусстве: “rosa mystica” западного иносказания. В применении к жезлу Иессея Богородица - розовый куст, роза -Христос. <...> Все это объясняет образ, встречающийся в немецкой песне и в целом ряде малорусских, белорусских и моравских; на горе стоят три ложа, три гроба, лежат в них Господь Бог, Богородица, св. Иоанн; над св. Девой вырастает роза, из нее вылетает птичка: то не птичка, а Сын Божий\ - Лоза Иессея, жезл Аарона и Иосифа, с покоящимся на нем Св. Духом - голубем - все это сближено было с образом розового куста, может быть, с представлением райского крестного древа - и все это послужило символом воскресения или вознесения» [Веселовский 2010, 307-308].
Сходные мотивы есть и в других стихотворениях из книги «Rosarium». Мотив ‘птичка вылетает из расцветшей розы’ встречается в газелле «Роза трех волхвов»: «Расцвела в садах царевых, долу, / У священного кивота Роза. И Из пурпурных недр явила чудо /Голубиного возлёта Роза» [Иванов 1912, II, 95]. В примечании Вяч. Иванов цитирует статью А.Н. Веселовского «Из поэтики розы»: «В саду одного из волхвов вылетел голубь из цветка, что был краше розы» [Иванов 1912, II, 207].
Авторский духовный стих «Сон Матери-Пустыни» включает описание сновидения, в котором «розов цветик» вырос из сердца Матери-Пустыни:
Спит Пустыня в раздолье широком, По лесочкам кудри разметала, Раскинулась по степям зеленым; Ноги моет ей синее море, На устах алеют ясны зори.
И снится Пустыне, будто вырос

Розов цветику нее из сердца', А с поднебесья рука простерлась, Будто с кореньем цвет вырывает. Обливалась Матерь алой кровью, Лежит вся в крови и горько тужит, Не о боли, о цвете жалеет [Иванов 1912, II, 115].
В заключительной части стихотворения появляется голубь, который несет в клюве червленый цветок, а душа Матери-Пустыни сама предстает в образе голубки:
Алеется в чертоге последнем, Ровно солнце, престол светозарный; Стоит чаша на святом престоле, Л над чашей кружит белый голубь, Держит голубь розов цвет червленый. Хочет кликнуть душа Мать-Пустыню, А она тут сама у престола, Облаченная в белую ризу;
«Днесь я», - молвит, - «не Мать, а Невеста».
И горлицей душа к ней прильнула [Иванов 1912, II, 116].
В стихотворении «Манны ты живой ковчег...» из цикла «Turris Eburnea» (лат., ‘башня из слоновой кости’) изображается ситуация Благовещения, когда голубь, являющийся воплощением Святого Духа, слетает к розе, символизирующей собой Богоматерь: «Только Голубю с лучом ты раскрыла чату розы <.„>» [Иванов 1912, II, 101].
В стихотворении «Примитив» из книги «Нежная тайна» (1912) поэт-художник создает картину на сюжет Благовещения, в которой есть и таинственно выросшая роза, и голубь:
Мне снилось: Цвет Единый Возрос из тайника, Где Корень свит змеиный, В эфир листвою сочной; И Агнец непорочный На пурпуре Цветка.
Меж Солнцем и Землею,
Меж Корнем и Венцом, Меж Агнцем и Змеею - Посредник голубиный Летает над долиной, С таинственным Кольцом [Иванов 1995,1, 443-444].
В газелле «Роза возврата» из книги «Rosarium» роза впорхнула в рай как птичка: «И завяла... Так вверяет в бурю / Лепестки крылам эфира роза. // Легкой пташкой в рай впорхнула, к дэвам. / “В дом вернись,” - ей вестник мира, - “Роза!”» [Иванов 1912, II, 95]. В газелле «Роза вечных врат» цветок воспаряет над стеблем, хотя обычно этот глагол употребляется при описании полета: «Расцветет и воспарит надъ стеблем, / Вождь вам алый и дорога, - Роза» [Иванов 1912, II, 95].
Появление голубя в стихотворении Вяч. Иванова «Три гроба» указывает на то, что в событии какое-то участие принимает Святой Дух. Однако общий контекст и конфигурация символов скорее указывают на Благовещение и рождение Спасителя.
«...Матерь Божья воздохнула.»
В стихах «Голубь-Птица воспорхнула, / Матерь Божья воздохнула» можно видеть кульминацию стихотворения. Последний мотив имеет параллель в сказках о спящей царевне. Например, в пушкинской «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» царевна вздохнула, когда очнулась от вечного сна:
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг Изумленными глазами, И, качаясь над цепями, Приездохнуе, произнесла: «Как же долго я спала!» И встает она из гроба... [Пушкин 1949, 473-474]
В аналогичной ситуации пробуждения вздыхает и героиня пушкинской поэмы «Руслан и Людмила»:
Но, помня тайный дар кольца,
Руслан летит к Людмиле спящей, Ее спокойного лица
Касается рукой дрожащей...
И чудо: юная княжна,
Вздохнув, открыла светлы очи! [Пушкин 1949, 99]
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» и эпизод пробуждения Людмилы восходят к международному сказочному сюжету «Белоснежка» (ATU 709), в восточнославянской версии «Волшебное зеркальце (Мертвая царевна)» (СУС 709). В некоторых русских текстах на этот сюжет красавица также вздыхает при своем пробуждении; например, в сказке из сборника А.Н. Афанасьева: «Вдруг выпал из ее косы волшебный волосок - красавица раскрыла очи, вздохнула, приподнялась из хрустального гроба и говорит: “Ах, как я долго спала!”» [Афанасьев 1985, II, 106].
В статье «Из поэтики розы» А.Н. Веселовский отмечал связь сюжета о спящей красавице с символикой розы: «<.„> в сказках типа “La belle au bois dormant” - красавица погружена в волшебный сон, все кругом нее замерло, застыло, и все снова зажило, расцвело, когда явился суженый. В немецкой сказке девушка названа Dornroschen, роза на шипе, в греческой -Родья: роза» [Веселовский 2010, 305].
Образ спящей царевны фигурирует в «Прологе» к книге Вяч. Иванова «Rosarium»: «<„ > И снится рыцарю: в дубраве на лугу / Сном непробудным спит Царевна... // О Роза дремная! Кто, мощный паладин, / Твой плен глубокий расколдует?» («Adrosam»; [Иванов 1912, II, 87]). В примечании к стихотворению Вяч. Иванов отмечает: «Легенда о спящей царевне, “belle au bois dormant”, - легенда о розе» [Иванов 1912, II, 207].
В газелле «Роза меча» также подразумевается спящая царевна: «В тридевятом, невидимом царстве / Пленена густой дубравой Роза» [Иванов 1912, II, 93]. В примечании Вяч. Иванов приводит цитату из статьи А.Н. Веселовского: «“Таково представление о Rosengarten’e в Вормсе и в Тироле. К нему ведут четверо золотых ворот, и обведен он вместо стены шелковою нитью; но горе тому, кто проникнет к его розам, аромат которых разносится по лесу: смельчак поплатится рукой и ногой. Там царит демонический Лаурин, похитивший красавицу Симильду; витязи старонемецкой поэмы, носящей его имя, отваживаются на подвиг. Лаурин взят в плен, красавица освобождена”. А.Н. Веселовский, “Поэтика Розы”» [Иванов 1912, II, 207].
Слова «Матерь Божья воздохнула», которые не имеют параллелей в духовном стихе «Три гроба в церкви», можно интерпретировать по-разному: и как знак пробуждения Марии ото сна, и как намек на ее безболезненные роды, и как материнское предвидение крестных мук ее божественного сына. При любом понимании этого стиха он производит глубокое эмоциональное впечатление на читателя.
«Выйди, Отче Вседержитель! / Солетай, Иван-Креститель!»
Последняя строфа, как уже отмечалось, представляет собой терцет и закольцована с первой. По своему содержанию четвертая строфа примыкает ко второй. Если во второй строфе последовательно описаны гробницы, в которых лежат Отец Небесный, Небесная Царица и Иоанн Предтеча, то в четвертой содержится призыв воскреснуть или пробудиться, обращенный к Отцу Вседержителю и Иоанну Крестителю.
Последняя строфа не только завершает текст, но и переводит его в другой регистр. Если первые три строфы имели характер словесной иконы, то в четвертой изобразительное начало отсутствует. Эта строфа напоминает колядки - ритуальные песни, которые исполнялись в рождественский сочельник, включали рассказ о рождении Христа и обращения к Господу, Богородице и святым. Как уже отмечалось, духовный стих «Три гроба в церкви» также мог использоваться в функции колядки.
Поскольку данная строфа закавычена, она может представлять собой прямую речь какого-то субъекта, который не назван в тексте. Кавычки могут указывать также на то, что последняя строфа исполняется по-другому, чем остальной текст, например, первые три строфы исполняются в обычной повествовательной манере или речитативом, а последняя поется. Не исключено и то, что первые строфы произносил или пел один человек, а последняя предназначена для исполнения хора колядовщиков.
Четвертая строфа отличается от предыдущих и с точки зрения грамматической и интонационной. Если первые три строфы имеют повествовательный характер и написаны в индикативе, то первые два стиха четвертой строфы представляют собой инвокации и стоят в императиве. Оборот «Выйди, Отче Вседержитель!» напоминает слова, с которыми Иисус обратился к Лазарю: «...Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон» (Ин 11:43). Данная аллюзия придает инвокации сакральный характер и связывает ее с темой воскрешения из мертвых.
Призыв полететь, обращенный к Иоанну Крестителю, на первый взгляд кажется странным. Ситуация прояснится, если предположить, что здесь имеется в виду иконописный тип «Иоанн Предтеча, ангел пустыни», в котором Иоанн изображен в виде крылатого ангела, согласно пророчеству Малахии: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною...» (Мал 3:1). В глаголе солетай заложена идея движения сверху вниз, т.е. можно предположить, что Иоанна Предтечу призывают спуститься с горы на землю, чтобы крестить новорожденного Христа.
Мотив пробуждения Отца Вседержителя и Иоанна Крестителя, который появляется в четвертой строфе, отсутствует в духовных стихах о трех гробах в церкви. Параллель к нему имеется в тех специфических версиях духовного стиха, которые известны в распевцах скопцов и хлыстов. Так, например, в книге В.Ф. Ливанова «Раскольники и острожники» (1869) стих о трех гробах в церкви приводится с пояснением: «Воспевается радение хлыстов с мнимо воскресшими их богами и хлыстами» [Ливанов 1869, IV, 280-281, № 28]. Действие начинается с описания горы со стоящей на ней церковью и тремя гробами, в которых лежат Богородица, Иоанн Предтеча и Иисус Христос. Над этими гробами расцвели цветы, на которых сидят райские птицы и распевают архангельские песни. Далее из гробов восстают один за другим Богородица, Иоанн Предтеча и Иисус Христос. Наконец, на людей Божьих сошел Святой Дух и с ними в одном кругу начали скакать Иисус Христос и сам Царь Небесный.
На горе, горе, на Сионской горе Стоит тут церковь апостольская, Апостольская, белокаменная, Белокаменная, златоглавая.
Как во той ли церкви, три гроба стоят, Три гроба стоят, кипарисовые.
Как во первом во гробе Богородица, А в другом-то гробе Иоанн Предтеч,
А в третьем гробе сам Иисус Христос. Как над теми гробами цветы расцвели, На цветах сидят птицы райския, Воспевают оне песни архангельския. А с ними поют все ангелы, С серафимами, с херувимами И со всею силою небесною;
Воспевают оне песню: Христос воскрес. Восставала из гроба Богородица, Подавала людям божиим рубашечки, Кроила людям божиим полотенчики, Свивала людям божиим святы жгутики. Восставал из гроба Иоанн Предтеч, Становил он людей божиих во единый круг, Во единый круг, на радение, На радение, на послушание;
Воспевал он песни архангельския, Он скакал-играл ио-Давыдову Восставал из гроба сам Иисус Христос - Во святом кругу все свечи затеплились. Сокатил с небеси батюшка Дух святой, Сокатил он на людей божиих;
Походил в людях божиих сам Бог Саваоф, Поскакал в людях божиих сам Иисус Христос. Сопускал на них царь небесный благодать свою, Осенял царь небесный их покровом своим; Ходил с ними царь небесный во святом кругу. [Ливанов 1869, IV, 280-281]
В хлыстовском распевце появляются мотивы, которых не было в духовном стихе: пение «Христос воскрес!»; восстание из гробов Богородицы, Иоанна Предтечи и Иисуса Христа; сошествие на Божиих людей Святого Духа и появление среди них Отца Небесного. Не исключено, что в стихотворении Вяч. Иванова инвокации «Выйди, Отче Вседержитель!» и «Солетай, Иван-Креститель!» содержат призыв не только пробудиться ото сна или воскреснуть, но и присоединиться к исполнителям стиха.
Поскольку Вяч. Иванов испытывал глубокий интерес к мистическим сектантам, вполне можно допустить, что его версия сюжета о трех гробах учитывает не только тексты духовных стихов и колядок, но и версии сектантских распевцев.
«Родился земле Спаситель».
Фраза «Родился земле Спаситель» в конечном счете восходит к рассказу евангелиста Луки о рождении Христа: «И сказал им (пастухам. - А.Т") Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь <„.>. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк 2:10-14). Те же слова евангелиста Луки имеются в виду в стихотворении Вяч. Иванова «Мощь новую приемлют надо мной...»: «Родился Бог. Вершится в вышних Слава, / И “Мир земле” расслышан в глубинах <.„>» [Иванов 1912, II, 70]. Вспоминается также третий член Символа веры: «Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася».
Во фразе «Родился земле Спаситель» использован тот же тип управления, что и в церковно славянском и русском переводах слов евангелиста: «...ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель...», в чем можно видеть аллюзию на текст Нового Завета.
С точки зрения грамматической этот стих имеет двусмысленный характер. Наиболее естественно интерпретировать его таким образом: «Родился Христос, которому предстоит стать Спасителем земли». Однако можно понять фразу и так: «Христос родился для (спасения) земли». Или даже так: «У земли родился сын, который будет ее Спасителем»; в этом случае образ земли сближается с образом Богородицы.
Хотя в третьей и четвертой строфах не фигурируют ни гробница, ни пещера, эти символы сохраняются как часть того пространства, в котором разворачивается действие: роза расцветает там, «где Мария почивает», т.е. где-то в гробнице или возле нее; Отца Вседержителя призывают выйти из гробницы, а Иоанна Крестителя - слететь из нее. При этом символы гробницы и пещеры, несмотря на отсутствие соответствующих слов в тексте, претерпевают смысловую трансформацию. Если в двух первых строфах эти символы связывались с миром смерти и сна, то в строфах третьей и четвертой они ассоциируются с темой Рождества Христова, Воскресения и пасхального преодоления смерти. В третьей строфе гробница, в которой почивает Мария, напоминает Вифлеемскую пещеру как место рождения Христа. В качестве параллели можно привести фрагмент из стихотворения Вяч. Иванова «Пещера» (1915):
Говорят душе равно
Умозрение и вера: Вифлеемская пещера, Новый гроб в скале - одно [Иванов 1979, III, 556].
О символике пещеры в стихотворениях Вяч. Иванова «Рождество» и «Пещера» см.: [Лепахин 1996, 158-166].
Поскольку фраза «Родился земле Спаситель» отделена от третьей строфы двумя стихами, в тексте отсутствует непосредственная причинно-следственная связь между появлением розы и голубя и вздохом Матери Божьей, с одной стороны, и рождением Спасителя, с другой. Централь- ное событие, о котором прикровенно повествуется в стихотворении «Три гроба», - это Рождество Христово, хотя само это событие представлено в тексте в виде метафоры, допускающей разные толкования.
Некоторые итоги
Стимулом для создания стихотворения, вероятно, послужили фрагменты из статьи А.Н. Веселовского «Из поэтики розы» (1898), которые Вяч. Иванов привел в примечаниях к книге «Rosarium». На влияние А.Н. Веселовского указывает, в частности, то, что в стихотворении три гроба стоят на горах, а не в церкви, что соответствует пересказу духовных стихов в статье А.Н. Веселовского, однако противоречит текстам самих духовных стихов, согласно которым гробницы расположены в церкви.
Вероятно, Вяч. Иванов воспользовался также подборкой духовных стихов на сюжет «Хождение Богородицы» или «Три гроба в церкви» из сборника П.А. Бессонова. Косвенно это подтверждается тем, что Вяч. Иванов опирался на текст духовного стиха из сборника П.А. Бессонова при работе над стихотворением «Розалии св. Николая». Кроме того, последовательность описания трех гробов у Вяч. Иванова в целом воспроизводит порядок их описания, принятый в соответствующих духовных стихах. Нельзя также исключать того, что Вяч. Иванов обращался и к другим источникам, в частности, к изданиям белорусских песен П.В. Шейна и украинских песен П.П. Чубинского. В стихотворении «Три гроба» есть отдельные мотивы, которые сближают его не только с русскими и белорусскими духовными стихами, но также с украинскими, белорусскими и моравскими колядками и русскими хлыстовскими и скопческими распевцами.
Можно предположить, что Вяч. Иванов опознал в духовном стихе «Три гроба в церкви» один из ритуалов умирания-возрождения, известных ему по описаниям масонских, розенкрейцерских и штейнеровских практик. Сюжет стиха в версии Вяч. Иванова включает рассказ о том, как трое священных персонажей сначала лежат в трех гробах, а потом воскресают и выходят на свет Божий.
Строфы вторая и третья довольно точно соответствуют содержанию духовного стиха «Хождение Богородицы» или «Три гроба в церкви» за исключением того, что у Вяч. Иванов гробницы расположены на горах, а в духовных стихах три гроба стоят в церкви. Первая строфа сочинена Вяч. Ивановым с ориентацией на известный зачин былины из Сборника Кирши Данилова. Четвертая строфа напоминает колядку.
Вяч. Иванов превращает текст духовного стиха в своеобразную словесную икону, апеллируя к внутреннему зрению читателя и побуждая его воспринимать стихотворение как иконический текст, имеющий свой «верх» и «низ» и определенную цветовую гамму. Если в начале стихотворения речь шла о вершинах гор, то в конце впервые упоминается земля. Благодаря этому начало стихотворения ассоциируется с верхом, а конец -с низом. Процесс чтения текста в этой ситуации напоминает процесс рассматривания иконы, при котором взгляд перемещается сверху вниз, с не- бес и горных вершин до поверхности земли.
При создании своей словесной иконы Вяч. Иванов пользовался деталями разных иконографических типов: Рождество Христово, Успение Богоматери, Благовещение, Преображение Господне, Воскрешение Лазаря, Воскресение из мертвых, «Иоанн Предтеча, ангел пустыни», «И почи Бог в день седьмый». При этом Вяч. Иванов сблизил друг с другом иконографию и литургический смысл Успения Богоматери и Рождества Христова, благодаря чему рождение Христа и воскресение (пробуждение) Богоматери предстали перед читателем в нерасторжимом единстве.
В стихотворении в свернутом виде представлены мотивы и символы, смысл которых проясняется при сопоставлении с другими текстами Вяч. Иванова. Таковы, например, мотивы спящей царевны, голубя, вылетающего из розы, символы розы как средоточия множества значений, пещеры как мира смерти и рождающей утробы, гробницы как места духовной инициации и пробуждения новой жизни.
В тексте соединяются мотивы смерти и рождения, сна и пробуждения, восхождения и нисхождения. Соответственно и такие символы, как роза, голубь, гроб (гробница), пещера, приобретают множественные и амбивалентные значения. Пребывание Бога-Отца, Иоанна Предтечи и Царицы Небесной в гробах допустимо толковать как их сон, временную смерть и прохождение некоего посвятительного обряда, предполагающего посещение мира смерти. Лежащие в гробницах напоминают тех умерших, которых участники римских розалий приглашали в свои дома, а само стихотворение - заклинание, призванное пробудить усопших ото сна.
Образ розы, вырастающей у гробницы, в которой лежит Богоматерь, насыщен разнообразными ритуальными, мифологическими, религиозными и мистическими смыслами. Этот цветок символизирует собой страдание и красоту, смерть и преодоление смерти, рождение и воскресение, Богородицу и Ее сердце, Христа и Его распятие. Роза представляет собой атрибут античных розалий и райского сада, креста и тернового венца. Голубь, выпорхнувший из лепестков распускающейся розы, знаменует собой рождение Христа, присутствие Святого Духа и зримое воплощение души Богородицы.
За ценные консультации, учтенные мною при работе над статьей, приношу благодарность Д.М. Магомедовой, Л.В. Фадеевой и О.В. Федуни-ной.
Список литературы Стихотворение Вяч. Иванова "Три гроба": источники и символическая структура статья вторая
- Веселовский А.Н. Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля//Журнал Министерства народного просвещения. 1898. Ч. 316. № 3. Отд. 2. С. 1-80.
- Веселовский А.Н. Избранное: на пути к исторической поэтике. М., 2010.
- Лепахин В. Религиозная лирика Вячеслава Иванова//Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae. T. 41. Budapest, 1996. С. 151-166.
- Ливанов Ф.В. Раскольники и острожники. Т. 4. СПб., 1869.
- Cymborska-Leboda M. «Знак о смысле»: Символ и бытие личности. Роза и крест у Вячеслава Иванова//Slavia Orientalis. Vol. 65. № 2. С. 325-343.