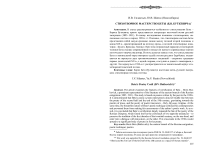Стихотворное мастерство Беты (Б.В. Буткевича)
Автор: Силантьев Игорь Витальевич, Шатин Юрий Васильевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности стихосложения Беты -Бориса Буткевича, яркого представителя литературы восточной ветви русской эмиграции (1895-1931). В основу исследования положены стихотворения, написанные поэтом в период 1920-х гг. Показано, что стихотворная система Беты представляла собой некую среднюю линию между поэзией второй половины и конца XIX в., ориентированной на поэтику прозы, и поэзией стихотворных новаторов - Белого, Брюсова, Гиппиус. При этом пограничный характер стихотворной техники Беты смущал современников и мешал им вынести справедливые оценки поэтического творчества автора. В итоге делается вывод о том, что стихосложение Беты в значительной мере повторило судьбу поэзии русского Зарубежья, оказавшегося на перепутье двух противоположных тенденций - сохранить традицию первых десятилетий ХХ в., с одной стороны, и вступить в диалог с новаторами, с другой. Это перепутье в 1930-е гг. распространится на значительный корпус стихотворений советской поэзии.
Борис бета (буткевич), восточная ветвь русской эмиграции, стихотворная техника, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/149139035
IDR: 149139035 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_225
Текст научной статьи Стихотворное мастерство Беты (Б.В. Буткевича)
В фундаментальном «Очерке истории русского стиха» (1984) М.Л. Гаспаров описал диахронию русской версификации XVII XX вв., включив четыре основных компонента стихосложения: метрику, ритмику, рифму и строфику Значение данной работы заключается не только в том, что ученому удалось построить универсальную модель развития стиха на разных исторических этапах, но и в том, что на фоне такой системы можно проследить мастерство любого стихотворца, начиная от самых заметных фигур и заканчивая малоизвестными поэтами.
В нашей статье мы подробно остановимся на стихосложении Беты (Бориса Буткевича), поэта, начавшего творить на берегах Тихого океана, во Владивостоке и Шанхае, и окончившего жизненный и творческий путь на Средиземноморском побережье, в Марселе, в 1931 г. В основу нашего исследования положен поэтический сборник «Лошадь Паллада» (название дано издателями), который включает 34 стихотворения и одну поэму, написанные в период 1920-х гг. Характеризуя эту эпоху как время Блока и Маяковского, Гаспаров называет ее эпохой преобразований. «В основе этого преобразования лежало переменившееся соотношение основных художественных систем - поэзии и прозы. Во второй половине XIX в. поэзия подчинялась прозе и ориентировалась на прозу - теперь поэзия отчетливо противопоставляет себя прозе и сосредоточивается на тех художественных заданиях, которые прозе недоступны» [Гаспаров 1984, 206]. На фоне этих преобразований оставались поэты, продолжавшие манеру предшествующего периода, к числу которых Гаспаров отнес прежде всего Бунина. Действительно, в творчестве Бунина оппозиция поэзия vs проза заявлена и реализована в гораздо меньшей степени, чем, скажем, у Белого, Брюсова или Гиппиус.
Если вынести за скобки оценки уровня дарования, то стихотворную систему Беты можно определить как некую среднюю линию между указанными поэтами. Бета не был новатором в полном смысле этого слова. Вместе с тем его манера стиха гораздо в меньшей степени определяет сходство с Буниным, в отличие от прозы, во многом повторившей импрессионистические приемы предшественника. Именно пограничный характер стихотворной техники Беты смущал современников. Характерны в этом смысле воспоминания Арсения Несмелова. «Стихи Бориса Беты - он так их подписывал - мне очень понравились. Я показал их Сергею Третьякову и Николаю Асееву. Однако оба они отнеслись к стихам Беты холодно. От этих поэтов впервые услышал то, что всю жизнь свою Бета слышал о своих стихах: “Талантливы, мол, но не обработаны”» [Несмелов 2020, 101]. В данной статье мы постараемся показать, что отзывы двух известных поэтов, как минимум, нуждаются в определенной коррекции.
Обратившись к метрике стихов «Лошади Паллады», мы легко заметим, что в основных чертах они повторяют репертуар поэзии первых десятилетий XX в. Наиболее частым размером оказывается четырехстопный ямб с мужскими и женскими клаузулами -14 стихотворений (41 %). Виол-
не естественно, что при такой частотности размер не обладает сколько-нибудь выраженным семантическим ореолом и потенциально включает в себя все многообразие лирических мотивов. Ситуация коренным образом меняется, когда наряду с мужскими клаузулами мы обнаруживаем клаузулы дактилические. Так построено стихотворение «Жена», в котором благодаря заданному чередованию можно усмотреть ассоциации с «Незнакомкой» (1906) Блока. «Так сердце не устанет мучиться, / Узнав о славных временах, / И верному покою учится / Уединившееся в снах». Впрочем, семантика этого стихотворения не ограничивается блоковскими ассоциациями. Как показал в одной из статей М.Л. Гаспаров, сама «Незнакомка» возникла на скрещении двух мотивов: «внешнего прохождения и внутреннего прозрения, внешнего городского быта и внутреннего ощущения вечной женственности. Первый из этих мотивов восходит к Брюсову, второй к Гиппиус. <...> камерная бесплотность Гиппиус совмещалась с уличной эротикой Брюсова, и отсюда уникальная образность блоковского стихотворения» [Гаспаров 2012, 43].
С учетом наблюдений Гаспарова можно утверждать, что не только «Незнакомка» оказала влияние на стихотворение «Жена». В значительной мере оно оказалось близким стихотворению Брюсова «В полдень» (1903/1904). Ср. у Брюсова: «И чудом правды примиряющий / Мне в полдень пламенный дано / Из чаши длительно-сжигающей / Испить священное вино»; у Беты «А вдруг блаженное желание, / Предначертание видно / И бьется пуще сердце жадное / А воздух - песни и вино». Заключительный катрен «Жены» («Не многие ли смертью сгинули, / Н все не кончилась война / И древними воспета гимнами / Непобедимая жена») возвращает нас к мотиву вечной женственности, конгениальному стихотворению Гиппиус «Любовь - одна».
В соответствии с традицией первых десятилетий прошлого века Бета отказывается от шестистопного хорея и ямба в пользу пятистопных, хотя доля первого весьма незначительна - 2 стихотворения: «Петербургские стансы» с мотивами сновидения и ностальгической памяти и «Разговор» с темой поэта и поэзии. Из особенных метрических форм необходимо отметить первую часть стихотворения «На отъезд» с неурегулированными вариациями анакруз. Этот весьма редкий случай известен по стихотворению Ф.И. Тютчева «Сон на море», но если у Тютчева в большинстве случаев варьируются амфибрахий и анапест, то у Беты - дактиль и амфибрахий («Будто в России, в деревне, в лугах» vs «По дачной осенней и поздней дороге»).
Тоническая система занимает у Беты 12 %, или 4 стихотворения. Особенностью тонической системы является отсутствие четкой границы между дольником и акцентным стихом, например, «Но сам я, носивший конника шпоры, / Ездивший в ухавшем броневике, / Все-таки думаю, что яростные споры / Мы будем кончать с клинком в руке» («Душа и сердце»), В первом, третьем и четвертом стихах перед нами классический дольник с переменой безударных в один или два слога, однако второй стих резко выделяется из общей массы за счет увеличения безударных периодов до 5 слогов. Как отмечает Гаспаров, «поэзия раннего символизма стала пользоваться акцентным стихом и в серьезной лирике - особенно как знаком болезненности, надрыва, трагизма в тематике» [Гаспаров 1984, 221]. Действительно, первые опыты акцентного стиха, такие, как «Алмаз» (1902) 3. Гиппиус или «У берега зеленого, на малой могиле...» (1903) А. Блока подтверждают вывод исследователя. Именно в этом качестве был востребован акцентный стих и дольник Беты в стихотворении «Душа и сердце». Сходные мотивы ностальгической памяти, граничащие с болезненными ощущениями, характеризуют другое стихотворение, написанное акцентным стихом - «Прошлое».
Ритмика. С точки зрения ритмики наибольший интерес представляют как раз размеры, не обладающие ярко выраженным семантическим ореолом метра - прежде всего четырехстопный и пятистопный ямб с мужскими и женскими клаузулами. Как известно, четырехстопный ямб подвергся в первые десятилетия архаизации, чему в немалой степени способствовали теоретические труды Андрея Белого «Опыт характеристики четырехстопного ямба» и «Лирика и эксперимент» (1910). «Опыт Белого увлек за собой всех. Почти у каждого поэта начала XX века, от Сологуба и Бальмонта до Игоря Северянина, прослеживается одна и та же эволюция 4-ст. ямба: понижение ударности 2-ой стопы и соответствующее повышение 1-ой. У большинства авторов ударность 2-ой стопы опускается до уровня начала XIX века» [Гаспаров 1984, 227]. Стихосложение Беты не только реализует данную тенденцию, но доводит ее до максимального уровня. Соотношение ударности 1 стопы ко 2-ой составляет 3:1 (18,6% против 6,3 %) Из 13 стихотворений данного размера в 11 случаях сохраняется приоритет вариации х-ххх-х-(х) над формой ххх-х-х-(х). Исключения составляют стихотворение «Голос» с приблизительным равенством вариаций (1 и 2) и написанное в совершенно иной ритмической тональности «Доброе сердце» (1 и 5). Наиболее ярко тенденция к архаизации четырехстопного ямба проявляется в стихотворениях большого объема «Лошадь Паллада» (О % к 19 %), «Вестник» (0 % к 25 %), «Фокстротная поэма (9 % к 23 %), Баллада о чужом небе» (4 % к 30 %).
Общее правило ритмики четырехстопного ямба с мужскими и женскими клаузулами может быть сформулировано следующим образом: чем больше текстовый объем стихотворения, тем тенденция к архаизации проявляется отчетливей. Возникает своеобразный эффект нарастания движения. Сильный энергетический толчок оказывает влияние на последующее расположение ритмических фигур, обусловливая их максимальный количественный разрыв. При этом не следует забывать, что важным фактором ритмического контраста в текстах большого объема становится возрастание вариаций, не характерных для XIX в., но востребованных веком XX - четырехстопный ямб с пиррихием на 1 и 3 стопах («Изнеможение разврата») и особенно с пиррихием на 2 и 3 стопах одновременно («Соскучился над разговором»).
Более сложную картину можно наблюдать при обращении Беты к пятистопному ямбу Расшатывание цезуры, начатое еще Пушкиным в «Маленьких трагедиях», а к концу века распространившееся и на лирические жанры, «влечет сглаживание контраста между средней ударностью сильных (I и III) и слабых (II и IV) стоп» [Гаспаров 1984, 230]. При рассмотрении каждого отдельно взятого стихотворения указанная Гаспаровым пропорция 17 к 25 сохраняется, а в стихотворении «Скука» даже меняется в пользу ударности так называемых слабых стоп. Однако ситуация коренным образом изменяется при рассмотрении всей массы стихового материала данного размера. Из 114 стихов, приходящихся на пять стихотворений, получаем следующее распределение ударности:
|
I |
II |
III |
IV |
V |
|
103 |
75 |
84 |
42 |
114 |
|
90% |
65% |
75% |
36% |
100% |
Иными словами, в пятистопном ямбе средняя величина первой + третьей стопы составляет 81 %, а второй и четвертой -51 %, т. е разница составляет 30 % вместо указанных Гаспаровым 8-10 %. Поведение пятистопного ямба оказывается аналогичным четырехстопному, но идет вразрез с тенденцией, характерной для большинства современных Бете поэтов. Как и в случае с четырехстопным ямбом, решающим фактором становится текстовой объем. Вернее, тот энергетический импульс, который задается исходным движением текста. Чем длиннее текст, тем в большей степени он сохраняет и / или усиливает консервативную тенденцию, свойственную лирике XIX в., и, напротив, чем меньше объем, тем в большей степени он приближается к общепринятой норме. Следовательно, в этом случае Бета сохраняет консервативный принцип соотношения стоп, свойственный лирике середины XIX в., и лишь в небольших лирических фрагментах, таких как «Скука», идет в ногу со временем.
Рифма. Пожалуй, нигде импрессионистическая манера письма в области версификации не проявилась у Беты в такой степени, как в работе над рифмой.
Общий корпус рифмики Бориса Беты (553 рифмы) весьма неровен. Подавляющее большинство (82 %) составляют достаточно простые и общепринятые рифмы, хотя и вполне правильные с точки зрения графико-фонетического содержания (встречается даже тавтологичная «выступают - отступают» («Фокстротная поэма»)). Вместе с тем оставшиеся 18 % (это 98 рифм), напротив, дают основания говорить о Бете как об экспериментаторе-импрессионисте, уходившем от банального канона в сторону неточных рифм новаторского для своего времени характера, ибо «после Блока устанавливается широкая свобода в пользовании неточными рифмами, которые получают даже особое название - рифмоиды» [Жирмунский 1975, 370]. Рифмоиды Беты представляют особенный интерес, эстетически они наиболее информативны, их анализ вскрывает импрессионисти- ческие особенности фонетического рисунка поэта, размашистого и приблизительного, но раскрывающего самую суть и характерность графикофонетической природы стихотворной речи поэта.
Ниже дана характеристика основных видов и особенностей неточных рифм поэта.
В позиционном отношении рифмы Беты являются без исключения конечными и преимущественно парными перекрестными, с небольшой долей парных смежных и единичными случаями более сложной схемы рифмовки.
У Беты встречаются неравносложные рифмы, при этом сама неравно-сложность компенсируется дополнительными просодическими факторами. Так, в рифме «ногти - копоти» («Газетная хроника») неравнослож-ность восполняется изосонантизмом: «о» - «о-о». В рифме «октябрь - табор» («Труба») неравносложность компенсируется слогообразующим сонорным согласным «р» в потенциальном слоге «брь».
В творчестве Беты регулярно встречается ассонансная рифма, например, «заре - трубе» («Лошадь Паллада»); «слова - глаза» («О лебедях...»); «стен - свет» («Манчжурские ямбы»). Как правило, ассонансная рифма сопровождается различными фонетическими усложнениями. Так, в рифме «поедем - свете» («Труба») наряду с усечением согласного «м» противоположны звонкий и мягкий согласные. Рифма «ежась - слезы» («Труба») построена на грани ассонансной, и в ней также наряду с усечением мягкого «с» противополагаются соседние по месту образования согласные «ж» и «з». Рифмы «память - ранит» («Здорово, снег...»), «Блоке - профиль» («Сны»), «сучья - лучше» («Память»), «шумы - стулов» («Образ») также осложнены противоположением соседних по месту образования образованию согласных: «п» - «р» и «м» - «н»; «л» - «р»; «с» - «л»; «м» - «л». В рифме «причуда - губы» («Разговор») наблюдается двойное чередование близких по месту образования согласных: «ч» - «г», «д» - «б». В ассонансной рифме «домах - набат» («Написанное в тайфун») происходит практически полное расподобление согласных звуков. В рифме «Сергеич - плечи» («Ямб упадает...») находим фонетическую инверсию последнего слога («ич» - «чи»), Ассонансная рифма «зевак - глазах» («Доброе сердце») также осложнена инверсией согласных: «з-в-к» - «г-з-х». То же в рифме «глаза - рассказал» («Рассказ»): «г-лз» - «к-зл». Встречается у Беты и рифма с инверсией подобных гласных, как в «недвижны - жизни» («Ода солдату»): «и-ы» - «ы-и».
С ассонансной рифмой в творчестве поэта граничит явление изосо-нантизма, под которым мы понимаем полное тождество всех гласных в зарифмованных словах. Изосонантизм характерен для рифм Беты в тех случаях, когда ряды согласных, напротив, оказываются расподобленными: «речке - изувечен» («Газетная хроника»), здесь имеет место изосонантизм: «е» - «е-е» при чередовании соседних по образованию согласных: «р» - «в». В упоминавшейся выше рифме «ногти - копоти» («Газетная хроника») наблюдается изосонантизм: «о» - «о-о».

Составная рифма также довольно часто встречается в стихотворных строках Беты. Она весьма оригинальна и наполнена фонетической игрой. Так, в рифме «осенней - от сена» («Табор») мы видим расподобление согласных («с» - «ц», усечение концевого йота, чередование долгого и нормального «и»), В рифмах «те ведь - лебедь» («О лебедях...») и «кто же - прохожий» («Какой-то голос...») противоположны соседние по месту образования согласные звуки. В рифмах «на синем - погасил он» («Фокстротная поэма»), «отравы - у края» («Разговор») при точности опорных слогов рифм по женскому типу происходит фонетическое расподобление замыкающих слогов: «си-ним» - «си-л он», «ра-вы» - «ра-я».
Распространенным фонетическим усложнением в рифмах Беты является усечение согласных, как срединных, так и конечных. Так, в стихотворении «Вестник» встречаем усечение концевого согласного «т» в «дачи -прискачет» и двойное усечение «тишине - страшней» («р» и концевого «й» во втором слове). Концевое усечение согласного звука представлено в рифмах «парк - пар» («Сны»), «флаги - лагерь» («И флаги развевает ветер.. .»), «душа - шарф», («Фокстротная поэма»), «звезд - берез» («Усадьба») и др.
Родственными усечению выступают выпадения согласных в рифме, как в стихотворении «Усадьба»: «грусть - гусь», или в стихотворении «Фокстротная поэма»: «смерть - поверь», «тварью - ударю» (здесь выпадение согласного йота и стяжение слога), «слов - высок», «поезд - пояс», «пудру - блюдо» (в последних двух рифмах отметим также их графическое расподобление). В весьма примечательной рифме «поплыть - углы» («Манчжурские ямбы») находим выпадение конечной согласной (сочетание закрытой и открытой рифмы), а также чередование далеких по образованию согласных: «пл» - «гл», но стянутых общим сонорным «л»: «плыть-глы».
О тонком фонетическом чувстве Бориса Беты свидетельствует большое количество рифм с графическим расподоблением при сохранении фонетического подобия. Отметим наиболее интересные: «лестниц - месяц», «оперся - скорость», «ладонь - водой», «остерегаясь - завязь», «на память - губами» («Фокстротная поэма»); «взморье - простое» («На отъезд»); «хрустальна - отстанет» («Петербургские стансы»»); ««злясь -взгляд» («Написанное в тайфун»); «горизонт - горячо» («Манчжурские ямбы»), В последнем случае: «[гаризонт]» - «[гаричо]», что сводится к слоговым образованиям «гари» - «гари» и «зонт» - «чо»; здесь полная фонетическая эквивалентность слогов, предшествующих ударному, чередование смежных по образованию согласных в ударном слоге и кардинальное графическое расподобление в целом. В пределе графическое расподобление оборачивается у Беты фонетическим тождеством, как в рифме «девица - дивиться» («Доброе сердце»), что подчеркивается отнесением зарифмованных слов к синтаксически противоположным частям речи.
О фонетическом чутье Беты говорит и то внимание, которое поэт уделяет чередованиям в рифме согласных звуков, близких или соседних по месту образования: «печальный - шалью» («ч» - «ш»), «плеч - жалеть» («ч» - «т»), «вещь - весть» («щ» - «сть») («Доброе сердце»); «город - голос» («р» - «л»; «д» - «с»), «машину - мужчина» («ш - «щ») («Газетная хроника»); «разврата - внятно» («р» - «н») («Фокстротная поэма»); «искра - сестра» («к» - «т») («Манчжурские ямбы»), «несветлый - ветру», «правой - славы» («р» - «н»), «домами - пламя» («м» - «л») («Ода солдату»); «Трамблэ - могла» («б» - «г») («Прошлое»); двойная составная рифма «в свет - во сне» («све» - «сне») («Камея»); «влюбляться - прятались» («бл» - «пр») («Написанное в тайфун»): двойное чередование близких по месту образования согласных.
Ряд рифм Беты можно определенно отнести к особенным, изысканным. Таково противопоставление «гулкой - купол» («Здорово, снег...»), в котором диссонансная рифма осложнена инверсией согласных «лк» -«кл». В рифме «цепочке - хочется» («На отъезд») наблюдаем инверсию «цч» - «чц». Инверсия согласных наблюдается, как мы показывали выше, в ряде ассонансных рифм Беты («Сергеич - плечи» («Ямб упадает...»), «зевак - глазах» («Доброе сердце»)). В рифме «собрались - Борис» («На отъезд») имеет место чередование фонетически эквивалентных открытого и закрытого слогов: «бра» - «бор», а также чередование смежных согласных: «лись» - «рис». В рифме «снова - уснуло» («На отъезд») представлено изысканное «ова» - «ула»: чередование смежных по происхождению гласных: «о» - «у» и согласных «в» - «л». В рифмах «дракон» - окно», «стол - светло» («Манчжурские ямбы») наблюдаем сочетания «акон» -«акно», «тол» - «тло», это чередования закрытого и открытого слогов при их фонетической эквивалентности. В рифме «занавеску - весен» («Прошлое») также наблюдается чередование открытого и закрытого конечного слога в женской рифме; чередование «у» - «ен» в замыкающем слоге отсылает к регулярной исторической мене носовых гласных, что говорит о незаурядной языковой интуиции поэта. В рифме «Россия - сына» («Ода солдату») гласная переднего ряда «и» сочетается с согласным «й», близким по месту образования, вместе с тем гласная среднего ряда «ы» сочетается с согласным «н», близким по месту образования: «ийа» - «ына». В рифме «проносится - птицы» («Петербургские стансы») наблюдаем сочетание дактилической и женской рифмы, при этом фактически рифмуются два послеударных слога первого дактилического компонента («сица») и противоположного (по женскому типу) компонента рифмы («птицы»), В стихотворении «Камея» встречаем смелое импрессионистское противоположение мужской и женской рифмы: «час - встречались». В рифме «галерее - Гулливере» («Соседство») встречаем инверсию согласных звуков «р-й» - «в-p» и рифмовку двух слогов, предшествующих ударному: «гали» - «гули». Очень интересна фонетически двойная обратная рифма «смотрел - столе» («Рассказ»): «смот» - «сто», «ел» - «ле». Изысканными рифмами богато и позднее стихотворение «Жена»: «горькие - Георгия», «оружия - ужина», «желание - жадное».
В ряду изысканных особо выделим рифмы, сочетающие векторы од-

повременного уподобления и расподобления согласных звуков. Такова, в частности, рифма «асфальт - взгляд» («Баллада о чужом небе»; «сфлт» -«взглт»), здесь сочетания согласных «лт» - «лт» стягивают, а «сф» - «взг» разводят зарифмованные слова. Рифма в целом образует напряженное фонетически информативное сочетание, вносящее острую сюжетную динамику в самую стихотворную форму. Таковы же рифмы ««искры - мглистый» («Баллада о чужом небе»), «скамейке - коленки» («Ода солдату»), «колокольне - гонит» («Разговор»), «сгинули - гимнами» («Жена»), «звезды - березовый», «оживаю - с вами» («Рассказ»), «злясь - взгляд» («Написанное в тайфун»), «строго - расстроен» («Соседство»),
Завершая раздел, обратим внимание на собственно семиотическую новаторскую рифму «парк - ????» с «????» как «минус-словом», состав и смысл которого домысливается читателем.
Раскрытый, сквозящийся парк
И споры о Бунине, Блоке
И ваше смешное ????
И ласковый зябнущий профиль... («Сны»)
Строфика Беты не отличалась особой уникальностью, скорее она демонстрировала некоторую нарочитую небрежность, связанную с общими принципами поэтики импрессионизма. Основной корпус стихотворных текстов представлен катренами с их наиболее традиционной рифмовкой -перекрестной. Отступление от этого принципа наблюдается всего лишь один раз в «Фокстротной поэме», где происходит замена на опоясывающую рифмовку abba. «И будто в мрак - кофейный тент / Меня позвал на простоквашу, / Я шляпу смял в прохладе. Вашу / Заметил тотчас белых лент». С учетом резкого снижения стиля до бытового и изломанного синтаксиса подобную замену вряд ли можно считать случайной.
Из сложных строф следует в первую очередь выделить секстину, которой написано стихотворение, давшее заглавие всему сборнику. «Лошадь Паллада» представляет собой откровенно выраженное поле экспериментов, связанных с игрой различными вариантами строфы. Первая и вторая использует всего две рифмы, располагая их по схемам ababba и abbbaa, к третьей и четвертой строфам подключается третья пара рифм, соответственно схемы abbcac и ababcc, в пятой строфе последний стих оказывается холостым aababx, в финале, будто насладившись обилием вариантов, Бета меняет секстину на септиму, добавляя дополнительный стих - ab-Ьаасс. Именно эта строка оказывается семантическим курсивом, поскольку отражает воинский пафос всего стихотворения - «На страх застигнутой Европы!».
Обратившись к традиции русской оды, Бета следует общему правилу поэзии XX в., связанному с расподоблением связи между принятой системой мотивов и формальным признаком жанра - одической децимой. Так, «Ода солдату», содержащая традиционную семантику оды - «Един- ственный громоотвод, / Стоит на каске принца Славы»; «Два гения у ног моих / Не устают трубить герою»; «Великолепная война / в изображении победном» и т.д., пользуется традиционными катренами. С другой стороны, стихотворение «Ямб упадает», представленный одической децимой -ababccdeed, являет собой образ Пушкина, погруженного в прозаическую атмосферу «От ветра поднимает плечи / Рассеянны его глаза»; «И смотрит синеву небес / В дорожном чепчике Наташа». Наконец, репертуар сложных строф замыкают сонет «Здорово, снег» с вольной рифмовкой двух катренов - abab abba ccd ede и совершенно запутанная игра рифмовками, не встречаемая в отечественной поэзии во второй части «Написанного в тайфун», действительно чем-то напоминающая версификационный шторм, где двустопный амфибрахий с вариациями дактилической, женских и мужских клаузул складывается в терцины с более чем прихотливым расположением рифм - aab ccb dde ffe ggh iih, - где рифмовка в двух первых стихах - смежная, а в третьем стихе подхватывается соответственно в шестом, двенадцатом и восемнадцатом, создавая некое подобие секстины. Таким образом, как и в ритмике, в строфике Беты мы наблюдаем сложную картину, связанную, с одной стороны, со стремлением удержаться в рамках классической традиции, а с другой - ответить на вызов авангарда первых десятилетий века.
Заканчивая обзор, следует заметить, что стихосложение Беты в значительной мере повторило судьбу поэзии русского Зарубежья, оказавшегося на перепутье двух противоположных тенденций - сохранить традицию первых десятилетий XX в., с одной стороны, и вступить в диалог с новаторами, с другой. Это перепутье в 1930-е гг. распространится на значительный корпус стихотворений советской поэзии, подтвердив предсказание стиховеда, согласно которому «исторические прецеденты скорее заставляют предполагать, что за революционной эпохой в истории русского стиха наступит возвращение к консервативной традиции высокого стиля, к каноническим формам стиха и к “мастерству”, которое, по мудрому слову Гете, “познается в самоограничении”» [Жирмунский 1975, 376].
Список литературы Стихотворное мастерство Беты (Б.В. Буткевича)
- Бета Б. (Буткевич Б.В.). Лошадь Паллада (Избранное. Т. II) Изд. 2 -е. Б.м.: Salamandra P.V.V., 2020. 200 с.
- Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма, Строфа. М.: Наука, 1984. 319 с.
- Гаспаров М.Л. "По вечерам над ресторанами,",: 4-ст. ямб с окончаниями ДМДМ: становление ореола // Гаспаров М.Л. Метр и смысл. М.: Фортуна Эл, 2012. С. 37-60.
- Жирмунский В.М. Теория стиха. Л.: Советский писатель, Ленинградское отделение, 1975. 664 с.
- Несмелов А. Борис Бета - Буткевич. На смерть талантливого поэта // Бета Б. (Буткевич Б.В.). Лошадь Паллада (Избранное. Т. II) Изд. 2 -е. Б.м.: Salamandra P.V.V., 2020.