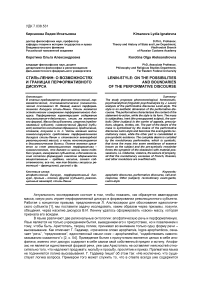Стиль-Ленин: о возможностях и границах перформативного дискурса
Автор: Кирсанова Лидия Игнатьевна, Коротина Ольга Александровна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается феноменологический, герменевтический, психоаналитический (лингвистический психоанализ Ж. Лакана) анализ перформативного дискурса стиль-Ленин. Стиль является эстетическим измерением перформативного дискурса. Перформатив характеризует содержание «высказывания-к-действию», стиль же является его формой. Масса бессубъектна, инертна (предполагаемый субъект), символический Другой (субъект) является носителем обращений, предписаний, слоганов, лозунгов и т. п. Часть желания массы символизируется средствами перформативного дискурса стиль-Ленин и становится авангардной революционной массой, а часть констеллируется в досимволическом бытии. Полное желание урезается за счет революционного перформатива -символического, что делает из массы некое подобие сущего, именуемого субъектом, а досимволический остаток формирует симптом одержимости вещественным - грабежи, насилие, захват собственности, все то, чем так богаты эксцессы революций - французской, русской и др.
Апофатический дискурс, перформативный дискурс, призыв - отклик, другой (субъект), революционный авангард, стиль-ленин
Короткий адрес: https://sciup.org/149134932
IDR: 149134932 | УДК: 7.038.531 | DOI: 10.24158/fik.2021.4.1
Текст научной статьи Стиль-Ленин: о возможностях и границах перформативного дискурса
Актуальность исследования состоит в том, чтобы показать, как образуется авангардная масса, какую роль играет перформативный дискурс в формировании революционного субъекта. Работая с концептом призыва, предложенным Л. Альтюссером для обоснования идеологического субъекта [1], мы поставили задачу исследовать, каким образом через призывы, лозунги, обещания, через насилие дискурса В.И. Ленину удалось сформировать «свою» массу, которая признала его вождем.
В языке различают две региональные онтологии: апофатическую речь и перформативную. Язык является не только учреждением бытия, выведением его к присутствию, но и повелением к тому, чтобы быть. Аристотель, творец логики, принимал во внимание только одну форму речи – высказывание. Как отмечает Г. Гадамер, «греческое слово apophansis, logos apophanticos, означает “речь”, “предложение”, единственный смысл коих – apophanesthai, “содействовать самопо-казыванию сказанного”» [2, с. 54]. Приведение бытия к присутствию является целью в себе апо-фатики, именно этот дискурс содержит в себе самом свой собственный предел и истину. Апофа-зис не является единственной формой речи, уже сам Аристотель не оставляет неясностей относительно того, что надлежит продумать: мольбу и просьбу, проклятие и приказ. Прагматика языка не подчиняется логике высказывания. Г. Гадамер пишет об этом так: «Не исключено, что существует логика вопроса. Примером того может служить то, что в ответе всегда уже содержится новый вопрос. Возможно, что есть и логика просьбы, проявляющаяся, например, в том, что первая просьба никогда не бывает последней» [3, с. 54]. Перформативный дискурс, в отличие от научного (апофатического), не имеет своим пределом предмет, он, скорее, определяется дей-ствованием, волей, что соответствует замыслу, проекту. Ясно, что вопрос об истине в апофати-ческом и перформативном дискурсе решается по-разному: апофатика - истина, это знание об общем, перформатив есть знание единичного, истина не важна. Самым главным является то, что определяющий принцип перформатива - это воля, понятая в широком смысле как влечение и желание, как «жажда бытия». Новалис дает этой прагматике имя «поэзия» и определяет ее следующим образом: «Поэтическое искусство есть волевое, деятельное и производящее использование наших чувств» [4, с. 106]. Апофатический дискурс не лишен логики, имеет эстетическое измерение, содержит цель в самом себе, безразличен к истине.
Стиль - это такое измерение мысли, которое отвечает не на вопрос «Что мыслится?», а «Как нечто мыслится?», это воля к «произведению» бытия, воля к самовыражению человека. Стиль мысли - это эстетическая форма, которая зачастую предшествует мысли и формирует ее [5]. Хотя стиль мысли является ее эстетическим дополнением, он индивидуализирует мысль (стиль-Ленин, стиль-Сталин, стиль-Господин и др.) и одновременно типизирует ее, выражает дух времени, поколения и, быть может, содержит что-то телесное - дыхание эпохи, например. Все эти смыслы мы постараемся прояснить через стиль-Ленин, который не определяется манерой письма, дискурс апофатики мы оставим в стороне, стиль выражается формой воли (волей к власти), влечением, желанием, захватывает жест, тип одежды и многое другое.
Стиль Ленина относится к революционной эстетике авангарда, возможно, он вообще открывает эпоху авангарда, которая получает свое продолжение в искусстве, поэзии, живописи -у Казимира Малевича, Павла Филонова, Андрея Платонова, Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова и др. Попытаемся суммировать его особенности в отношении такой фигуры, как стиль-Ленин [6].
Революционный авангард выражает себя тем естественнее, чем более основательным является разрыв с традицией, «почвой и кровью», нацией, родным языком, местом проживания, ландшафтом и т. д. Ленин ко времени «Апрельских тезисов» не жил в России 17 лет, его соратники Троцкий и Плеханов разъясняли ему, как школьнику, уроки Февральской революции и т. п. В этом случае, при таком отрыве от реального едва ли возможно «называть вещи своими именами», потеря связи с реальным - симптом авангарда. Ф.Т. Маринетти распространил утрату реального на язык, он предлагал с помощью стиля прорубить окно в невозможное: «Синтаксис надо уничтожить, а существительные ставить как попало, как они приходят на ум... Глагол должен быть в неопределенной форме <...> Надо отменить прилагательное...» [7]. Перформатив не описывает, а направляет «живую материю» к лозунгам: «Да здравствует социалистическая революция», «Да здравствует...», «Да здравствует...», - и так без конца. Это прохождение воли до конца, суть чистое проявление воли к могуществу. Для Ленина прообразом живой, но косной материи была восставшая масса крестьян, батраков, рабочих, солдат и пр. В книге «Государство и революция» Ленин учил, что масса, жаждущая освобождения, движется хаотично, чтобы осознать свое угнетенное положение и цель будущей свободы, массе требуется авангард. Пролетариат называли авангардом как Маркс, так и Ленин. Инертная масса рабского труда с помощью «слов освобождения» привносится в движение пролетариев интеллектуалами, профессиональными революционерами. Известно, что Ленин считал необходимым освободить профессионалов революции от работы на заводах и фабриках, предлагал из денег партии платить им среднюю зарплату квалифицированного рабочего. Гегелевская диалектика раба и господина была объявлена тупиковым закоулком истории, только масса освобожденного труда создает то, что превышает ее собственное «бытование». У К. Маркса, как отмечает А. Кожев, «благодаря труду человек является сверх-природным реальным сущим», «как трудящийся он есть “воплощенный” Дух», гегемон истории [8, с. 34]. «Манифест коммунистической партии» провозгласил: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» - лозунг, которого боятся буржуа во всем мире. Как сказал Господь: «Каин, где брат твой Авель?» - «Разве я сторож брату своему?» Кто сегодня готов встать под этот лозунг? Нет сторожа... Правда, Ж. Деррида оптимистически заметил, что призрак Маркса возвращается как вина, как идол, как воображаемое [9]. Не то же и с Лениным?
Разрыв с реальным - лучшего нельзя было бы желать для реализации глобального проекта всемирной революции, революции в мировом масштабе. Обращаясь к «серой массе» дезертиров с русского фронта войны с немцами, бывших крестьян, рабочих, батраков, Ленин говорит о Карле Либкнехте, Розе Люксембург, немецком пролетариате?! Они и имен таких не слышали. Оказаться вне русской истории, вне традиции и языка (едва ли язык эмиграции был русским) - таковы обстоятельства той данности, которую мы называем стиль-Ленин.
Утопия - проект всемирной революции - занимал ум Ленина и мысли нескольких его соратников. Утопический проект вместо аналитики конкретно-исторических реалий русской революции привел его к знаменитым «Апрельским тезисам». Плеханов и другие партийные лидеры обучали Ленина азбуке реальности, указывали ему на гигантский отрыв от действительности. Он занял позицию героя-одиночки, всеобщего протестанта, поссорившись со всеми врагами и соратниками, он сказал тем самым «нет» всякой реальности. Ленин - образец протестного духа, самодовлеющего, несговорчивого: не признал итогов Февральской революции, отрицал, что война русских с немцами является отечественной, не допускал никаких уступок в деле созыва Учредительного собрания и пр.
Отрицание всякой меры в организации продвижения идеи всемирного равенства: «Мир -народам! Земля - крестьянам! Фабрики - рабочим!», желание абсолютного, прорыв к невозможному - признаки авангардистского перформатива. Имеется в виду, что воображаемое перформатива поддерживается не реальностью, не порядком причин и следствий, а исключительно бесконечным волевым усилием тех, кто сможет его поддержать. Агония перформатива длится вечно: «Ленин и теперь живее всех живых» (по словам В.В. Маяковского). Прошло уже около 100 лет после смерти вождя, а его останки не захоронены. Тело без погребения - бессмертные мощи?
Ленин как эмпирик массы озвучил ее желания в лозунгах и слоганах. Как это может быть? Было ли это желание самого Ленина? Нет, ни в какой степени. Как точно заметил А. Кожев, «желание - это желание Другого» [10]. Как выразить, чего хочет женщина, чего хочет угнетенный, чего хочет дезертир? [11] Желание феминно по своей природе, предполагает известного рода нехватку реального, восполняет его воображаемым, а потому проигрывает в столкновении с реальностью. Апофатический дискурс опирается на «чтойность», это Логос рассуждает, рассматривает, логически суммирует, обобщает. Логос «чтойности» - это медленная и длительная процедура того, что именуется мышлением, «раз-мышлением». Мыслить трудно и долго. Перформативный дискурс лозунга, призыва, приказа не рассуждает, а направляет к действию, в нем слово и действие совпадают [12]. «Земля - крестьянам» - значит, штык - в землю, и по домам -делить помещичью собственность, да не завтра, а сегодня, немедленно. Желание не может быть отсрочено, откладывание желания не относится к свойствам массы, феминной по определению. Нехватка действует через восполнение тотчас, откладывание желания и его накопление - это стратегия человека-буржуа, прошедшего процедуру индивидуации. Масса действует согласно принципу «призыв - отклик». Возьмем лозунг гражданской войны «Ты записался добровольцем?», он не предполагает обсуждения того, к какому «ты» адресован, он окликает всякого, каждого. Этот любой другой уже призван, именно тебя ожидают на призывном пункте, для тебя готова винтовка и т. п. Перформативный дискурс чужд вопрошанию: «А почему именно я?» Стратегия размышления отменяется, «призыв - отклик» действует как мгновенная процедура «совместности». Призыв притискивается к тому, кто слышит, смотрит, и дальше - ты прочел этот плакат, значит, призывают именно тебя. Сегодня так работают реклама, искусство перформанса, политика средствами массмедиа и др.
К стилю-Ленин относится также мышление посредством руки. Рука, которая простерта куда-то вдаль, в будущее, которого еще нет, стала знаком стиля-Ленин. Благодаря направляющему жесту он дает массе то, что она еще не мыслит, не способна помыслить. Простертая рука вождя - это человек, выходящий во «вне себя» (как говорят у русских, «человек не в себе»), смещенный с места Я-субъект, тревожный, гневливый, раздраженный, тот, кто снаружи самого себя, влекомый куда-то, в другое место, на пути к чему-то, чему нет места в реальности. О постоянном пребывании Ленина в стихии распри можно судить по его текстам выступлений в апреле 1917 г. [13]. Стиль-Ленин - это случай диссеминации, враждебности между Я и Другим (всеми другими), когда отсутствует единство, когда никто ни с кем не согласен, ни в какой момент, ни в каком месте. Тотальная полисемия взглядов, чувств, настроений апреля 1917 г. может быть трагической характеристикой этого периода жизни Ленина. Впрочем, в этот момент он не был человеком трагедии, это был человек аффектов.
«Апрельские тезисы» - это первое публичное выступление Ленина перед массой пролетариев. Ни один политик не может не учитывать желания массы, он устремляется вслед за ее желаниями, артикулирует их, управляет, манипулирует. Происходит не столько борьба за субъекта, сколько борьба за признание. Другой субъект (вождь) является носителем обращений, предписаний, увещеваний и пр. Для него характерен призыв, а не диалог. Диалог возможен между субъектом (индивидуализированной массой, как на партийном собрании) и большим Другим. Когда нет субъектов, Другой лепит из присутствующего множества некое подобие сущего, суррогат субъективности. Известно, что слушатели гордились, когда их называли авангардом, красой и гордостью революции. Вождь должен быть признан массой, власть - это борьба за признание, только признание массы конституирует вождя, и потому он должен выговорить, артикулировать то, чего хочет толпа.
Воображаемое, оторвавшись от субъекта речи (стиль-Ленин), устремилось вслед желанию толпы -мир, хлеб, земля без границ, без сроков, без условий, без средств. Справедливости ради следует сказать, что в истории бывают такие моменты, когда все откладывается: во время войны, эпидемий, террора и пр. Своеобразием того периода (апрель 1917 г.) была особого рода отложенность бытия - отложенность в пользу желания. Языком желания не мог быть апофатический дискурс, а только перформатив - лозунг, крик, жест. Ж. Деррида точно подметил упрощенное смысловое наполнение жеста, его неопределенность в отношении объекта, ограниченность восприятия, доступность для взгляда [14, с. 410]. Когда жест не может указать на реальные объекты, он становится пустым. Жест руки возбуждает внимание, но в отсутствие объекта, на который он указывает, становится опасным, потому что способен притиснуться к негодным объектам. Если масса «бессубъектна», инертна в своем jouissance , она позволяет любому другому, всякому желанию захватить ее и стать предметом вожделения. Желание мировой революции и разграбление винных погребов Эрмитажа не различимы в своем временении, т. е. они могут быть одномоментными. Повсеместный грабеж становится восполнением немедленного удовлетворения желания, ибо вся сила человека заключена в действии его рук, а когда нет достойных объектов, он применяет их неосмотрительно, неловко, зачастую преступно. Зинаида Гиппиус в «Синей книге», Иван Бунин и другие отмечали бессмысленную дикость первичных аффектов «экспроприаторов». Кто же «развязал им руки»? Стиль-Ленин. Его сущностной характеристикой является опора исключительно на бесконечное, волевое усилие, напряженное преодоление всех помех и препятствий. В таком случае эксцессы воли вполне вероятны и допустимы, как и их последствия - гигантская усталость авангарда, бессмысленная жестокость, алкоголизация, наркотики и т. п.
Выбор в пользу бесконечного субъекта доказывает выдвинутая Троцким и поддержанная соратниками по партии идея перманентной революции, революции без конца. Бесконечный субъект (как Иисус воскрешения) отрицает существо конкретно-исторического субъекта, минимизирует его настоящее в пользу будущего. Захваченность будущим и отмена настоящего является характеристикой временения всего исторического периода русского социализма. Заметим только, что депрессивная масса дезертиров, вооруженных и голодных людей не способна к отсроченному осуществлению желаний. Желание - это такое вожделение абсолютного - хлеба, вещей, средств жизни, которое требует безотлагательного удовлетворения тотчас же, немедленно. Сравним с сегодняшним компетентным потребителем: он требует удовлетворения желания немедленно, безотлагательно, а банки услужливо предлагают кредиты, причем реклама делает акцент на скорости предоставления кредита, пока желание не канализировано, не связалось с какими-то иными объектами. Позицию связи желания и кредита профессионально прокомментировал Ж. Бодрийяр в книге «Система вещей» [15].
Авангардистский революционный проект выступил как раз в роли беспроцентного кредита: революция желает абсолютного… И дальше. Буржуа способен существовать в топике «отсроченного» желания, он может его накапливать и откладывать впрок, по-видимому, идеалом человека-буржуа являются банки, инвестиционные фонды, ценные бумаги и пр. Авангардный субъект мыслит себя в будущем, в котором завершится обобществление: все станет общим, не будет денег, полиции, государства. Из всей этой мешанины у пролетария возникает жажда неограниченного потребления «здесь и сейчас». Отсюда проистекает лозунг перформатива «Грабь награбленное!»
Следует более подробно разобраться в способности символизировать «желающее массы» посредством лозунгов и призывов. Внезапный переход от желания к воображаемому - мировой революции - никогда не происходит радикально. Одна часть желания массы успешно переводится в революционного субъекта (разумеется, наличие фанатиков никто не отрицает), а часть материальной жизни субъекта - глубинная основа души крестьянина-собственника - остается досубъектной, дореволюционной. Наличие остатка в виде одержимости вещественным объясняет природу аффектов присвоения. Одна часть коммунитарной души повинуется лозунгам революции о братстве, равенстве, справедливости и отдается вождю, масса отдает собственное бытие в его пользование, но остаток не устраним. Быть революционером, человеком труда или оставаться эгоистом и собственником? Это ложный выбор, его попросту нет. Вождь артикулирует единственный выбор - мировая революция во всемирном масштабе. Желание массы оказывается урезанным за счет символизации, возможен только один вариант. Принуждение к выбору организует потоки желания, уменьшает сумятицу разбросов «желающего-Я», упорядочивает массу бессмыслицы, но урезает полноту целого, упрощает и опустошает бытие субъектом. От эпохи такого рода «не-до-субъектности» остался Андрей Платонов с рыцарем революции Ко-пенкиным и его дамой сердца Розой Люксембург.
Авангардистский субъект не терпит одиночества: грабить можно только сообща, тогда как отсроченное желание требует тишины, а инвестирование в облигации и т. п. - уединенности и тайны. Сообщество массы без индивидуации тяготеет к простым лозунгам, слоганам, упрощение касается также жестов, выражений лиц и т. п. Сегодня можно пристально вглядеться в лица тех, кто слушал выступление Ленина на Финляндском вокзале в Петербурге: убогая простота лиц и облика большинства, серость, размытость индивидуального. Остановил взгляд один только солдат, который с видом полного безразличия к настоящему опирается на винтовку, как на грабли, и смотрит куда-то с полной отстраненностью от настоящего. Это и есть «не-до-субъект», уже не крестьянин и еще не авангард.
Книга Ленина «Государство и революция» инструктирует, как действовать в революции. Инструментальность мышления является характеристикой стиля-Ленин. Инструкции касаются того, как действовать при захвате власти, как правильно распорядиться и воспользоваться тем, что накопила русская цивилизация в процессе тяжелого, медленного, целенаправленного труда: захватить почту, телеграф, телефон, железные дороги, банки, заводы, фабрики, землю. Нигде Ленин не пишет о необходимости труда, как-то лишь вскользь упоминается о зарплате чиновников не выше оплаты труда квалифицированного рабочего. Этот лозунг содержится уже в «Апрельских тезисах». Авангардистский проект отрицает труд (в этой части стиль-Ленин противоречит Марксу) и демонизирует экспроприацию.
Русская революция - это месса дьявола, а не прагматика протестантской программы Маркса о всеобщем господстве труда. Забота об электрификации страны, необходимости поддерживать культуру и образование, организовать учет и контроль в народном хозяйстве, ограничить содержание непроизводительного класса - бюрократии - появятся у Ленина в его последних статьях, это, по-видимому, и станет завершением перформатива стиль-Ленин.
Для перформативного дискурса истина не важна, ибо она вырабатывается только в ходе длительной критики и проверки, требует научного эксперимента и пр. В теоретической работе о государстве Ленин делает попытки научной аргументации с опорой на аналитику Маркса, опыт Парижской коммуны и др., что делает ее дискурсом апофатики. Стиль-Ленин как перформатив требует повторения одного и того же, без всяких аргументов: нет войне, нет Временному правительству, нет Учредительному собранию и дальше... по ходу «Апрельских тезисов». Важна не истина, а победа в споре, в ходе постоянной жесткой распри идея-проект не уплотняется в части ее аргументации, а только догматизируется, упрощается. Благодаря победе в споре проект приобретает характер догмы, вытесняет иные попытки поиска истины и занимает ее место на многие десятилетия. На характер перформатива влияют личные качества его субъекта, стиль индивидуализируется под влиянием политика, вождя, идеолога и др. Ленин был известным мастером ссоры, жесткая, подчас грубая полемика, жажда победы в соперничестве сопровождали его на всем протяжении карьеры политика и вождя. Постоянный тренинг спора он практиковал во время эмиграции, издавая газету «Искра», отвечая на письма соратникам из России. Преувеличенность в полемике, перевод спора в ссору - это философия «подполья», последствия замкнутости той среды, в которой жил Ленин, оторванности от знания того, как на самом деле обстоят дела в России - известно, что Ленин узнал о Февральской революции из газет. Профессиональными навыками распри, предательства владели многие члены первого ленинского Совнаркома, т. е. стиль-Ленин не только индивидуализирован, но и обладает способностью типизации. Все эти предательства и раскаяния (Зиновьев, Каменев и пр.), весь этот полемический дискурс восторга и отчаяния («Завещание» Бухарина), опирающийся на аффекты, оказался непригоден для новых условий «строительства социализма в одной, отдельно взятой стране». Он был вычищен и заменен стилем-Сталин, новым философским словарем под редакцией другого вождя. Впрочем, следы полемического стиля сохранились в публичных выступлениях Сталина на съездах партии, что обнаруживает признаки сходства. Но различия более существенны, на чем мы не будем останавливаться.
Стиль-Ленин опирается на речь, жест и некоторые фетиши-вещи. Речь идет о ленинской кепке. Она случайно притиснулась вместо буржуазного котелка, в котором Ленин вышел на перрон Финляндского вокзала. Необходимость идентифицироваться с массой, сойти за «своего» заставила политика переменить форму головного убора. Стиль-Ленин - это двойной жест. Первый - отрицание буржуазности: котелок, шерстяное пальто, галстук с заколкой, жилетка и т. п., а второй - это кепка, куцее пальтишко, полувоенный френч с карманами, как у пролетариев. Кепка - это осознанная попытка усилить речь, перехватить угасающее воздействие брошенных в толпу тезисов, закрепить внимание. Дело в том, что в перформативную речь нельзя вмешаться, она должна длиться бесконечно долго, заметим, что некоторые речи фюрера продолжались около 6 часов кряду. На долю слушателей остается одно - слушать, внимать, увлекаться, ликовать, плакать, т. е. аффектировать. В аффект, как известно, впадают как сам говорящий, так и слушатели. Публичная речь оратора-мастера - это чуть ли не единственное узаконенное разрешение для массы впадать в аффекты. Соблазн аффектов известен по средневековым казням и сожжению ведьм, эту событийность исследовали М. Фуко, Р. Жерар, Р. Куайя и др.
Перформативный дискурс не допускает усложнения формы, неумение ясно и отчетливо формулировать тезисы, произносить лозунги (Е. Гайдар как политик был крайне непопулярен) приводит к отказу массы участвовать в проекте, будь то революция, коллективизация, перестройка и др. Там, где перформатив не достигает простоты, ясности, мгновенной понятности, он проваливается в неосознаваемое и замещается мифологемами. В «Апрельских тезисах» Ленина не было конкретных лозунгов о мире, земле, фабриках, они заняли место вытесненного, того, что не было понято и замещено вариантом отклика этой массы.
Чего хотел Ленин? Ничего кроме власти. Но не такие лозунги, как «Вся власть Советам рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов», понесли крестьяне в свои деревни, а рабочие на заводы. Стиль-Ленин был ориентирован на мгновенное понимание, он притиснулся к желанию коллективного бессознательного, а потому энергия порыва была перехвачена до ее рассеяния. Долгое, тщательное обоснование хорошо для кабинетов, но не для площадей, мелочная дескрипция в духе феноменологии увеличивает энергию рассеяния желания, в том числе желания знать. Энергия порыва против рассеяния мысли - это преимущество и граница перформативного дискурса. Проявления чистой воли хорошо известны немецкому духу, а также не чужды природе русского революционного бунта. Б. Пастернак в романе «Доктор Живаго» в образе Стрельникова философски точно описал существо перформатива, сказалась выучка марбургского студента.
Чем может управлять преформатив, какими объектами? Сложными объектами, такими как справедливость, совесть, благо, можно управлять только герменевтически, истолковывая, интерпретируя, использовать герменевтический круг, переходя от целого к части и от общего к отдельным частям. Перформатив для этого не годится. Герменевтические объекты чрезвычайно сложны, что продемонстрировали Сократ и Платон в многочисленных диалогах. Даже любовь -чего, казалось бы, проще? - в диалоге «Пир» предстает как сложный объект, востребованный к интерпретации до наших дней (см., например, [16].).
Авангардистские проекты чрезвычайно просты, в языке они не требуют индикатива, вполне можно удовлетвориться императивом, никакой описательности, прочь прилагательные, предлоги, подойдет любой упрощенный язык, воровская речь, уголовный жаргон и т. п. Все годится, чтобы удержать энергию порыва или спровоцировать желание. Даже если существуют объекты, способные по своей природе сопротивляться упрощению, такие как бытие, человек, сущее, существование и др., их следует поместить в стихию перформатива, где мысли не за что зацепиться, ибо в нем работает непререкаемый императив лозунга, призыва, приказа и пр. Скорость апофатического дискурса уступает в скорости перформативу, продумывание мысли делает ее точной, а перформативный дискурс часто выражается неловко, грубо, но вовлекает суггестией. Сестра Ленина А.И.Елизарова опознала оригинальную статью Ленина среди переписанных по наличию грубых бытовизмов: «сапоги всмятку», «сплошной вздор», «убитая паническим бегством армия» и др. [17, с. 57]. Первые российские революционеры были прекрасными ораторами, трибунами.
Почему возможен авангардистский проект как, возможно, утопическое сознание? Любой проект или утопия возникают в такой реальности, которая не до конца подверглась уплотнению со стороны труда, вещей, денег, быта и пр. Андрей Платонов с присущей ему гениальностью сумел совместить картины нищеты пролетарского быта с возможностями русского языка выразить это упрощение жизни. В реальности возникли некоторые пустоты, которые образовались по линиям разрыва с предыдущим опытом или там, где этот опыт вовсе отсутствовал. Линии связи были разорваны какими-то катастрофическими событиями либо вовсе исчезли. Что означают эти линии связи? Это среда, отношения, говоря современным языком, - коммуникации, сети. Сегодня мы живем в сетевом обществе, пронизанном бесконечными связями, любой нажим клавиши на мониторе, даже ошибочный, включает человека в информационное поле, вводит в стратегию обмена «со-общающихся».
Прокладывание проекта, как, впрочем, утопии и мифа, проходит по линиям пустых мест: то, что было вычищено какими-то катастрофическими событиями, замещается содержанием вытесненного в упрощенной форме. Вытеснение реального, возвращение вытесненного в виде симптома хорошо продумано в психоанализе. Возможно ли набрасывание такого рода аналитики на процессы функционирования речи, языка, социума? С оговорками, по-видимому, это может дать теоретический результат.
Кем стал русский крестьянин во время Первой мировой войны? Солдатом, сменившим плуг на винтовку. Крестьянская душа изменилась, очерствела, ожесточилась из-за постоянной тревоги, боли, страха смерти, т. е. стала пустой для созидания, труда. П. Бурдье, наш современник, пишет: «Война превращает социальные реальности в tabula rasa, она перемалывает, расщепляет традиции, сообщества, деревню, клан или семью» [18, с. 163]. Пустотное бытие может обер- нуться фундаментальной скукой «не-деяния» или одержимостью введения революции немедленно, сегодня. Преодоление пустотности субъекта насилием революции – вполне приемлемый вариант замещения живого мертвым. Живой крестьянский труд многими сотнями связей укореняет его в народности, традиции, языке, предании, говоре, диалекте и пр. Язык революции для него – пустой, мертвый, чужой.
Р. Барт, современный семиотик, отмечал пустотность левого революционного мифа в отличие от буржуазного. Характеризуя плотность буржуазного мифа, он писал: «Правосудие, дипломатия, светские разговоры, погода, уголовная хроника, волнующие перспективы женитьбы знатных особ, кухня, одежда – все, что связано с нашей обыденной жизнью, может стать мифом» [19, с. 112]. Живым называется миф, который вовлекает в игру смыслов все слои населения от господствующих классов до промежуточных слоев и люмпенов. Революционный язык не может быть мифологическим. Левые мифы, языки всех угнетенных, пролетариев, жителей колоний бедны по своей природе, в них нет главного – выдумки, игры, в нем есть некоторая натянутость, ощущается привкус лозунга. «Революционный миф бесплоден: что может быть худосочнее, чем сталинский миф? <…> Мера их нужды является мерой их языка. Речь угнетенных реальна, как речь лесоруба», – пишет Р. Барт [20, с. 117]. Поэтому приказ зачастую превращается в крик, срывается на брань и всяческую нечленораздельность. Революционный миф и так беден, а будучи помещенным в поле перформативного дискурса, он становится пустым. Упрощение никогда не бывает усилением живого целого, объект с помощью лозунга доводится до уровня «органоуправления» и манипулирования. Целое гибнет под давлением инертной материи бессознательного – аффектов ненависти, зависти, злобы.
Что является концом перформативного дискурса стиль-Ленин? Ленин удерживал власть около пяти лет – с начала 1918 по 1923 г. Последние работы вождя – это призыв к деятельности, принуждение к тому, чтобы создавать, реорганизовать, улучшать и пр. Ликование от победы отменяется, в стране царят разруха, голод, гражданская война, беспризорность. Неотложными мерами становятся созидание, тяжелый каждодневный труд, дисциплина, учет и контроль. Порядок и жесткая дисциплина вместо бездеятельности – таковы задачи исторического момента. Изменился ленинский стиль письма: измельчала тематика, появились мелочность, бытовые словечки, грубоватый юмор, брань, наделение прозвищами, как будто вождь понял, что полет воображаемого необходимо заземлить. Кажется, «кремлевский мечтатель» становится человеком реальности при угрозе потерять все, прежде всего власть. Вступить в реальное, когда прогрессирует болезнь, нарастает ощущение беспомощности, невозможно, угрозы кажутся неимоверными, отсюда – тревога, страх, торопливость в выговаривании необходимого, своевременного. Могущество перформатива исчерпано, следует поступать как должно, как необходимо, но никто не слушает. Стиль-Ленин умер еще до физической смерти его носителя. Мочь как должно – вовсе не то, что «волить» нечто невозможное.
Попытка встроить людей в стратегию порядка, управляемости не удается. За время революции многие люди утратили связь с трудом, местом, средствами деятельности. Вождь остался тем же, но, будучи подлинным субъектом, он осознал, что исторический момент авангардистского усилия себя исчерпал. Масса за годы революции перешла в блуждающий способ существования (номады революции), движимая фантазиями, утопиями, мифологемами, превратилась в массу рассеяния. Планирующе-рассчитывающий призыв вождя к учету, контролю не совпадал с существованием массы, лозунги уперлись в пустоту. Вождям кажется, что им обеспечено постоянное признание массы, тогда как они всесильны, пока выговаривают в перформативе то, чего хочет масса. Имя «пролетарий» было обозначением способа «бытия-вместе» той множественности, производной от войны и воспроизводящей себя незаконно, которая исчерпала себя волей к разрушению, проект мировой революции не получил поддержки. Необходимо было строить социализм, в «одной, отдельно взятой стране». Возник запрос на рабочего, инженера, компетентного управленца, трудящегося, для формирования которого потребовалась большая работа по воспитанию, образованию, развитию культуры.
Выводы по проведенному исследованию заключаются в следующем:
– Стиль-Ленин принадлежит к формациям перформативного дискурса. Рядом с ним складывался перформатив Льва Троцкого, еще более жестокий и насильственный. Они оба смогли в бытии языка выразить желание массы, когда один говорит за миллионы, обеспечить ее рост, удержать от распада.
– Перформатив стиль-Ленин оказался эффективным, потому что он внедрился в чистое социальное пространство, где массовидное тело авангарда заняло место деградировавших социальных структур – армии, полиции, бюрократии и др.
– Призывы перформативного дискурса не получают ответа, пространство социума гасит отклик, если в нем не образуется пустоты, безвременье, безбытность. Следует отметить особую роль войны в опустошении бытия.
– Необходимо взаимное отражение авангарда и вождя, что усиливает действенность субъекта перформатива, революционная масса под воздействием лозунгов, призывов, приказов и т. п. подчиняется ритму все возрастающего числа тех, кто слушает и слышит свое.
– Стиль-Ленин начал отсчет революционному событию, превратил его в интенсивность единого действия, объединив собственную волю к власти с жизненным порывом массы.
– Стиль-Ленин принадлежит к «горячим» средствам перформатива: Ленин не боится массы, он ее провоцирует, вызывает к жизни, он оказался способен управлять ею, превратить в революционный проект.
Ссылки:
-
1. Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства // Неприкосновенный запас. 2011. № 3. C. 14–58.
-
2. Гадамер Г. Актуальность прекрасного / пер. с нем. А.В. Михайлова. М., 1991. 368 с.
-
3. Там же. С. 54.
-
4. Агамбен Дж. Что такое повелевать? / пер. с итал. и примеч. Б. Скуратова. М., 2013. 73 с.
-
5. Подорога В.А. Топология страсти. Мераб Мамардашвили: современность философии. М., 2020. 352 с.
-
6. Жижек С. 13 опытов о Ленине / пер. с англ. А. Смирнова. М., 2003. 256 с.
-
7. Маринетти Ф.Т. Технический манифест футуристической литературы [Электронный ресурс]. URL: https://www.wdl.org/ru/item/20031/manifest (дата обращения: 10.03.2021).
-
8. Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 34.
-
9. Деррида Ж. Призраки Маркса / пер. с фр. Б. Скуратова. М., 2006. 256 с.
-
10. Кожев А. Указ. соч.
-
11. Митчелл У.Дж.Т. Чего на самом деле хотят картинки? / пер. с англ. Д. Потемкина // Художественный журнал. 2015. № 94. С. 30–40.
-
12. Петровская Е. Возмущение знака. Культура против трансцендентного. М., 2019. 288 с.
-
13. Ленин В.И. Полное собрание сочинений : в 55 т. 5-е изд. М., 1958–1965. Т. 33: Государство и революция. М., 1962. 433 с.
-
14. Деррида Ж. О грамматологии / пер. с фр. Н. Автономовой. М., 2000. 512 с.
-
15. Бодрийяр Ж. Система вещей / пер. с фр. С.Н. Зенкина. М., 2020. 256 с.
-
16. Бадью А. Что такое любовь? [Электронный ресурс] / пер. с фр. С. Ермакова // Новое литературное обозрение. 2011. № 6. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/112_nlo_6_2011/article/18426 (дата обращения: 11.03.2021).
-
17. Эйхенбаум Б. Основные стилевые тенденции в речи Ленина // Леф. 1924. № 1. С. 57–70.
-
18. Рансьер Ж. На краю политического / пер. с фр. Б.М. Скуратова. М., 2006. 240 с.
-
19. Барт Р. Миф сегодня // Избранные работы: Семиотика. Поэтика / пер. с фр.; под ред Г.К. Косикова. М., 1994. С. 72–130.
-
20. Там же. С. 117.
Редактор, переводчик: Сергейчик Людмила Ивановна
Список литературы Стиль-Ленин: о возможностях и границах перформативного дискурса
- Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства // Неприкосновенный запас. 2011. № 3. C. 14-58.
- Гадамер Г. Актуальность прекрасного / пер. с нем. А.В. Михайлова. М., 1991. 368 с.
- Там же. С. 54.
- Агамбен Дж. Что такое повелевать? / пер. с итал. и примеч. Б. Скуратова. М., 2013. 73 с.
- Подорога В.А. Топология страсти. Мераб Мамардашвили: современность философии. М., 2020. 352 с.
- Жижек С. 13 опытов о Ленине / пер. с англ. А. Смирнова. М., 2003. 256 с.
- Маринетти Ф.Т. Технический манифест футуристической литературы [Электронный ресурс]. URL: https://www.wdl.org/ru/item/20031/manifest (дата обращения: 10.03.2021).
- Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 34.
- Деррида Ж. Призраки Маркса / пер. с фр. Б. Скуратова. М., 2006. 256 с.
- Кожев А. Указ. соч.
- Митчелл У.Дж.Т. Чего на самом деле хотят картинки? / пер. с англ. Д. Потемкина // Художественный журнал. 2015. № 94. С. 30-40.
- Петровская Е. Возмущение знака. Культура против трансцендентного. М., 2019. 288 с.
- Ленин В.И. Полное собрание сочинений : в 55 т. 5-е изд. М., 1958-1965. Т. 33: Государство и революция. М., 1962. 433 с.
- Деррида Ж. О грамматологии / пер. с фр. Н. Автономовой. М., 2000. 512 с.
- Бодрийяр Ж. Система вещей / пер. с фр. С.Н. Зенкина. М., 2020. 256 с.
- Бадью А. Что такое любовь? [Электронный ресурс] / пер. с фр. С. Ермакова // Новое литературное обозрение. 2011. № 6. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/112_nlo_6_2011 /article/18426 (дата обращения: 11.03.2021).
- Эйхенбаум Б. Основные стилевые тенденции в речи Ленина // Леф. 1924. № 1. С. 57-70.
- Рансьер Ж. На краю политического / пер. с фр. Б.М. Скуратова. М., 2006. 240 с.
- Барт Р. Миф сегодня // Избранные работы: Семиотика. Поэтика / пер. с фр.; под ред Г.К. Косикова. М., 1994. С. 72-130.
- Там же. С. 117.