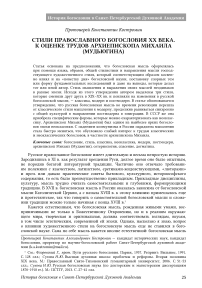Стили православного богословия ХХ века. К оценке трудов архиепископа Михаила (Мудьюгина)
Автор: Протоиерей Константин Костромин
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: История богословия в Санкт-Петербургской Духовной Академии
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья основана на предположении, что богословская мысль оформлялась при помощи языка, образов, общей стилистики и направления мысли господствующего художественного стиля, который соответствующим образом косвенно влиял и на «повестку дня» богословской науки, постановку спорных тем или форму фундаментальных исследований и даже на выводы, которые делал тот или иной автор. Стиль мышления и выражения своих мыслей неодинаков в разные эпохи. Исходя из этого утверждения автором выделены три стиля, которые сменяли друг друга в ХIХ–ХХ вв. и повлияли на изменения в русской богословской мысли, — классика, модерн и постмодерн. В статье обосновывается утверждение, что русская богословская мысль ко времени революции перешла от классического стиля мышления к модерну, продолжив развиваться синхронно с общей культурой в направлении постмодерна в эмиграции. В СССР же она приобрела специфические формы, которые можно охарактеризовать как неоклассику. Архиепископ Михаил (Мудьюгин) был одним из наиболее ярких богословов эпохи неоклассики. С падением коммунизма в России парадигма мышления стала быстро меняться, что обусловило слабый интерес к трудам классических и неоклассических богословов, в частности архиепископа Михаила.
Богословие, стиль, классика, неоклассика, модерн, постмодерн, архиепископ Михаил (Мудьюгин), сотериология, спасение, догматика
Короткий адрес: https://sciup.org/140220797
IDR: 140220797
Текст научной статьи Стили православного богословия ХХ века. К оценке трудов архиепископа Михаила (Мудьюгина)
оформлялась при помощи языка, образов, общей стилистики и направления мысли господствующего художественного стиля, который соответствующим образом косвенно влиял и на «повестку дня» богословской науки, постановку спорных тем или форму фундаментальных исследований и даже на выводы, которые делал тот или иной автор2. Стиль мышления и выражения своих мыслей неодинаков в разные эпохи.
Однако в центре внимания в нашем случае будут труды определенного богослова, заслужившего определенную известность во второй половине ХХ в., — речь пойдет о богословском стиле архиепископа Михаила (Мудьюгина), бывшего ректора и многолетнего профессора Ленинградской (затем — Санкт-Петербургской) духовной академии3. Жизненный путь будущего владыки начинался как путь церковного человека, хотя он не был потомственным священнослужителем: по инициативе бабушки, очень верующего церковного человека, в возрасте 9‒10 лет Михаил Мудьюгин начал изучать Закон Божий в детской школе при Александро-Невской лавре, работавшей под общим руководством наместника Лавры архимандрита Николая (Ярушевича), будущего митрополита Крутицкого и Коломенского. В это же время он начал прислуживать в качестве псаломщика и певца в храме Святителя и Чудотворца Николая и иконы Божией Матери Скоропослушницы на Песках, а после перехода клира в обновленчество по настоянию бабушки нес послушание на подворье Афонского Свя-то-Пантелеимонова монастыря.
В последних классах школы, испытывая унижения от одноклассников и школьного руководства за свою веру, Михаил начал посещать молодежный христианский кружок, в котором он нашел свою будущую жену Дагмару (в православии — Марию) Шрейбер (они поженились в 1932 г.). За участие в этом кружке в январе 1930 г. Михаил Мудьюгин был арестован и содержался в предварительном заключении до сентября 1930 г., когда ему вынесли приговор — три года лишения свободы условно4, что позволяет назвать его исповедником веры.
В тяжелые 1930-е гг. потерявший право получать образование в университете, Михаил испробовал разные виды деятельности: был чернорабочим на заводе «Красный путиловец» и лаборантом в Ленинградском научно-исследовательском дизельном институте. К февралю 1933 г. Михаил Мудьюгин окончил вечернее отделение Института иностранных языков, одновременно посещая занятия на оркестровом факультете Ленинградской консерватории по классу скрипки и фортепиано. С 1932 г. Михаил Николаевич Мудьюгин с семьей сменил много мест работы и жительства: город Губаха на Урале, Новгород, Чудово, Пушкин, Свердловск, Новосибирск — вот неполный перечень тех мест, где ему приходилось жить. Преподавал различные предметы в школах, в должности инженера-теплотехника он трудился на уральских заводах в годы Великой Отечественной войны. В конечном итоге семья Му-дьюгиных смогла вернуться в Ленинград в 1947 г., где Михаил Николаевич, работая и преподавая в Центральном котлотурбинном научно-исследовательском институте и Ленинградском горном институте, смог не только получить еще одно высшее образование — энергетический факультет Заочного института металлопромышленности, но и защитить кандидатскую диссертацию.
Но все эти годы его не оставляло желание, появившееся еще в раннем детстве, — стать священнослужителем. Едва поселившись в Ленинграде, Михаил Николаевич начал посещать Преображенский собор, где в начале 1950-х гг. вместе со священником Михаилом Гундяевым (отцом Святейшего Патриарха Кирилла) изучал семинарскую программу, готовясь к рукоположению в сан. Рукополагать его хотел ленинградский митрополит Григорий (Чуков), но не успел, а его преемник митрополит Елевферий не решился: рукоположение доцента Горного института сулило неприятности.
Проблему разрешило давнее, еще с детского возраста, знакомство с митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем (Ярушевичем), который рекомендовал Михаила Николаевича епископу Вологодскому Гавриилу (Огородникову). 21 сентября 1958 г. Михаил Мудьюгин был рукоположен в диаконы, а 25 сентября — в священники. Новопосвященный иерей Михаил, уйдя с гражданской работы, стал служить в кафедральном храме Вологды, где впоследствии и закончилась его святительская деятельность. Став священником, отец Михаил сразу же взялся за собственное духовное образование и за шесть лет, с 1959-го по 1965 г., сумел закончить Ленинградские Духовные Семинарию и Академию и защитить еще одну, теперь уже церковную, кандидатскую диссертацию5.
Овдовевший в годы учебы в Академии, отец Михаил после ее окончания по приглашению митрополита Никодима (Ротова) снова перебрался в Ленинград и начал преподавать в духовных школах латинский язык и историю западных исповеданий. 13 октября 1966 г. по представлению митрополита Никодима Указом Святейшего Патриарха Алексия I доцент протоиерей Михаил Мудьюгин был назначен на должность ректора Санкт-Петербургских духовных школ, а через три недели, 31 октября 1966 г., о. Михаил Мудьюгин был пострижен митрополитом Никодимом в монашество с сохранением имени Михаил и еще через неделю в Троицком соборе Александро-Невской лавры был рукоположен во епископа Тихвинского, викария Ленинградской епархии. Однако ректорство новопосвященного епископа продлилось недолго. 30 июля 1968 г. решением Священного Синода Преосвященный Михаил, епископ Тихвинский, ректор ЛДА, был назначен на Астраханскую и Енотаевскую кафедру.
В течение четырех последующих лет владыка работал над магистерской (сегодня приравненной к докторской) диссертацией, в которой он решал жизненно важный для себя вопрос: каковы возможности человеческого спасения? Через несколько лет после защиты начался длительный, около 30 лет, период его профессорской деятельности в Духовной академии, закончившийся буквально перед смертью. В сентябре 1977 г. владыка Михаил был возведен в сан архиепископа, в конце 1979 г. был перемещен на Вологодскую и Великоустюжскую кафедру, где пробыл до февраля 1993 г. Так он вернулся в кафедральный вологодский собор, в котором он когда-то стал священником и впервые самостоятельно совершил Божественную литургию. С конца 1980-х, после потепления отношений с церковью, владыка Михаил читал лекции по основам православной веры в высших учебных заведениях Вологды. В последние годы жизни он ездил в Великий Новгород, чтобы прочитать лекцию в местном университете или на катехизаторских курсах при Софийском соборе. Бывал в музее Достоевского в Старой Руссе, преподавал в гимназии «Петершуле» и участвовал во встречах в Медицинской академии постдипломного образования. Скончался архиепископ Михаил 28 февраля 2000 г. в Санкт-Петербурге и погребен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
Архиепископ Михаил оставил большое письменное наследие, в значительной части изданное. Прежде всего, следует упомянуть его магистерскую (в то время практически аналог докторской) диссертацию «Православное учение о спасении», изданную в 2010‒2012 гг.6, а также учебное пособие «Основное богословие», готовившееся им на протяжении нескольких десятков лет и ставшее результатом его изучения и преподавания данной дисциплины в ленинградских духовных школах7, и монография «Русская православная церковность», являющаяся аналогом аналитических изданий публицистического характера о православной церковной традиции, характерных для рубежа 1980‒1990-х гг.8 Кроме того, в течение жизни было издано много статей владыки Михаила, преимущественно догматического характера, а также касающихся вопросов православно-лютеранских собеседований, и газетных публикаций конца 1980–1990-х гг. Был издан сборник его изречений и обзор оригинальных епархиальных циркуляров9.
Исследований, в которых анализировались бы его догматические, религиоведческие, церковно-исторические или публицистические работы, очень мало10.
Однако задача данной статьи — не в анализе взглядов архиепископа Михаила, а в попытке охарактеризовать стиль его мышления, его богословской мысли, особенно в связи и по сравнению с тем, как она себя проявляла и развивалась в течение ХХ — начале ХХI в. Его имя следует традиционно назвать наряду с такими признанными специалистами в области богословской сотериологической мысли, как архим. (впоследствии Патриарх) Сергий (Страгородский), прот. Петр Гнедич, прот. Ливерий Воронов, прот. Иоанн Мейендорф, епископ Каллист (Уэр) и др., причем его магистерская диссертация по своему масштабу приближается к известной работе «Православное учение о спасении» архим. Сергия (Страгородского), бывшей также его магистерской диссертацией.
Перечисленные выше и иные авторы статей и книг по сотериологии имеют свою динамику публикационной активности и цитируемости в ХХ в. Так, написанная в 1895 г. магистерская диссертация архим. Сергия (Страгородского) в течение всего ХХ в. читалась практически всеми богословами-систематиками, чего нельзя сказать о статьях и книгах его современников на эту тему11. В конце 1920-х гг. начала формироваться новая, эмигрантская богословская школа, которая развивалась параллельно с греческим богословием. И вот сегодня можно наблюдать, что в богословской мысли доминируют иностранные богословы ХХ в. — эмигранты и их ученики: архим. Киприан (Керн), прот. Николай Афанасьев, прот. Сергий Булгаков, архиеп. Василий (Кривошеин), свят. Николай Сербский, прот. Александр Шмеман, прот. Иоанн Мейендорф, митр. Антоний Сурожский, еп. Каллист (Уэр), митр. Иоанн (Зизиулас), Христос Яннарас (авторы перечислены не по степени их популярности, а приблизительно по хронологическому принципу — по мере приобретения ими известности). Статьи же и работы отечественных богословов пользуются значительно меньшим вниманием, хотя работы прот. Петра Гнедича, архиеп. Михаила (Мудьюгина), архиеп. Михаила (Чуба), прот. Ливерия Воронова и некоторых иных по качеству не уступают иностранным богословским работам. В чем причина такого положения дел? Только ли в «политическом» тренде и предпочтении иностранного перед отечественным интеллектуальным продуктом? Последнее утверждение, безусловно, не беспочвенно. Современный богослов, особенно отечественный, обладает некоторыми чертами интеллигентно мыслящего человека — таков сегодня облик интеллектуала, признаваемого за такового12. Только ли в том, что в них действительно бьется живая мысль, а в работах богословов «схоластического» периода — нет? Думается, дело не только в этом.
Популярность заграничных богословов ХХ в., конечно, объясняется прежде всего их удивительной созвучностью эпохе. Если пытаться определить эту эпоху по форме художественного (а таковыми по определению являются и высшие формы богословского языка — гимнография и эортология13), то ХХ в. пережил смену, по крайней мере, двух эпох: эпоха модерна, начавшаяся в самом конце ХIХ в., сменилась постмодерном ближе к концу ХХ в. Перечисленные богословы-эмигранты были современниками эпохи зрелого модерна, их ученики — эпохи становления постмодерна. Пока априорное утверждение лежит в основе данной статьи: Советский Союз, шире — мировоззрение советского коммуниста, еще шире — мировосприятие советского гражданина были изначально построены на основах философии и эстетики модерна, мыслились как интернациональные, позитивистские, конструктивистские, однако ближе к середине ХХ в. советское мировоззрение стало феноменом, в котором модерн и классицизм пытались сблизиться и создать синтез, который можно назвать «неоклассикой» (например, так называемый «соцреализм», поствоенный социализм и проч.). Богословы, жившие и работавшие в духовных академиях после Великой Отечественной войны, воспитанные большей частью в ходе и после революции 1905‒1922 гг., пережившие становление советского менталитета и менявшиеся вместе с ним, стали богословами-неоклассиками. Самым ярким и самобытным из них был архиепископ Михаил (Мудьюгин).
Чтобы доказать это утверждение, необходимо проследить, как черты соответствующего стиля мышления и ощущения — классики, модерна и постмодерна — проявились в богословской мысли ХХ в. Пытаясь объяснить, в чем сочетаются богословие как мысль и стиль как форма выражения мышления, нужно сформулировать, в чем характерные особенности классики, модерна и постмодерна и продемонстрировать применение этих принципов на конкретных примерах.
Классицизм в ХIХ в. привел к созданию систематического (классифицированного) богословия как единой логико-научной дисциплины. Система в русском богословии создавалась практически с нуля, так как эпоха барокко оставила ряд трактатов на различные темы, однако в этом наследии не было систематических произведений, но и существовавшие «не работали» на создание системы. И тем не менее классицизм предполагал движение в рамках традиции (за неимением иных, традицией, развитой в русском богословии, стала традиция католического богословия14), как продолжения ее, так и развития, сохранения. Однако модерн идею продолжения традиции не перенял15.
Модерн основывался на актуализации богословских проблем и попытках найти практическое (этическое, политическое или иное) применение богословскому знанию, а воспринятый богословием схоластический сциентизм привел к началу ХХ в. на раздвоение богословия на теорию и историю богословия. Классическим примером такого разделения стали труды Адольфа Гарнака и Рудольфа Бультмана. Революционность подхода А. Гарнака была хорошо понятна современникам, почему его труды и вызвали такой бурный отклик в дореволюционной России16. Историческое богословие до революции в России корни пустить не успело, так что это типичное для модерна разделение развивалось в ХХ в. практически только на Западе.
Разумеется, развитие исторического ракурса привело к подъему патристики как дисциплины, когда контент-анализ сочинений того или иного отца практически перестал соотноситься с классическим представлением консенсус патрум, представляя собой все чаще «богословие» того или отца Церкви с выделением его особенностей, его вклада, даже его несогласия с другими как феноменологический прецедент. Оба эти подхода — историзм и феноменология — наиболее ярким образом отразились в трудах архиепископа Василия (Кривошеина) о Симеоне Новом Богослове и прот. Иоанна Мейендорфа о свят. Григории Паламе17. Выделение в святоотеческом наследии мистического направления как особого течения богословской мысли, противопоставление его системно-мыслящим богословам «золотого века» — это, безусловно, результат проникновения в богословскую мысль философии модерна18. Во второй половине ХХ в. в эмигрантском православном богословии стало складываться направление, которое может быть сопоставлено с историческим богословием, зародившимся в Европе в конце ХIХ в.19
Это новаторство в подходе к изучаемому материалу очень характерно для модерна. Модерн предполагал акцент на новизне (как последствие и даже проявление сциентизма, свойственное пока еще и нашей науке в целом) — на новых темах и ракурсах исследования, новизне подходов и методик, новизне мысли и фактов20. Такой актуализацией, новизной, пересмотром основ и практическим применением (в данном случае — в области межконфессиональной полемики) дышит главный сотериологи-ческий труд конца ХIХ в. «Православное учение о спасении» архимандрита Сергия
(Страгородского)21. ХХ в. заметно обогатил новизной богословскую мысль, однако в ее природе все-таки лежит сохранение и передача знания о Боге, поэтому богословская мысль становилась все более отвлеченной, «философичной» (в противовес течению модерна к применению знания на практике). Одним из сильных примеров такого отвлеченного, даже в какой-то мере безответственного богословствования являются «Дневники» прот. А. Шмемана22.
Постмодерн привел к распаду единого проблемного поля богословия на автономные области, которые все менее связаны друг с другом. Что типично для постмодерна, эти тематические области принципиально несходны с тематическим разделением богословия в классической парадигме — на триадологию, христологию, сотериологию и др. В ней выделились литургическое, системное, библейское богословия, причем употребление в данном случае множественного числа подчеркивает именно малую связанность этих областей применения богословского мышления друг с другом.
Богословие постмодерна основано на экзистенциализме, родственном персонализму констатацией субъективизма как данности, определяющей константу современного мировоззрения: истины нет, есть субъективные мнения23. Окончательный распад богословия на фрагменты в рамках эпохи постмодерна привел к полному отказу от консенсус патрум. Хотя этот принцип еще декларируется в учебных пособиях по богословию, фактически все уже смирились с тем, что консенсус трудно найти даже у двух-трех богословов одной эпохи, настолько все привыкли видеть в них своеобразие и искать в них уникальность. На повестке дня — появление нового богословско-философского синтеза, а вернее — дискурса, который сделает богословие еще более отвлеченным и превратит его только в «игрушку для ума»24.
Продолжая логику модерна, постмодерн предлагает видеть ценность не в новизне, а в оригинальности, необычности, даже эксцентричности25. Если мир классики завораживал совершенством формы, модерн — изыском формы, то постмодерн окончательно отказался соблазнять красотой формы и перешел к соблазнению содержанием26. Эксцентричность чаще всего проявляется в антитезе, парадоксе, иронии и инверсии, часто замешанной на эпатаже. Фраза «нравственное банкротство» немыслима в классической парадигме, но «своя» в постмодернистской. Инверсия «обратиться — это не значит приняться совершать подвиги. Это значит сдаться, капитулировать» эпатажна27. Парадоксальны постмодернистские лозунги «Вперед, к отцам» и «Назад, в будущее»28.
Если классическая мысль предполагала логическое конструирование как метод богословской работы мысли, модерн строился на (так или иначе) моделировании богословского знания (а именно моделированием можно называть исторические реконструкции богословских систем того или иного святого отца), то постмодерн строится на фантазировании29. Высокая ответственность богослова эпохи классики сменилась «ограниченной ответственностью» богослова эпохи модерна и привела к снятию ответственности богослова эпохи постмодерна. Идея модерна значительно более требовательна к согласию с идеей прогресса, в то время как постмодерн значительно большее значение придает актуализации имеющегося опыта.
Труды владыки Михаила выглядят классическими на фоне явлений модерна и постмодерна — они скрупулезно методологически и логически выверены. Каждый раздел начинается с общих представлений, с определения терминов и общих посылок, далее следуют изложение евангельского взгляда на предмет и многочисленные святоотеческие высказывания, демонстрирующие различные оттенки и широту взглядов, которые демонстрирует церковная богословская традиция. Иногда владыка приводит мнения католиков и протестантов, чтобы оттенить православную позицию по данным вопросам. При необходимости в его работах проводятся экскурсы в психологию, филологию, историю и даже химию ради получения наиболее объемного представления о предмете изучения30.
Труд архиепископа Михаила «Православное учение о спасении» настолько законченный и цельный, что его практически бесполезно читать с середины или с конца, нет смысла знакомиться с ним бегло и фрагментарно. Он обладает поистине классической завершенностью. В его «тектонике каждая последующая мысль органически вытекает из предыдущей и неотъемлемо связана со всем повествованием в целом. В книге нет ничего случайного, все взвешено, обдумано и определено к своему единственно верному месту. Перед нами редкий образец так называемой „долгой мысли“, могучий и ритмически неспешный и ровный поток которой концентрированно движется к итогу. Подобно баховскому контрапункту, автор выделяет из предмета исследования одну за другой самостоятельные проблемы, систематизируя их, рассматривая каждую многоаспектно и в их сложных взаимосвязях, а затем сводя пестрое многоголосье, последовательно и осторожно, к гармоническому обобщению. Последовательное и неспешное, в отрешении от бытовой суеты чтение, во время которого достигается главное — автор и читатель становятся как бы собеседниками, позволяет ощутить масштаб личности владыки Михаила»31.
Классическая мысль не требует новизны как непреложной характеристики нового научного труда, однако ее отсутствие все же более чем желательно. В чем же новизна «Православного учения о спасении» архиепископа Михаила? Повторяя вслед за архим. Сергием (Страгородским) предпочтение «нравственного подхода к проблеме спасения по сравнению с юридическим», архиепископ Михаил указывал, что стремление к освобождению кары за грехи и к награде за добродетель, ставших основой юридической теории искупления, являются основой и святоотеческого, и библейского учения о спасении. Иными словами, место теории искупления и ее значение в становлении православного богословия необходимо переосмыслить в позитивном ключе, чему и посвящена работа32. Цель и новизна сформулированы максимально корректно, логично и нейтрально. Через формулирование отношения к работе архим. Сергия (Страгородского) и обильное позитивное цитирование святоотеческой традиции архиепископ Михаил ставил себя в цепь сформировавшейся многовековой традиции православного богословствования. Это классическое формулирование мысли.
В своих работах архиепископ Михаил касался большого спектра вопросов как богословского, так и исторического, и культурного характера. Нет необходимости разбирать их все. Достаточно указать на метод его мысли. Написание и защита им диссертации на соискание ученой степени магистра богословия сделала эту тему одной из основных в его богословских исканиях. В современном богословии, основанном на философии модерна, в центре стоит субъективное желание человека получить оправдание, субъективное его же желание творить грех, его субъективный, внутренний поиск Бога (отсюда частое употребление местоимений «я», «мы», избегание безличных фраз и стремление подчеркнуть личностный контакт с Богом) и субъективное желание Бога оправдать, избавить от греха и наладить общение с данным конкретным субъективным человеком33. Субъективизм — основа философии модерна. Архиепископ же Михаил, напротив, избегал указания на собственные проблемы в отношениях с Богом. В его представлении проблема спасения носит онтологический характер, так как Бог надмирен, хотя и не оставляет надежды на спасение сотворенного Им мира. Поэтому спасение является принципом, доступным каждому, желающему идти этим, указанным Богом путем. Нет необходимости подчеркивать субъективизм в объективном принципе спасения: «...во Христе субъективная сотериология смыкается с объективной, ибо возможность спасения через Христа открылась нам в результате Его вочеловечения, земной жизни, учения, смерти и воскресения»34. Его логика может быть сведена к такой схеме. Принцип спасения основан на объективном для человека фундаменте — Откровении и любви Бога к людям, которая стала причиной рождения в мире Христа Спасителя. Человек на основании Откровения имеет возможность достичь обожения, которое и есть спасение и святость. Спасение, обожение, святость — универсальные понятия. Однако на пути к обожению лежит грех, также являющийся уделом всех и каждого и потому не нуждающийся в индивидуализации (грех каждый совершает самостоятельно, но святоотеческая мысль развивалась от частного греха к типологизации и выработке универсальных средств борьбы с ним). Средством борьбы с грехом является доброделание и церковная жизнь, заповеданная Богом, которые даруют благодать, приводящую к спасению35.
Для архиепископа Михаила нет разделения на историческое и системное богословие — оно цельно. Он исходит из консенсус патрум , насколько он смог его охватить. Феноменологией в его случае обладает только то, что обладает высшим (абсолютным) качеством — Бог, спасение. То есть современный феноменализм ему несвойственен. Работа владыки Михаила отличается рациональным подходом, но лишена чистой отвлеченности. Осторожное отношение владыки Михаила к «перекосам» современной ему эмигрантской богословской мысли — литургическому и, в частности, «евхаристическому» богословию, акцентированию экклезиологических проблем — и предпочтение традиционной систематизации богословского знания в большей степени говорит о его предпочтениях, нежели о незнании им западной богословской мысли, за которой следил, рассказывая студентам, например, о взглядах Ганса Кюнга и своей реакции на его труды.
Владыка Михаил не боялся субъективизма, о чем характерно свидетельствует концовка его магистерской диссертации, однако свои субъективные способности и особенности он обязательно соотносил с Истиной Христовой, проводя между собой и постмодернизмом непроходимую черту36. Он исходил из того, что человек имеет право на субъективизм только тогда, когда он исходит из объективной Божественной Правды37.
Любопытна метаморфоза, произошедшая в течение развития богословской мысли в отношении темы спасения. Если в классической богословской мысли сотериоло-гический аспект был неотъемлемой частью богословской системы38, то в богословии модерна и постмодерна сотериология может и не присутствовать39. Иногда эта тема присутствует «подспудно». В богословских трудах можно встретить много терминов, которыми сегодня пытаются объяснить спасение, — «искупление», «примирение», «оправдание» или вообще отсутствие терминов. Зато в сотериологических главах может быть ни разу не использовано самое евангельское и богословское, чаще всего используемое в богослужебных текстах слово «спасение»40, в то время как в православной традиции понятие спасения одно из базовых41. Это слово не только не встречается в постмодернистской парадигме, но и о самом спасении, как таковом, служащем поводом к тому, чтобы вообще поверить в Бога, практически ничего не говорится42. В этой связи нельзя не упомянуть специальной статьи прот. Иоанна Мейендорфа о спасении. Ее особенность — историографическая ретроспекция, причем, упомянув дореволюционную традицию, автор акцент сделал на эмигрантском этапе, сведя проблему к истории христологических споров43.
Классическая мысль движется не путем игры словами, введения или упразднения терминов, а путем четкого формулирования их значения, установления правил работы мысли, а затем уже, пользуясь терминами с раскрытым их значением, создают полотно цельной богословской мысли44. Уже самой постановкой вопроса о спасении архиепископ Михаил противопоставил себя постмодернистской традиции в целом. В ныне подзабытом, однако исключительно емком сборнике «О вере и нравственности по учению Православной Церкви» отдельная глава озаглавлена «Наше спасение во Христе». Авторами параграфов стали архиеп. Михаил, прот. А. Ранне, прот. В. Мустафин, прот. В. Стойков и проф. К. Е. Скурат45. Рассмотрение ими сотериологической проблемы можно назвать многоаспектным. Здесь не упущено ничего из того, на чем делает акцент постмодернистская мысль, однако более выигрышным выглядит логически стройное изложение в книге отечественных богословов. В параграфе «Святоотеческое учение о спасении», написанном К. Е. Скуратом, подробно освящен как спектр источников, так и терминологическое значение понятия «спасение»46, делающее ненужными постмодернистские смысловые конструкции, в которых проблема иногда ставится там, где ее нет. Впрочем, в этой книге есть иная странность — тема воскресения Христа вынесена за рамки вопросов сотериологии, и в тексте соответствующих параграфов ему придано в большей степени историческое значение.
В классической богословской модели сотериологии отводилось ключевое значение в догматической системе. Так, весь второй том двухтомного «Догматического богословия» митрополита Макария (Булгакова) фактически был посвящен сотериологии, включавшем в себя такие разделы, как (частично) Промысл, христология, искупление, екклезиология и сакраментология и эсхатология47. Однако постепенно, по мере движения к нашему времени, количество тем, относящихся к сотериологии, стало сокращаться. Из пяти томов «Опыта православного догматического богословия» еп. Сильвестра (Малеванского) один полный том посвящен вопросам, отнесенным к теме сотериоло-гии, но из общего перечня сотериологических тем уже выпала эсхатология48. В «Православном догматическом богословии» прот. Н. Малиновского глава «О Боге Освятителе», в которой излагается экклезиология и сакраментология, уже потеряла сотериологиче-ский элемент49. Дальнейшее сокращение сотериологической составляющей выше уже была показана. Таким образом, прямым следствием применения парадигм модерна и постмодерна в отношении богословских проблем стало сокращение сотериологии как темы рассмотрения догматики вплоть до исчезновения самого термина «спасение» из богословского лексикона, чему противостояло написание архиепископом Михаилом большого количества работ на сотериологическую тематику.
Подводя итог, отметим, что постмодерн как мировоззренческая система противоположен христианской картине мира50. Архиепископ Михаил (Мудьюгин) как богослов и как человек был непримирим к философии постмодерна. В его трудах — книгах, статьях, заметках — нет ничего, что могло бы быть квалифицировано как элемент постмодернистской картины мира. Однако многие живут в ней и пытаются примирить свои христианские взгляды с новым мировоззрением. В этом случае бытие человека в Церкви может пониматься экзистенциально, а для определения места Церкви в фасеточном мировосприятии человека приходится создавать «сакраментальную или евхаристическую ипостась», еще более дробя «нешвенный хитон православного богословия» на термины, понятия, явления, экзистенции и проч.
Богословская мысль, естественно, противится вторжению постмодерна в свое пространство, хотя и не всегда успешно. Выпускники духовных школ, бывших центрами богословской науки в советское время, получают (по крайней мере, на некоторое время) «прививку от постмодерна», а квалификационные работы 1990-х и в основном 2000-х гг. были лишены характеристик, которые могли бы квалифицировать их как работы, созданные в новой мыслительной парадигме51.
Впрочем, в отнесении богословского метода к той или иной философско-культурной парадигме, будь то классика, модерн или постмодерн, нет навешивания ярлыков или вынесения оценки «хорошо» или «неудовлетворительно». Эта характеристика констатирует особенности богословского языка и созвучность эпохе. Русские богословы-эмигранты были созвучны эпохе и той среде, в которой жили и работали. Богословы советской России также были созвучны своей среде. Сегодня эта эпоха ушла, и вместе с ней уходит интерес и тяга к классическому типу культуры.
Сегодня труды архиепископа Михаила не особенно популярны52. Его статьи не переиздаются, а недавно изданная магистерская диссертация не пользуется особым спросом покупателей, хотя ценители тонкой, логически последовательной мысли отмечают изысканность ее форм. Надо думать, что не последнюю роль в этом играет смена эпохи, изменение парадигм мышления, как форм, так и содержания, хотя труды архиепископа Михаила смело можно отнести к классическому наследию русского богословия и ставить в один ряд с наиболее выдающимися богословами прошлого.